Разделы:
|
Все сообщения пользователя: Aborigen
Всего сообщений: 3623
Страницы: <<
< 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 >
>>
Обсуждение:
Дикий ночлег
1642. 11.06.2010 21:03
@adventurer
А набросать можно тех же еловых веток, они и мягче, и ароматнее! Правильно, главное, творчески подходить к ночевке   
|
Обсуждение:
Хочу стать рыбаком.
1643. 11.06.2010 16:05
@Nord
В июне трогаем на первый.Если будет время и желание, забрось Почитаем   
|
Обсуждение:
По речке таежной
1644. 11.06.2010 15:29
@Nord
Вот, парни ролик сделали. Первый - на пробу. Дальше лучше будут.Очень слабый, ИМХО, ресурс
Медленно грузится
Дай ссылки еще на другие ваши "мувики"  
|
Обсуждение:
Дальнобойщик
1645. 11.06.2010 14:59
Водитель vs ГАИ: снижаем штраф без конфликтаhttp://finance.bigmir.net/useful_articles/auto/126831/
Требуйте назвать причину остановки и ищите свидетелей, советует Сегодня.
Общение с инспектором на дороге практически во всех случаях начинается со взмаха жезлом и указания места Повышенная активность сотрудников ГАИ на фоне высоких штрафов в последнее время вызывает жесткое противодействие со стороны водителей. Если еще пару лет назад автолюбители плохо знали свои права и зачастую слепо выполняли все указания гаишников, то сегодня автомобилисты осознали, что любая ошибка обойдется в немалую сумму - от 85 до нескольких тысяч гривен. Теперь они начали активно изучать законодательство и оспаривать админпостановления по нарушению ПДД. Однако у повышения гражданской активности есть и обратная сторона медали - начитавшись сообщений на интернет-форумах, отдельные водители решили, что можно нарушать и, пользуясь лазейками в законодательстве, уходить от ответственности. Но, следуя советам бывалых, автомобилисты нередко без повода конфликтуют с инспекторами, что часто приводит к усугублению ситуации. Например, представитель власти всегда может дополнительно наказать излишне строптивого водителя, вынося решение о наложении максимального наказания - за превышение скорости выписать штраф не 255, а 340 грн. Кроме того, некоторые действия водителя могу расцениваться инспектором ГАИ как неповиновение требованиям сотрудника милиции, за что автомобилиста могут и вовсе задержать, а автомобиль отправить на штрафплощадку. Мы собрали ряд универсальных рекомендаций по общению гаишниками, которые помогут и защитить свои права, и предотвратить конфликты. Остановка по требованию Общение с инспектором на дороге практически во всех случаях начинается со взмаха жезлом и указания места, где водитель должен остановить свой автомобиль. За невыполнение этого требования предусмотрено наказание по ст. 122-2 КУАП - штраф от 153 до 187 грн. либо лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев. Однако существует ряд тонкостей, которые можно использовать в качестве аргумента против такого наказания. Во-первых, водитель должен остановиться там, где ему укажет инспектор, однако в строгом соответствии с ПДД. То есть только в крайнем правом ряду либо на обочине, но только если это действие не создает аварийной ситуации для других участников дорожного движения. Приведем пример из практики: водитель движется по 6- или 8-полосной дороге в крайней левой полосе на высокой скорости, а инспектор скомандовал остановиться. Такие действия, как резкий удар по тормозам и маневр вправо, создадут проблемы для автомобилей, которые движутся сзади и по соседним полосам, поэтому скорость нужно снижать плавно, а маневрировать очень осторожно. Ничего страшного в том, что вы остановитесь за 150-300 метров от инспектора, нет - он обязан в этом случае пройтись пешком либо подъехать к месту остановки на своем транспортном средстве. Аналогично стоит поступать и в том случае, если инспектор дает команду остановиться в неположенном месте, например, на мосту или сразу за закрытым поворотом - водитель просто обязан протянуться дальше, чтобы не нарушить ПДД и не создавать аварийной ситуации. Также добавим, что гаишники, согласно инструкции МВД №1111 от 2009 года, должны стоять так, чтобы их можно было увидеть заранее, а ночью место дислокации должно быть освещено. Если сотрудники ГАИ инструкцию нарушают, например, инспектор резко выскочил из-за кустов ночью и взмахнул палочкой поздно, это также может быть уважительной причиной, по которой вы не смогли выполнить требования ПДД. Документы для инспектора Остановившись по требованию сотрудника милиции, водитель имеет права не выходить из машины, а ждать, пока сотрудник ГАИ не подойдет к нему сам. По требованию гаишника, водитель обязан выйти из авто только в случае если у инспектора есть достаточные основания предполагать, что тот находится в нетрезвом состоянии (несвязная речь, нечеткий взгляд, запах алкоголя изо рта, нездоровый цвет лица). Отметим, что вы имеете полное право знать причину, по которой вас остановили, потребовать у инспектора показать удостоверение сотрудника милиции и переписать данные из него и номер нагрудного жетона. Сотрудник же ГАИ не имеет права останавливать просто так: основанием может быть нарушение ПДД, оперативно-розыскные мероприятия (инспектор должен сказать, какие именно, например, похожая машина в угоне) либо видимая невооруженным глазом техническая неисправность (например, негорящие фары ночью или проблемы с номерным знаком). В соответствии с требованиями пункта 2.1 ПДД водитель должен иметь при себе права с талоном к ним, техпаспорт и полис (сертификат) "автогражданки"). Если владелец автомобиля не вы, то дополнительно нужна нотариально заверенная доверенность. Однако можно обойтись и без нее, в случае если есть договор аренды автомобиля. В случае если автомобиль принадлежит юридическому лицу, необходима доверенность, заверенная печатью фирмы, либо путевой лист с печатью и штампом врача о предрейсовом медосмотре. В правом нижнем углу лобового стекла обязательно должен быть закреплен талон техосморта - за его отсутствие предусмотрен штраф в размере 170-255 грн. Отдельно стоит рассказать о полисе обязательного страхования гражданской ответственности. В ПДД этот документ находится в перечне обязательных, однако в ЗУ "О дорожном движении" сказано, что требовать его инспектор ГАИ имеет право лишь в случаях, предусмотренных законодательством. По словам замглавы Департамента ГАИ Сергея Будника, такими основаниями может быть лишь техосмотр, регистрация авто, а также полис нужно предъявить в случае ДТП. для оформления материалов дела. Во-всех же других случаях, требование показать полис является незаконным, однако иметь при себе вы его обязаны. Напомним, что отмечены факты, когда за отсутствие страховки гаишники забирали авто на штрафплощадку - теперь такие действия признали незаконными. Гаишник вытравил водителя газом На интернет-сервисе YouTube выложена видеозапись конфликтного общения сотрудника ГАИ Севастополя с нарушившим скоростной режим водителем красного "Шевроле Авео". Водитель написал в комментариях под видео, что его остановил инспектор, обвинил в превышении скорости и потребовал документы: водительское удостоверение, талон, техпаспорт и страховой полис. Автолюбитель с обвинениями не согласился, из машины не вышел и сквозь приоткрытое стекло заявил, что предоставит документы только после того, как увидит заполненную шапку протокола с номером ТС и видеозапись нарушения. После долгих переговоров инспектор остановил двух свидетелей, попросил еще раз передать документы и после очередного отказа достал баллон и распылил слезоточивый газ сквозь боковое стекло. Естественно, что атаку "Тереном 4-М" организм автомобилиста не выдержал - пришлось выйти. Автомобиль задержали и отправили на штрафплощадку, а на водителя составили админпротокол. Естественно, чтобы вернуть машину, ему пришлось заплатить штраф, услуги эвакуатора и потерять несколько дней. В данной ситуации действия инспекторов были абсолютно оправданны. Водитель, во-первых, не выполнил законные требования сотрудника милиции, во-вторых, за рулем мог представлять повышенную опасность. В-третьих, у инспектора не было возможности убедиться в том, что автомобилем управляют законно (за рулем мог оказаться угонщик). По словам опрошенных нами столичных юристов, этот водитель отделался легким испугом - сотрудники ГАИ имели право прострелить колеса, разбить стекла и, вытащив водителя, доставить его в ближайшее отделение милиции. А в случае сопротивления еще и завести уголовное дело. Как себя вести, если произошла авария Увы, от дорожных аварий не застрахован даже самый дисциплинированный водитель. Однако после того, как ДТП произошло, водитель находится в состоянии шока и часто совершает ошибки во время оформления аварии, которые потом приводят либо к большому штрафу, либо к лишению прав. Первые минуты. Выйдя из автомобиля, первым делом убедитесь в том, что во втором автомобиле не пострадали люди - в этом случае срочно нужно оказать первую помощь, вызывать "скорую", а если это невозможно, зафиксировать положение автомобилей на бумаге и везти пострадавшего в больницу. Во всех случаях не помешают показания свидетелей - попросите таковыми быть прохожих, других водителей, причем, если они не могут ждать приезда ГАИ, стоит хотя бы взять их контакты. В крайнем случае, свидетельские показания могут дать пассажиры вашего авто, однако суд относится к их показаниям критически. Приезд ГАИ. Если вы чувствуете, что ваши показания могут сыграть против вас либо сотрудник ГАИ на вас давит, требуйте переноса рассмотрения дела на основе ст. 268 КУАП, согласно которой вы имеете право на юрпомощь, сбор и предоставление доказательств. Показания вы можете дать через несколько дней, воспользовавшись помощью адвоката. Однако во время оформления ДТП проверьте схему и укажите на ней все детали, которые могут иметь значение. Если сотрудник ГАИ что-либо не внес, водитель имеет право написать замечания прямо на схеме. Так, обязательно необходимо зафиксировать тормозной путь либо причину, по которой он не виден: следы смыл дождь либо авто оснащено АБС (она исключает юз, следовательно, следов тормозного пути быть не может). Медобследование. Если инспектор предлагает поехать к врачу для установления вашей трезвости, не отказывайтесь - эти доказательства нужны для суда. Но необходимо настаивать на том, чтобы такую процедуру прошли все участники ДТП. Судебное разбирательство. Отметим, что протокол ГАИ, составленный сотрудниками ГАИ на месте происшествия - приговор не окончательный. На суде можно представить доказательства, например, улики или показания свидетелей, которые докажут вашу невиновность. Другое дело, когда ваша вина очевидна. В этом случае нужно искать смягчающие обстоятельства. Суд принимает во внимание и положительную характеристику личности водителя (например, с работы), и отсутствие других нарушений в течении года, и раскаяние водителя, и добровольное возмещение ущерба. В ходе заседания сразу просите о том, чтобы судья ограничился штрафом. И напротив, когда все говорит против водителя, но он отрицает вину, не предоставив доказательств в свою пользу, его могут лишить прав или назначить общественные работы. Нетрезвые обвинения Обвинения в нетрезвом вождении является одним из самых серьезных - за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 2550-3400 грн. либо лишение прав сроком от 1 до 2 лет, либо 40-50 часов общественных работ, а в отдельных случаях за пьянку могут арестовать на 7-10 суток. Отметим, что в скором времени начинается сезон поминальных дней, а выпить символические 50 г на могиле предков у нас считается чуть ли не обязанностью - часто водителей ловят на выезде с кладбища. Защититься от обвинений вполне реально, однако нужно знать несколько основных нюансов. Во-первых, тот факт, что вы немного выпили, еще не является преступлением. Запрещено лишь управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а это - превышение содержания алкоголя в крови больше, чем на 0,2 промилле (до 80 грамм для человека, весом около 90 кг). Во-вторых, письменное признание того, что вы хоть немного пили, является доказательством вины - делать нельзя ни в коем случае. Зато от предложения дыхнуть в "трубочку" (прибор "контроль трезвости") можно отказаться - его применение запрещено законодательством, а новые электронные приборы еще не закуплены. А вот против поездки к врачу для контроля отказываться нельзя - равносильно признанию.Тем более, что у врача каких-либо приборов тоже нет и состояние водителя он определяет на глаз как правило, на незначительный запах внимания не обращают, если у водителя не нарушена координация движения. Техосмотр на дороге Претензии к техническому состоянию автотранспортного средства сотрудниками ГАИ могут предъявляться лишь в том случае, если неисправность видна невооруженным глазом - согласно ст. 121 КУАП, за такое нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 340-425 грн. Однако в ПДД есть перечь неисправностей, при которых водитель имеет право ехать к месту стоянки и ремонта на небольшой скорости, например, если не горят лампочки, не работают дворники, то есть штрафовать за такое инспектор не должен. Если же подобные претензии предъявляют, укажите в протоколе на то, что у инспектора при себе нет приборов, которые могут проверить исправность. Например, инспекторы для проверки ручного тормоза часто просят заехать на небольшой подъем и отпустить педаль тормоза - мол, если ручник неисправен, авто покатится. Но с такого рода тестами можно не соглашаться: нет доказательств, что этот подъем имеет уклон именно 16 градусов, как тэто указано в ПДД. Отдельная тема - переоборудование авто для работы на газу, если водитель не успел поменять техпаспорт. Инспектор часто угрожают отобрать техталон и выписать штраф за то, что в техпаспорте не написана фраза "установлено ГБО" (газобаллонное оборудование). Однако ни в одном законодательном акте не прописано, что водитель именно обязан производить замену техпаспорта в этом случае, а доказательством законности переоборудования являются документы с лицензированной СТО, которая производила работы: протокол испытаний ГБО, акт о переоборудовании. В каких случаях разрешена эвакуация Законодательство разрешает инспекторам ГАИ временно задержать транспортное средство путем блокировки колес или с помощью эвакуатора только в том случае, если он существенно препятствует дорожному движению либо у него обнаружены технические неиправности, при которых его эксплуатация запрещена (например, неиправность тормозов, рулевого управления, течь топлива), либо водитель не может управлять автомобилем по состоянию здоровья. А вот за неправильную парковку, если она не мешает движению других автомобилей, забирать "железного коня" права никто не имеет. Интересно, что если в момент погрузки автомобиля автовладелец появился, забирать машину не имеют права - могут лишь составить протокол. Согласно ст. 265-2 КУАП, "автомобиль может быть временно задержан на срок до решения дела об административном правонарушении, но не более чем на 3 дня с момента такого задержания. По окончании трехдневного срока автомобиль должен быть возвращен владельцу независимо от стадии решения дела об административном нарушении". Интересно, что в постановлениях Кабмина указано, что вернуть авто должны бесплатно, правда, это требование игнорируют, прикрываясь фразой о том, что водитель платит не за возврат авто, а за услуги по его эвакуации. Добавим, что часто водителя пытаются заставить доставить авто на штрафплощадку самостоятельно за мелкие нарушения, например, отсутствие страховки. Делать это вы не обязаны, как и отдавать ключи от машины - инспектор имеет право лишь вызвать эвакуатор. Как в 4 шага оспорить штраф ГАИ Если вас пытаются оштрафовать несправедливо, либо наказание, по вашему мнению, неадекватно нарушению, воспользуйтесь следующим алгоритмом. 1. Переносите рассмотрение дела Достаньте чистый лист бумаги и напишите на имя инспектора, который вас остановил, ходатайство о переносе дела. В нем обоснуйте свою позицию тем, что в ст. 268 КоАП сказано о праве лица, привлекаемого к админответственности на юрпомощь, сбор и предоставление доказательств. А согласно ст. 33 КоАП, при выборе наказания за админнарушение должна учитываться личность правонарушителя, его финансовое положение. То есть, вам нужно время, чтобы взять характеристику личности с работы и проконсультироваться с юристом. 2. Указывайте замечания в протоколе В соответствующей графе протокола об админнарушении водитель имеет право подать свои объяснения по сути нарушения. Здесь нужно написать все аргументы в связи с несогласием по поводу штрафа. Обязательно следует указать свидетелей, в том числе и пассажиров своего автомобиля, которые могут подтвердить невиновность. Также проследите, чтобы в незаполненных графах протокола стояли прочерки (можно в виде буквы Z) - во избежание дописок. Обязательно напишите в пояснении, что свою вину не признаете и согласно ст. 268 КоАП Украины просите отложить рассмотрение дела. В течение 3-х месяцев вас обязаны вызвать повесткой в ГАИ для разбирательства. 3. Проверьте протокол и постановление Обратите внимание на графы для свидетелей - прямо в них напишите, что свидетели отсутствуют. Кроме того, не ставьте своей подписи в пункте, где сказано, что вам сообщили о всех ваших правах. Сотрудник ГАИ обязан выдать на месте копию протокола, а если на месте выносится постановление об административном правонарушении - копию постановления. Не выдали документы? Это является грубым нарушением со стороны инспектора - сообщите о нем на горячую линию (телефон указан на борту патрульной машины). 4. Жалуйтесь начальнику ГАИ либо в суд Вы имеете право в течение 10 дней обратиться с жалобой к начальнику подразделения инспектора, который вынес протокол либо в районный суд по месту вынесения постановления либо месту жительства. Отметим, что если вы не уложились в этот срок, то сроки для обжалования можно восстановить, предоставив доказательства уважительной причины, например, больничный лист. В жалобе следует указать все аргументы относительно "неправоты" гаишника, подкрепив их ссылками на ПДД или другие законодательные акты (лучше попросить подготовить документы профессионала-юриста), также следует обязательно подтвердить свое мнение доказательствами - показаниями свидетелей, фото- и видеоматериалами. Автор: Владислав Бовсуновский Источник: Сегодня http://finance.bigmir.net/useful_articles/auto/126831/    
|
Обсуждение:
ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ МАЛО
1646. 10.06.2010 19:38
Глава 37Летала птичка необычная: темная, с синеватым отливом крыльев. Летала плавно, как бабочка. Огибала кусты, налитые солнцем, изливающие нежную прозелень. Подлетала к смоляным стволам, повисала в воздухе, неслышно взмахивала округлыми крылышками, наискось падала в терпкую траву, но тут же вспархивала и вновь повисала, словно раздумывая, куда лететь. Бежал босоногий мальчишка. Бежал за необычной птичкой. Тянул мальчишка руки, ловил необычную птичку. Но птичка уходила из рук, как струя воздуха. Бежал мальчишка за птичкой, бежал, бежал. Ловил. А та вилась у глаз, у губ. Никак не поймать. Потом она запела, Голосом Ланьгук запела: Это птенчик, это птенчик крыльями затрепетал. Мальчишка коснулся руками. Но птичка опять бестелесно выпорхнула. И опять поплыла, как бабочка. Над кустами, напоенными солнцем. Между огненными стволами лиственниц. И опять доносится песня Ланьгук: Упадет на землю птенчик, крылья сложит и неслышно затаится между кочек. Будет ждать покорно птенчик, как над ним сомкнутся когти и от крыльев, и от крыльев Не надо, птичка, так не пой. Зачем тебе эта песня? Летает птичка. Молчит птичка. Больше не поет она песню Ланьгук. Но мальчишка останавливается лишь на миг и снова бежит за птичкой. Все тело налито болью. Сбросить бы ее, освободиться. Ыкилак медленно просыпается. Медленно просыпается. Просыпается, слышит боль во всем теле. Откуда она и почему? Потом голоса, негромкие, приглушенные. То и дело доносится лай собак. Где он? А птичка? А мальчишка, который бежал за птичкой? Почему так холодно? Ведь были солнце, трава Холодно. Ыкилак наконец понимает: не было никакой птички! Не было солнца и трав, и мальчишки не было! Он с трудом садится. Оглядывается. Лидяйна нет. Ыкилака охватывает стыд. Ему, зятю, надобно показать усердие, чтобы люди видели: Ыкилак настоящий мужчина, уж он-то не будет ходить по стойбищу и занимать в долг дрова, чтобы его жена и дети не окоченели, не будут его дети ходить по соседям, смотреть на сытых людей глазами голодных воронят. Авонги, конечно, ушли туда, где народ, где их ждут дела. Не разбудили его. Зачем же? Пожалели? Но ведь он устал не больше их. А потом -- что за сон приснился? Долго гадать некогда -- надо быстрей к людям. Накинул доху, выскочил из то-рафа. Его встретили солнце и белый-белый снег. Но снег вдруг стал черным. Ыкилак долго жмурится, ждет, когда глаза привыкнут к слепящему свету. Люди сновали по стойбищу, каждый занятый своим делом. Одни несли из лесу охапки черемухи. Другие утаптывали снег -- готовили место для игрищ. Третьи тащили сухие бревна к то-рафу старейшего. У тропы, ведущей к месту для игрищ, сидят отец и Наукун. Они собрали священные черемуховые стружки в венчики с длинным извивающимся языком. Стволы елок освободили от коры, и они отдавали белизной, будто это не древесина, а обнаженное белое тело. Потом елки превратятся в стражей-посланников, будут сопровождать душу медведя к Курнгу -- всевышнему, передадут ему просьбы людей. А просьб у них много: чтобы зима принесла удачную охоту, чтобы в роду никто не болел и не умер, чтобы в стойбище раздавалось больше детских голосов Самую высокую ель приставили к то-рафу старейшего. Вознесенная к небу вершина дерева и шелестящие языки нау с окрашенными брусничным соком кончиками оповестили мир: торжества начались! Люди древнего рода Авопгов приглашают всех, кого застал сегодняшний день в пути, всех, кто пришел в стойбище гостем, всех, кто вызвался помочь Авонгам в хлопотах, -- всех, всех, всех! Женщины в ярких нарядных халатах чинно стоят с палками в руках. Нос у деревянного медведя полит брусничным соком -- так задобрили его душу. Место игрищ утоптано, отделено четырьмя елками. На устремленных к небу ветвях гремят священные стружки. А женщины возле тятида. И снова первая -- мать Ыкилака. И снова с самого края стоит Ланьгук. Она неуверенно поднимает палки и не всегда удачно вступает в игру. Что с нею? И почему отец мрачен? Да и Наукун отводит глаза в сторону. Подвешенное на ремнях бревно раскачивается, как лодка на волнах. Густой гул перебивается четкой дробью и нарастает, как гром у скалистого берега во время шторма. И глядите, глядите! Кто это белой рыбой выплывает из толпы? Да это же Музлук. Хорошо одеты женщины рода Авонгов: белый халат из выделанной кожи тайменя с ярким орнаментом. Древний рисунок его радует глаз цветом ясного голубого неба и алой зари, полыхающей над сопками. Красивы женщины рода Авонгов. Стройная, с гибким станом, с горящими щеками и кроткими глазами, Музлук привлекает к себе все взгляды. Толстые длинные косы двумя ручьями стекают с маленькой аккуратной головы и падают на спину, как в раннее весеннее полнолуние ложатся черные тени берез на серебристый снег. Ноги в расшитых узором нерпичьих торбазах неслышно переступают, будто уносят ее вслед убегающим вдаль волнам. Талгук незаметно отставила палки, постояла, словно раздумывая, и решилась! Скользящими шажками очутилась рядом с танцующей Музлук. Как она танцует! Не было в ней гибкости, которой отличалась женщина рода Авонгов. Вскинутые полусогнутые руки, в меру порывистые движения придавали танцу Талгук строгость и сдержанность. Каждому движению корпуса вторила сложная игра рук. Наукун и Ыкилак привыкли видеть свою мать всегда за работой: очаг и домашние заботы не отпускали от зари до зари. Глаза всегда привязаны к чему-нибудь, неба не видят над собой. А тут Касказик на какое-то время забылся, глядя на жену. Струя дыма над обугленным чревом трубки вот-вот оборвется. Он спохватился, спешно зачмокал, втягивая воздух, в котором поначалу едва улавливался запах и вкус табака. А жена все танцевала и танцевала. Даже музыканты зачарованно смотрели на женщину рода Кевонгов. Касказик ударом о подошву выбил пепел, сдвинул лисью шапку набок, ожесточенно почесал голову и сказал только: -- Хе Глава 38 Появление Ыкилака вернуло отца к реальности. Он взглянул на сына растерянно. -- Сейчас я тоже -- поспешно начал Ыкилак, но Касказик прервал: -- Сперва зайди в родовой то-раф. Отец сердитый: брови хмуро сведены, губы в ниточку, побелели по краям. Ыкилак непонимающе застыл в полушаге. Касказик повелительно мотнул головой. Недоумевая, Ыкилак прошел к крайнему то-рафу и увидел шесть оленьих упряжек -- по два крупных ездовых на нарту. Сзади привязаны еще по два оленя. Нарты длинные, с плетеными спинками. Уже разгружены. Судя по нартам и красивым лахтачьим хомутам, нетрудно определить -- знатные люди прибыли. Зачем пожаловали? Наверно, услышали о празднике медведя. Быстро же разбежался слух по тайге. У входа в то-раф Ыкилак стал сбивать снег с торбазов, прокашлялся -- пусть знают, что к ним идут, потянул витой ремень. Дверь неслышно отошла. Пригнулся -- иначе головой заденешь поперечную жердину. В нос ударил запах вареного мяса. Ыкилак только теперь почувствовал голод. Он проспал утреннюю еду. Теперь, однако, уже перевалило время полуденной трапезы. Хозяева и гости восседали за столиком, смачно чавкали и нарочито громко разговаривали. Увидев вошедшего, они замолчали. Но Ыкилак заметил: Хиркун недостаточно быстро, как полагалось хозяину, приветствовал его. Вроде бы даже смутился За столом еще двое. Одежда из материи. Только на ногах оленьи торбаза да дохи брошены на лежанку, из оленьего и собачьего меха. Что за люди? Гости разглядывали вошедшего и молча двигали челюстями. Хиркун, наконец, привстал и неуверенно, на полусогнутых ногах подошел к нему. Ыкилак подумал: "У меня тоже все болит, едва шевелюсь". С трудом, словно язык одеревенел, Хиркун сказал: -- Пей чай с нами. Значит, гости и хозяин уже приложились к арак [Слово "арак", которым нивхи называют водку (вино), произошло от тюрко-монгольского "арака".] -- к воде с таинственной силой. Ыкилаку и раньше приходилось пробовать эту жидкость. Обычно он макал палец и облизывал. Не потому, что не нравился ему арак. В Ке- во редко его видели. -- Кто это? -- спросил молодой человек с круглым красивым лицом и быстрыми глазами. -- Это младший Кевонг, -- ответил Хиркун. -- Хы! -- вскинулся человек. Сидящие почему-то замялись. Но другой гость уважительно сказал: -- Храбрый юноша! Я ем твою добычу. Ты удачлив, и эта добыча обещает тебе удачу на многие годы. "Кто он -- шаман, что ли? Если шаман, почему у него вид обыкновенного человека? Да и косы нет. Если не шаман, то как он узнал обо мне на многие годы вперед?" -- мучается в догадках Ыкилак. А тот продолжал: -- Я ем твою добычу. Мои друзья едят твою добычу. Слушай меня, человек рода Кевонгов. Ты храбр и удачлив. Нивхи всегда почитали таких людей. И мы приносим тебе наше почтение. Прими его вместе с этой веселящей водой, -- и протянул фарфоровую чашку, наполненную прозрачной бесцветной жидкостью. Ыкилак взял чашку. Он никогда не пил столько арак. Говорят, когда ее выпьешь, в тебя вселяются неземные силы и ты говоришь с самими духами. Ыкилак пил медленно, надеясь уловить тот момент, когда арак начнет действовать. Пил и ощущал невыносимую горечь и жжение. Но даже не поморщился, не подал виду. Только задохнулся было, но, задержав дыхание, усилием подавил неловкость в горле и при этом даже не оторвал чашку от губ. Где он видел этого человека? Гость разлил водку, осмотрелся вокруг, словно боясь обойти кого-нибудь. Взял фарфоровую бело-голубую чашечку, которая в его большой руке вдруг стала крохотной, подчеркнуто почтительно подал Музлук, возившейся у очага. В глазах Ыкилака заплясали языки пламени. Потом вспыхнул огонь. И дом, рубленный по-русски, выстрелил мириадами искр и рухнул, испепеленный. Ньолгун Ньолгун "Откуда и зачем? К нам в Ке-во редко когда кто приедет. А здесь только явились мы -- глядь и другие тут как тут, -- тоскливо билось в отяжелевшей голове. -- А-во ближе к людям, здесь чаще бывают гости", -- как-то безысходно-примирительно додумывал свою несложную думу захмелевший Ыкилак. Касказик нервничал. Он настругал стружек достаточно. А родовой то-раф молчит -- что дальше? Женщины давно справились со своими делами и теперь отдыхали от тятида и танцев. И те, кто пришел на торжество ради любопытства и с надеждой, что с обильного стола и им кое-что перепадет, стали расходиться. Что-то уж очень долго тянут они там в то-рафе. Люди прибыли, конечно, почтенные -- вон какие ладные упряжки, да и нарты нагружены. Видно, богатый товар. Но ведь главное -- медвежьи торжества. А тут весь род закрылся в то-рафе. Авонги словно ума лишились. Нет, гости эти, конечно, явились неспроста. Вот уже и сумерки пали на стойбище. Касказик оперся руками о снег -- пальцы обожгло, они мигом взмокли. "Горячие -- хорошо поработали", -- как-то со стороны подумал о своих руках старейший Кевонг и выпрямил спину. Поясница глухо застонала. Касказик медленно, нерешительно направился к родовому то-рафу. Не хотелось лезть на глаза богатым, да и встревать в чужие дела не принято. Когда он увидел, как обрадовались Авонги оленьим упряжкам, у него в груди будто что-то оборвалось: этих людей здесь ждали! Касказик покашлял перед дверью, какое-то время подержал в руке залосненный узелок дверного ремня и тихонько потянул на себя. В лицо ударили острые запахи съестного, пьяный гам. Его не сразу заметили. Увлеченные застольной беседой, хозяева и гости словно соревновались между собой, у кого горло покрепче и слов побольше. Ыкилак сидел с краю, забытый остальными. Голова упала на грудь. "Напоили", -- огорчился Касказик. И тут его заметили. Музлук спохватилась: -- Проходите, -- сказала она мягко. Эмрайн, до этой минуты энергично жестикулировавший, замолк, взглянул исподлобья. В животе нещадно сосало: старейший Кевонг с утра не положил в рот ни крохи. Голова закружилась быстро -- с одной маленькой чашечки. И Касказик теперь налегал на еду: сперва на строганину из поздней тощей кеты, а потом на вареную оленину. Наскоро утолив голод, он повернулся к сыну, громко, со злостью сказал: -- Много дел! А он сидит здесь, арак пьет. Не время! Хозяева круто обернулись. Всем сидящим в то-рафе ясно: старейший ругал не сына, а хозяев. Ругал за непочтение к великой удаче его сына. И то, что он повысил голос, восприняли как вызов. "Горд этот старик!" -- Ньолгун почтительно оглядел седую аккуратно заплетенную голову, морщинистое сухое лицо. Чочуна рассматривал Касказика с любопытством. Он, конечно, не запомнил его: прошлогодняя встреча в Нгакс-во была короткой, да и нивхи тогда казались ему все на одно лицо. Касказик же, едва глаза привыкли к полумраку, с удивлением узнал якута. Ньолгуна Касказик припомнил сразу. И раньше случалось такое: на медвежьих торжествах откуда-то брались и китайцы, и якуты, и русские -- удивляться нечему. Но ведь Ньолгун не просто приехал поглазеть. И Авонгов поит так обильно не зря. Что дальше будет? -- Много дела, а ты сидишь! -- уже мягче повторил Касказик. Вокруг наступила тишина. И жевать перестали. Лишь Музлук, согнувшись у очага, пыталась что-то делать. -- Нгафкка, что произошло? -- это старейший Кевонг обращался к старейшему Авонгу. Еще какой-то миг длилась тишина. Эмрайн сидел на черной собачьей шкуре, тяжело уронив голову на грудь, и медленно раскачивался вперед-назад. И люди даже не удивились, когда услышали глухое, горестное пение:
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Курнг всемогущий меня не жалеет -- долгою жизнью меня наказал. Сколько распадков, хребтов исходил я -- нет, не погиб же Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Духи недобрые, где же вы ходите: топкие мари, болота, озера -- где только ноги меня не носили! Нет бы подохнуть Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Лучше бы небо сразило стрелою, лучше бы воды меня поглотили. лучше бы звери меня разорвали, лучше бы черви меня обглодали. Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Честный и добрый Кевонгов старейшин, совести жалкой мучитель моей. Руки крепки твои, гнев непреклонен -- бей, позабыв, что тебе я ахмалк! Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы! Бей, ненавидя меня, как собаку. Бей, как воришку, до смерти презрев: я потерял человека обличье. Бей меня, бей! Если можешь -- убей! И вдруг -- гром, крик, звон, вой: Кланг-кланг! Бум-бум! Кланг-кланг! Кланг-кланг! Бум-бум! Кланг-кланг! В уши остро ударил звон полых металлических побрякушек -- рогов. Беспрерывный угнетающий звяк-бряк перекрывался оглушительным ревом бубна. "Когда только он успел надеть свое снаряжение?" -- подумал Ыкилак, раздражаясь и наливаясь злостью. Кутан, до последнего мига сидевший незаметно в углу, словно взорвался. С грохотом прыгнул на середину то-рафа и, черный и страшный на фоне пылающего очага, извивался и подпрыгивал в дьявольском танце. Кланг-кланг! -- изогнулся, как червь. Кланг-кланг! -- прогнулся, как лук. Бум-бум! -- бубен вознесся над косматой головой! Клапг-бум! Кланг-бум! Кланг-бум! -- Кутан подпрыгивал и бил в бубен. -- Ха-а-а-й! Ха-а-а-й -- орал он, будто испугался чего-то страшного. -- Ха-а-ай! Ха-а-ай! Бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум-бум! Кланг-кланг-бум! Кланг-кланг-бум! Злые духи всегда могут проникнуть в то-раф. Незаметные, невидимые, они прячутся в темных углах и ждут только случая. Шаман прогонял их из то-рафа, чтооы не мешали связаться с духами предков -- те должны посоветовать, как дальше быть. Бум-бум! Бум-бум! Кланг! Колокола, звякнув, замолчали. Шаман пристально посмотрел поверх головы Ыкилака, прыгнул в сторону двери, закричал: -- Фыйть! Фыйть! Загрохотал бубном, зазвякал колоколами-побрякушками. Метнулся к очагу, победно замахал руками и тихо, равномерно стал бить по бубну мягкой, обернутой в тряпку колотушкой. Кутан очистил то-раф от духов -- теперь не причинят ему зла. Притихшая в углу Музлук облегченно вздохнула -- в то-рафе теперь нет злых духов, и Кутан будет говорить с духами предков, хранителями правильных мыслей и всего доброго! "Куда сейчас повернет? -- Касказик напряженно ждал. -- Пусть шаману будет хорошо. Пусть встретится со всеми, кто нам желает добра. Пусть никто не помешает шаману в его пути". А Кутан уже поднимался над всем живущим. Гром и грохот сопровождали его победное вознесение. А потом только судорожные подергивания, обессиленно-вялые взмахи рук, частое, с посвистом дыхание говорили людям о том, каких трудов стоит это ему. Ыкилак подался плечом вперед. Юноше хотелось помочь шаману в его многотрудном пути. Но тот словно обмер, вытянулся в жердину, каким-то бессмысленным взглядом уставился в угол. -- Что это? -- побрякушки звякнули тревожно. -- Кто это? -- бубен забил тревогу. -- Кто ты? Кто ты? -- заорал Кутан и стал прыжками, словно медведь, нападать на невидимого противника. Кланг-кланг! Бум! Кланг-кланг! Бум! Музлук встревожилась: кто встретился на пути шамана? Кевонги встревожились: кого еще принесло? Все шло хорошо, а тут ненужная встреча. "Шаману встретился шаман", -- решил всезнающий Касказик. Теперь не миновать битвы шаманов. И действительно, Кутан прокричал: -- Талгин! Талгин! Чирнг Тыг'о [Самое сильное нивхское оскорбление, после которого любом хоть мало-мальски уважающий себя человек должен принять вызов.]. Кутан прыгал, кривоного приседая и колотя в бубен. Шаман дерзко нападал, а Ыкилак напряг память, чтобы вспомнить, кто был человек, носивший имя Талгин. Юноша не раз слышал это имя. И произносили его обычно со смехом, издеваясь. Да это же их шаман, родовой шаман Кевонгов, ушедший в Млы-во, когда Ыкилак едва стал помнить себя! Талгин прославился тем, что его предсказания редко сбывались. Когда он умер, в стойбищах еще некоторое время рассказывали-пересказывали один случай: Талгин, молодой, начинающий шаман, поссорился с добычливым охотником. Обиженный в ссоре, Талгин решил самым жестоким образом отомстить за себя. Лето и осень ждал, когда охотник уйдет в тайгу. И, дождавшись, начинающий шаман всю ночь камлал, довел себя до изнеможения, даже упал без сознания -- так ему хотелось наказать высокомерного, как он считал, человека, сделать так, чтобы под ногами у того провалился лед, а ловушки его оказались пустыми. О таком страшном камлании и узнали жители стойбища и начали было побаиваться недоброго шамана и с тревогой в сердце ждать вестей из тайги. Но в один из солнечных дней в конце охотничьего сезона люди с изумлением увидели -- охотник, правда, усталый очень, но невредимый и с туго набитой котомкой за плечами, вышел из тайги. Он не понял тревожных, вопрошающих взглядов своих сородичей. "Ты не провалился под лед?" -- спросили его односельчане. "Нет", -- ответил охотник. "И соболей наловил?" -- "Наловил", -- ответил охотник. "И даже не болел?" -- опять его спросили. "Нет, не болел", -- ответил охотник, недоуменно оглядывая односельчан, так странно принявших его возвращение. С той поры среди нивхов мало кто верил Талгину, и только очень бедные приглашали его покамлать -- за пару-три кетовых юколины. Бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум! Кутан вытянул шею, наклонил голову, прислушался. Но, видно, Талгин не согласен с Кутаном: загрохотал бубен, и колокола ожесточенно зазвякали -- даже в зубах заломило у Ыкилака. Кутан, конечно же, сказал: надо помочь людям, ведь с женитьбой Кевонгов вон как складывается. Трудно, ой как трудно сейчас Кутану -- люди ждут от него правильных слов. А Талгин, дурак Талгин, видно, не только не советует, как поступить, а, наоборот, мешает Кутану в его трудном пути к правде. -- Этот негодник зачем попался на пути?! Возмущенные слова исходили от Касказика. Уж он-то знал своего усопшего шамана. Касказик и при жизни его не считал нужным скрывать своего непочтения. Терпеть не мог болтунов, хвастунов, завистников и просто злых людей. Когда Талгин ушел в тот мир, Касказик облегченно вздохнул: в этом мире стало чище. -- Бей его! Бей, собаку! -- потребовал Касказик. А Кутан вихрем пронесся над молчаливо сидящими людьми -- видно, Талгин перешел в нападение. Кутан закрылся бубном и в длинном прыжке нанес сильный удар. Ликующий крик и победный грохот бубна означали, что Кутан взял верх. -- Ыйть, с-собака! Ыйть, хотел нам зла! -- Касказик всячески подчеркивал свое презрение к Талгину. Старейший Кевонг открыто льстил Кутану, живому, умному шаману, добиваясь его благосклонности. Касказик знал: так, однако, не бывает, чтобы шаман встал на сторону чужого рода. Но безысходность вынуждала. И Касказик шел на все, даже делал вид, что не понимает, куда клонит шаман. Ыкилак не мог знать всего, что происходило в душе у отца, но видел, как странно тот вел себя. Никогда таким не был. Сердце защемило, горлу стало больно, словно что-то твердое и острое застряло в нем. "Несчастные мы, несчастные. Уж лучше бы нам уйти отсюда. Или умереть", -- Ыкилак едва сдерживал слезы. Но тут, уже в темноте (костер угас и в томскуты светили звезды), замолкли колокола и бубен затих, и лишь шелест и тяжкое дыхание говорили о том, что камлание продолжается -- шаман ушел от поверженного Талгина, который, конечно же, хотел людям зла -- иначе зачем Кутану сердиться? Кутан один парил на миром, нашептывал что-то. Он звал тэхнг -- духа-помощника, духа-советчика. Но вот и ветер затих. И шепот в полной тишине. -- Кыньган! Кыньган! -- звал охрипший, утомленный Кутан. Такого имени Ыкилак не слышал. Совсем отрезвевший, младший Кевонг вопросительно посмотрел на отца. В другом случае Касказик бы не удостоил ответом этого несчастного несмышленыша, который вроде бы потерял невесту. Кыньган -- отец самого Эмрайна, умер ань семьдесят назад. Что он скажет своему сыну? Наверно, то, чего желает сын. Хитрит Эмрайн. Хочет уйти от обычаев предков, вон сколько водки выпил с Ньолгуном. И подарки, видно, принял. Но как он пойдет на нарушение обычаев? Тогда убить его -- все равно что собаку никчемную убить -- Как быть? Как быть? -- вопрошал Кутан. В то-рафе наступила тишина. Что же сказал дух усопшего, который оставил право быть мудрым и всесильным своему сыну. Кутан тихо, умиротворенно ударил в бубен. Побрякушки звякнули легко, словно переговариваясь с бубном. И люди поняли: добрые слова сказал Кыньган, правильные. "Великий и мудрый Кыньган, ты ушел от нас, унес с собой хорошие мысли. Верни их, пусть они сегодня придут к Эмрайну, передай их через Кутана, нашего шамана", -- просила про себя Музлук, уверенная, что теперь уж никто не перейдет обычаи предков и девушка достанется настоящему зятю. "Какой я негодный человек -- так плохо подумал об усопшем. Его дух не простит мне такое, и если где неудача меня найдет -- сам буду и виноват: нельзя так плохо думать об усопших, -- казнил себя Касказик и решил: -- Старею, потому и озлобился". Музлук осторожно подправила, казалось бы, давно угасший очаг. Огонь занялся, выхватив из темноты сосредоточенные лица. А Кутан, вконец измученный трудной дорогой к духу мудрого предка Авонгов, хранителя хороших мыслей, упал на четвереньки и тут же повалился на бок, неловко подвернув одну руку и закинув за голову другую. Эмрайн подскочил, приподнял его голову, влил в рот чашечку водки. Тот даже не поперхнулся. Эмрайн нашел оленью шапку шамана, положил под его голову. -- Он великий шаман, -- сказал Ньолгун негромко, но чтобы все слышали. -- Пусть уйдет в себя: ему нужно главные слова передать нам, -- сказал Эмрайн. "Собаки вы, собаки. Обманщики. Воры и обманщики -- таких не видали нивхи!" -- Касказик еще не знал, какие слова скажет Кутан, но уже чувствовал: его обманули. Обманули самым бессовестным образом. Возмущение, обида, злость закипали в нем. Что делать? Что делать? И, увидев вопрошающий взгляд сына, всегда старательного, доброго и любимого сына, Касказик резко ударил пятерней по чистым, честным юношеским глазам. Глава 39 Какой-то жалкий человечек, худой, нечесаный, в истлевшей оленьей дошке, пытался приблизиться к Касказику. Этот человечек весь подался вперед, трудно переступал кривыми ногами, а руками делал движения, будто плыл против течения. Его словно держали на невидимой привязи, он не приближался ни на шаг. Странно: ведь солнце -- и ни малейшего ветерка, а человек не может продвинуться ни на шаг. Кто это? Что ему нужно? Касказика взяло любопытство, он пошел навстречу. И был немало удивлен -- это Талгин, давно усопший человек из рода Кевонгов, плохой шаман. "Ты пошел ко мне -- хорошо сделал. Пусть память мою ты не чтишь и плохие слова про меня говоришь -- не сержусь я. Ты и я -- люди одного рода. И я тебе помогу. Прерви священные обряды -- Пал-Ызнг покарает Авонгов. Медведь не наш. Пал-Ызнг показал Авонгам берлогу, и медведь их. Ты же знаешь обычаи: кто нашел берлогу, тот и будет хранить череп медведя, тот будет говорить с Пал-Ызнгом. Прерви обряды -- ответят Авонги" Касказик проснулся раньше всех -- было еще темно. Очаг еле тлел, его ночью слабо поддерживали -- хозяева пьяные. Касказик положил на сизые, подернутые пеплом угли толстые лиственничные сучья. Старику стало полегче, будто и не было тревожных и мучительных переживаний. Теперь он знал, как поступить. Спасибо тебе, Талгин. Спасибо. Касказик, победно, ухмыляясь, вонзил ненавидящие глаза в спящего Эмрайна, который трудно сопел во мраке на дальней от двери наре. Шамана, лежавшего на земляном полу в прежней позе, даже не удостоил взглядом Еще у берлоги Хиркун и Лидяйн аккуратно вырезали уйхлаф -- священные места: толстое сало со спины между лопатками, сало с пахов и передней части груди. Уйхлав нужно жарить на отдельном огне, так же как и другие священные места: голову, язык, грудину, печень, горло, три верхних ребра, сердце, крупные мышцы и сухожилия лап -- в них сила медведя. Касказик хорошо знает законы. Ахмалки потом разрежут уйхлаф на мелкие куски особым священным ножом. И в последний день праздника, в день усаживания почетных гостей, подадут в красивых деревянных чашах эти священные куски почетным людям -- ымхи. Только после этого можно будет приступить к самому главному обряду -- проводам души медведя к Пал-Ызнгу, великому богу гор и тайги. Медвежий праздник -- самый главный, самый святой праздник нивхов. И ни один человек не посмеет нарушить обряд. Иначе Пал-Ызнг ниспошлет на отступников голод и болезни, направит на них своих слуг -- медведей, сделает так, что человеку откажут ноги и руки, изменит глаз и он будет разорван зверем. Никто не посмеет преступить вековые обычаи. Но Касказик преступит! У него нет выбора. Авонги сами нарушили не менее святой обычай -- хотят сосватанную дочь отдать другому. Касказик прервет обряды и этим вызовет смертельный гнев Пал-Ызнга. Но гнев падет не на род Кевонгов -- Кевонги только исполнили волю своих тестей, взяли тело медведя. Гнев падет на настоящих виновников -- на род Авопгов, ведь им показал берлогу великий, всемогущий Пал-Ызнг. Пал-Ызнг проучит их. И этот неслыханный случай превратится в предание, и его будут передавать из уст в уста, из поколения в поколение -- в назидание всем людям, чтобы никто не посмел пускать в свое сердце подлый обман. О-тец во-рон! О-тец во-рон! Созывали нарядно одетые женщины заспавшихся жителей стойбища и гостей на место игрищ. Кленовые и черемуховые палки выбили гулкую дробь. И этот гул, нарастая, бежал по стойбищу накатом осеннего прибоя. Собаки, уютно переспавшие в снегу, как-то тоскливо заскулили. Елочки кивали своими необрубленными верхушками в такт ударам: да, сегодня праздник, второй день медвежьего праздника. Будет пир! Большой пир! Все наедятся досыта! Идите люди! Идите! Все наедятся досыта! Женщины знали свое дело. Ночь не спали, скоблили до бела моченую кожу гоя [Гой -- сахалинская разновидность лососевых, похожая на тайменя. Достигает 50 кг весом.], освободив ее сперва от провяленного мяса и чешуи. Целую охапку начистили, до полуночи варили в котлах. Потом разлили горячую студенистую массу по большим корытам, засыпали мороженой брусникой и вареными клубнями сараны, залили топленым нерпичьим жиром и вынесли в коридор остудить. Немного моса дадут собакам, которые пойдут с грузом гостинцев провожать душу медведя к богу Пал-Ызнгу -- хозяину гор и тайги, немного моса оставят на родовом священном месте жертвоприношений, а все остальное должны съесть гости. Хозяева же только по кусочку в рот положат. А потом гости съедят мясо. А мяса много -- большой медведь стал добычей удачливого и счастливого Ыкилака, младшего Кевонга. О-тец во-рон! О-тец во-рон! Женщины знали свое дело. Женщины делали свое дело. Люди неторопливо потянулись к месту игрищ -- недалеко от родового то-рафа. Первые стали утаптывать снег, пришедшие позднее тоже включились в эту нетрудную работу. Утоптали гости снег -- подготовили место. Сегодня узнают люди, кто среди них самый сильный, кто самый ловкий, кто самый меткий. Расселись люди вокруг большого костра -- наступило время утренней еды. Талгук обошла всех гостей, положила перед каждым по толстой, в четыре пальца, плитке моса А родовой то-раф молчал. Там ждали слова шамана. И Касказик сказал. Он не спешил. Авонгам ничего не останется, как поступить по обычаю: ни один разумный человек не сделает так, чтобы навлечь гнев Пал-Ызнга на свой род. Пусть скажет Кутан -- вечером он говорил с духом мудрого предка. Пусть скажет. А если начнет крутить, как лиса, учуявшая глубоко под снегом мышь, тогда поведет разговор старейший Кевонг. Многочисленные зеваки, всегда готовые наброситься на дармовую пищу, шумно трапезничали, когда из родового то-рафа вышли сперва Хиркун, затем Ньолгун и Чочуна. После них вышли и остальные -- размять ноги. Хиркун прошел к местечку, огороженному со всех сторон положенными в ряд жердями, -- священному кострищу, и люди поняли -- ему не до них, ему надо заняться уйхлаф. Якут и Ньолгун улыбались. Ньолгун называл якуту селения, откуда тот или иной человек родом: -- Этот из Пото-во. Эти, -- показал на плохо одетых стариков, -- из Чир-во. Соболиные у них места, богатые. Мехов пропасть! А сидят холодные и оборванные -- Тимоше туда не добраться: здесь олени нужны. Он обходит людей, продолжая называть имена родов и стойбища. Чочуна познакомился со зваными и незваными гостями и просил Ньолгуна передать: пусть жители всех нивхских стойбищ знают: Чочуна пришел на их землю с добрым сердцем, хочет помочь нивхам в их трудной жизни. Сейчас не те времена, что при дедах-прадедах. Есть еще нивхи, на которых одежда из рыбьей кожи. Одежда из сукна теплее, удобнее, дольше носится. Нивхи еще ловят соболей силками. Железные ловушки уловистее, надежнее. Многие охотятся еще с помощью луков и копий -- ружье лучше, добычливее и вернее. Во многих стойбищах не хватает котлов, железной посуды, иголок, топоров, пил, ножей, сеток. Тимоша за халат требует сорок -- сорок пять соболей. Это очень дорого! Таежные нивхи! Речные нивхи! Вам не нужно будет ехать за товарами к жадным купцам-обманщикам. Чочуна сам привезет нужные товары. На оленях привезет. Не спешите отдавать соболей и лисиц русским и маньчжурским купцам-грабителям. Только Чочуна, добрый друг нивхов, даст за ваших соболей настоящую цену. Те, кто привез с собой шкуры, сами могут убедиться, якут честный, как нивх, добрый, как нивх. Подходите к нам, подходите! Сперва выпейте по глотку веселящей воды. Подходите и те, у кого ничего нет, Чочуна щедрый человек, Чочуна добрый человек -- угостит всех! Касказик чувствовал, как голову его охватил жар. Он спрашивал вполголоса: -- Что вы делаете, люди? Что вы делаете -- святой медвежий праздник превратили в торги! Наливали всем -- и старикам, и юношам, и мужчинам, и женщинам. Ходили кружки по кругу, опустошались и снова наполнялись. Пейте, друзья нивхи! Якут угощает всех: и тех, кто пришел со шкурами, и тех, кого обошла удача. Пейте и закусывайте. Потом друг нивхов покажет свои товары. Ньолгун был занят, когда его позвали. Шаман говорил. А слова были такие. Он долго советовался со своим тэхнгом [Тэхнг -- дух-советчик.] и вот как порешили. Духи жалеют обоих -- и Ыкилака, и Ньолгуна: оба они из слабых, вымирающих родов. И пусть будет по-справедливому, пусть сами решат между собой. Тэхнг сказал: "Пусть с помощью зар-тяр [Зар-тяр -- фехтовальные палки.] решат". Ньолгун окинул всех вокруг победным взором. Глаза его остановились на Ыкилаке, который сидел рядом с отцом, словно хотел укрыться за его спиной. -- Нет! Нет! -- крикнул Касказик. -- Мой сын устал и рукой двинуть не может, а вы хотите, чтобы он бился. Нет, так не будет! Эмрайн спокойно ответил: -- Ты ведь сам был на камлании. И своими ушами слышал слова шамана. -- Мой сын выдержал ваше испытание! Выдержал! И мы с тобой, Эмрайн, совершили священный обряд чныр-юпт. Слышишь ты меня, Эмрайн? Но Касказика никто не слушал. А сон? А совет Талгина? Ведь еще миг назад он считал себя сильным, потому что знал: никто, даже самый что ни на есть негодяй не нарушит святая святых -- обряд проводов души медведя. Так было при отце Касказика и при отце Эмрайна, так было при деде Касказика и деде Эмрайна. Так было с того дня, когда на земле появился первый нивх! А они что делают? Ведь Авонги -- древний нивхский род. Что с ними происходит? Злые духи вселились в них. Злые духи отняли у них человеческую душу. Иначе никак нельзя объяснить их поступки. Старейший рода Эмрайн и шаман Кутан -- они хотят отнять жену у Кевонгов. На какое-то время в голове мелькнула мысль послать старшего сына в верховья Тыми в селение Выск-во в род Высквонгов -- за помощью. Высквонги откликнутся -- они ведь зятья Кевонгов. Ведь Иньгит, дочь Касказика, принесла Высквонгам много детей Стоит только позвать -- примчатся. С копьями и луками примчатся, а может, и с ружьями. Но тогда будет кровь. Опять будет кровь!.. Глава 40 Те, кто находился за пределами родового то-рафа, не могли знать всего, что произошло там. Но уже пошли разговоры о том, что дела-то вот как складываются. Кевонги выполнили все, чего требовали хозяева, и удача сопутствовала им. К тому же ранее был совершен священный обряд чныр-юпт. И сомнений не должно быть -- Ланьгук принадлежит Кевонгам. Но Эмрайн повел себя очень нехорошо, нечестно. Люди понимали, что Эмрайна купили. Ланьгук внешне безучастно относилась к тому, какие дела решаются в родовом то-рафе. Не ее забота. Ыкилак сделал все, чтобы она перешла в их стойбище. Мать говорила: обычай никогда не нарушался. И теперь еще Ыкилак доказал всему миру, что в его груди сердце храбреца. Отец и братья, однако, потому так долго сидят в священном то-рафе, что им нужно мягко и вежливо отказать человеку из Нгакс-во. Кевонги дали хороший выкуп. Если Ньолгун потребует вернуть подарки, можно отдать часть выкупа. Так, однако, и сделает отец Под бе-ре-зой, под бе-ре-зой, рябчик мо-ло-дой то сожмется в ком, то снова виден над тра-вой Ланьгук увидела, как из родового то-рафа вышел Ньолгун. Он нес в руках хорошо оструганную фехтовальную палку. Ланьгук часто видела игру -- фехтование на палках. Особенно любил эту игру Лидяйн. Он не упускал случая вызвать на соревнование своих сверстников из соседних стойбищ, когда те приезжали к ним в гости или когда сам оказывался в их селении. В крупных стойбищах все юноши умело пользуются фехтовальными палками. Везде любят эту игру, игру ловких. Ланьгук подумала, что игры на медвежьем празднике начались. Но что это? С такой же палкой появился Ыкилак, вслед за ним почтенные старики. И почему-то они суровы, даже мрачны. Ньолгун вышел к утоптанному месту для игрищ. Затем отпустил пояс, чтобы одежда не стесняла движений, расставил ноги, поднял палку двумя руками на уровень бровей -- требует нападения. Ыкилак встал напротив, взмахнул коротко. Он держался скованно. Нет, он не боялся битвы. Он не хотел этой игры после того, как ему удалось пройти главное испытание -- одолеть громадного, могучего медведя. К тому же и руки и ноги вышли из повиновения. Да, Касказик ждал чего угодно, но не такого поворота. Не ожидал старейший Кевонг, что проиграет так крупно Нет, он еще не проиграл. Еще есть надежда Сын должен нанести удар. Один удар по голове этого человека из Нгакс-во, потомка тех могущественных людей, в кровавой битве с которыми много лет назад Кевонги выиграли право продлить жизнь своего древнего рода Зеваки окружили соперников. Одни кричали просто так -- забавы ради, другие пытались подзадорить. Ыкилак собрался с силами, ударил. Палка его переломилась. "Дали треснутую", -- похолодело в груди. Ланьгук позже других поняла, что идет не игра -- идет битва! Битва за нее. Она швырнула черемуховую палку, припустилась было бежать, но увязла в снегу. Слабая надежда заставила ее повернуть к шумящей, орущей толпе. Но, оказалось, подошла она, чтобы увидеть, как от удара Ньолгуна ее жених зашатался, ухватился за разбитый, расщепленный конец палки, покачался какое-то время и упал. Над притихшим стойбищем взлетел пронзительный крик, и люди увидели, как Ланьгук вбежала в то-раф, выскочила с новыми мужскими торбазами в руках, пронеслась к нартовой дороге Кевонгов и помчалась по ней что есть силы. -- Ха-ха-ха-ха-ха! Лидяйн смеялся и дурашливо указывал пальцем вслед сестре: -- Вот безмоглая-то! Далеко не убежишь! Он быстро и привычно набрал кругами лахтачий ремень, бросил на нарту, запряг собак. Ньолгун поступил, как требовал обычай: перевязал голову поверженному сопернику. Люди расходились. И лишь Касказик, растрепанный и жалкий, сидел на истолченном множеством ног снегу, вскидывал руки и спрашивал: -- Что же произошло, люди! Что случилось в этом мире? Что случилось, лю-ю-ю-ди?   
|
Обсуждение:
ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ МАЛО
1647. 10.06.2010 19:34
Глава 33Пусть докажет На ровной белизне снега кое-где торчали стебли пожухлой травы. Слабый низовой ветер чуть пошевеливал ими, и те подзенькивали еле слышно. Марь переходила в неширокий распадок, где зябко теснились бурые оголенные кусты. Было видно, как распадок, сужаясь, врезался в крутобокую темнохвойную сопку. По насту идти до распадка -- две трубки выкурить. А сейчас снег рыхлый. В начале зимы он всегда рыхлый. Ноги утопают, как в лебяжьем пуху. Снег еще не слежался, ветер не сбил его и мороз не успел схватить. Другое дело -- мартовский наст. Особенно утром, когда мороз еще не отступил. Иди себе, приплясывай, только сухой хруст, словно снежные брызги из-под торбазов. Ыкилак умел ходить. Все свои семнадцать зим и восемнадцать лет он прожил в тайге. Ходил по ней и в лютый мороз месяца Орла, и в душные дни Горбушевого месяца [Месяц Орла -- январь, Горбушевый месяц -- июнь.]. Ходил и в дождь проливной, когда не найдешь спасения даже под густой елью, и в снег, когда валит он сплошняком и не видишь рукавицы на вытянутой руке. Ыкилак знал тайгу. И давно понял -- ничего нет мучительнее, чем брести по ней в начале зимы, когда снег еще еле-еле прикрыл колдобины и кочки. Нельзя ни пешком -- ноги побьешь в кровь, ни на лыжах -- сломаешь о неровности, невидные под предательски мягким снегом. Будь его воля, Ыкилак не стал бы терзать себя. Но ничего не поделаешь -- так пожелали ахмалки. А сами идут сзади. Им легче. Идти по следу всегда легче. Надо высоко поднимать ногу, чтобы не пахать ею снег. Но так далеко не уйдешь -- выбьешься из сил. Тогда юноша решил идти по кочкам. Они угадывались в пожухлой высокой траве. Если ступить на траву, точно угодишь на кочку. Ыкилак нацелился на траву, торчащую редким пучком, уверенно опустил ногу. Прыгнул на следующий пучок -- ступня не попала в середину кочки, соскользнула. Нога заныла. Ыкилак не подал виду, сжал зубы и пошел дальше, высоко вскидывая ногу, занося ее стороной. Сзади крикнули: -- Хочешь, чтоб без ног остались? Это Лидяйн. Ыкилак делает вид, что не слышит. Лидяйн самый что ни на есть дрянной человек. Никогда не сделает другому хорошо. Попадаются же такие! И теперь, растянувшись на кочке, Лидяйн поносит его. Ыкилак не отвечает. Он сосредоточен на одном: поскорее бы одолеть эту гиблую марь. Жесткие брюки из кетовой кожи отсырели на сгибе. Колени холодит. Третьим идет Хиркун. Как подобает уважающему себя зрелому человеку, не выказывает недовольства ни тем, что Ыкилак избрал не самый легкий путь, ни тем, что движутся они медленно. Лидяйн смачно чмокает, глотая слюну, горькую от просмоленного изжеванного чубука. Трубка давно потухла, табаку в ней ни крохи. Но Лидяйн и не думает заряжать трубку: табак надо беречь. И обсасывает горький чубук, и ощупывает под оленьей дошкой мешочек листового маньчжурского табака. Мешочек почти полный, и от этого на душе хорошо. У Ыкилака защемило под ложечкой, свело челюсти. Нестерпимо хочется курить. Но кисет пуст. Скупые ахмалки так и не насыпали ему перед дорогой. Отправить в дорогу и не дать табаку -- все равно что уставшего с дороги гостя оставить без чаю. Так люди не поступают. И еще не дали лук. Теперь одно спасенье -- копье. Если бы ахмалки были добрые, они не послали бы его в сопки в такое время. Не стали бы испытывать в рискованном деле. Нет, Ыкилак не боится. А вдруг? Как они все старались -- Ыкилак, Наукун, отец. Две зимы ловили соболей, собирали выкуп. Голодали, холодали, а копили. Правда, Наукун припрятывал часть добычи. Последнее время старший брат ходит злой. Еще бы -- остаться без жены -- какая тут радость! Ыкилаку жалко его, но что поделаешь! -- Э! Опять Лидяйн. Что за человек -- идет по тайге и орет? В тайге не кричат -- вполголоса разговаривают. Тайга -- дом зверей и дом духов. Тут можно докричаться -- Э! Ты что, оглох! Ну, что ему сказать? Если бы не Ланьгук, трахнул бы по его собачьим ноздрям. Ей-ей, дал бы. -- Свернуть пора, -- спокойный голос. Это Хиркун. Оказывается, уже прошли марь. Ыкилак остановился. Тяжело дышит, вытирает со лба испарину. Хиркун кивком головы показывает, куда идти, и сам выходит вперед. Ыкилак не однажды встречался с медведями -- в лесу ли во время сбора ягоды, на речках ли в дни рунного хода горбуши. Тайга одна, речки одни -- не разминуться. "Медведь совсем как человек, только на четырех ногах ходит да доху не снимает", -- говорит отец. В тот день Касказик рыбачил, а Талгук и ее дети рвали бруснику в редколесье на склоне сопки. Ыкилак, увлекшись, свернул в сторону. Из кедрового стланика выскочил пушистенький медвежонок. Ыкилак подскочил к зверенышу, наклонился, чтобы погладить. Тот ощерил зубки, царапнул острым коготком руку. Мальчик обиделся, надул губы, отошел. Надо к матери. Медвежонок с верещаньем помчался следом. Был он смешной -- круглый и подпрыгивал кособоко. И тут появилась медведица, большая, как гора. Беспокойно озираясь, пошла на Ыкилака. Даже не остановилась -- ткнула в лицо холодным шершавым носом, грубо толкнула твердым, как камень, плечом. Ыкилак заплакал. Прибежала Талгук. Медведица уходила, уводя детеныша. Талгук пыталась что-то сказать, но только мычание издала -- скулы тряслись. Схватила сына, что есть силы помчалась в стойбище. Оставила сына в окружении нартовых собак, тотчас же умчалась обратно. Увидела: дочь, напевая, полными горстями сгребала ягоду. Иньгит так и не узнала о случае в редколесье. Касказик тоже. Потом было много встреч. И чаще Ыкилак уступал дорогу. Тайга большая, богатая -- всем хватит Теперь Ыкилак шел в сопки не для того, чтобы уступить. Не еды ради отправился сын Кевонгов в сопки -- в амбарах припасов много: хорошо потрудились летом и Касказик, и Наукун, и Ыкилак, и Талгук. Волю ахмалков попытается исполнить Ыкилак. Только пусть бог тайги и охоты Пал-Ызнг будет добр. Только пусть хозяин берлоги пожалеет Кевонга -- подождет до его прихода. Берлога теплая, лежи себе, спи Кусты хлещут по лицу, цепляются за штаны, рвут потрепанную оленью дошку. Ыкилак устал. Устали и оба ахмалка. Лидяйн, тот и вовсе кое-как плетется. Ыкилак старается обойти кусты и длинные сучья лиственниц. Заденешь за ветвь -- и на голову рухнет охапка снега. Снег сползает за шиворот, тает. Одежда сыреет и тяжелеет. А тут еще напоролся на острый сук, проткнул дошку. Ыкилак сердится и кроет ахмалков -- про себя -- вслух нельзя: обычай велит почитать всех людей их рода. Лидяйн -- так тот самый что ни на есть дурной человек. Если случайно и сделает что-нибудь доброе, ночами потом спать не будет -- все от злости. Это он сказал, что надо сделать испытание. Отец хорошо речь держал. Старик Эмрайн глубоко ушел в думы. Тут-то и напортил Лидяйн. Может быть, старейший Авонг собирался отдать свою дочь в род Кевонгов? Может, так и случилось бы. Но Лидяйн вылез: -- Этот негодник жену свою будет рыбьей костью кормить -- собаки позавидуют! А если к его то-рафу медведь подойдет? Закроется изнутри и будет сидеть не дыша, пока или медведь не сдохнет, или сам Это неслыханно! Неслыханно! Даже Ланьгук, которой обычай запрещает смотреть на братьев, бросила на Лидяйна сердитый взгляд. Лидяйн требовал испытать молодого ымхи. Принято обходиться выкупом. А если и ворчат ахмалки, то лишь потому, что дочь, по их мнению, стоит больше Но Кевонги привезли хороший выкуп Эмрайн сказал: "Уйти Ланьгук в другой род -- за этим, однако, дело не станет". Почему старейший Авонг высказался неясно? Надо было прямо сказать: в род Кевонгов. Эмрайн кивнул головой: -- Позови. Сказал значительно, таинственно. И кивок головой, плавный и почтительный, был не куда-то в сторону, а в сторону -- вверх. И обратился старейший родов не к Лидяйну, а ко второму по старшинству, Хиркупу. Тот не спеша спустился с нар, накинул на плечи собачью доху, толкнул низкую дверь. Крутые клубы морозного воздуха ворвались, подкатили к очагу и исчезли, как привидения. Эмрайн, не глядя ни на кого, отставил руку со старым, блескучим от грязи кисетом. Музлук будто сторожила его движение -- подскочила, взяла кисет, обнесла гостей. И Касказик, и Ыкилак набили трубки крошеным листовым табаком. Расторопная Музлук выбрала в огне сучок с тлеющим концом, подала гостям. Ыкилак помрачнел. Прислуживать гостям должна невеста: показать старательность, расторопность, жених ведь приехал! А Ланьгук сидит в углу, совсем безучастная. "Эти Авонги что-то, однако, затеяли", -- теряется в догадках Кевонг. Пока Хиркун ходил за шаманом, в то-рафе старейшего не произнесли ни слова ни хозяева, ни гости. Но вот заскрипел снег, дверь бесшумно открылась, в то-раф, словно заиндевелые медведи, ворвались клубы морозного воздуха, и словно на них въехал Кутан -- прямоспинный, средних лет, в оленьей дохе, без шапки, с длинной косой. Глаза настороженные, выжидающие. Прошлой ночью он быстро ушел в свой то-раф и теперь, вызванный старшим братом, мучился в догадках. Эмрайн головой указал ему, куда пройти: на средний понахнг, место почетных гостей. Шаман обошел очаг, сел на лежанку. Хиркун снова примостился около отца. Эмрайн, пи на кого не глядя, протянул руку с кисетом. Опять подскочила Музлук, передала шаману. Тот не спеша набил трубку, прикурил от уголька. Псулк занялась столом: нарезала тут же испеченную юколу. А Музлук принесла большой медный чайник с водой, поставила с краю очага, подвинула к нему крупные пышащие жаром угли. Какое бы дело ни ждало вошедшего, его надо сперва накормить -- таков обычай. Шаман ел жадно, как собака, которую долго держали на привязи и без пищи. Видно, этот одинокий человек редко готовил себе, все надеялся, что позовут. Шаман ел основательно, в сосредоточенном молчании, будто занимался очень важным, ему одному ведомым делом. Выпил чаю четыре большие фарфоровые чашки, купленного еще предками Эмрайна у какого-то маньчжурского торговца. Наконец, круглый, в испарине, отдуваясь, отвалился от стола. Музлук тут же подала кисет. Шаман сытно икнул, нашел на земляном полу ветку, кривым, как у орла, ногтем большого пальца расщепил ее и поковырялся в зубах. Потом прислонился спиной к краю нар, закурил, блаженно жмуря глаза. И только тогда узнал, зачем его собственно пригласили. Эмрайн сказал: -- Тот, кто может говорить с духами, помоги нам. Осенью мой старший сын нашел в глухом распадке теплый, добротно сделанный дом. Однако, не зря хозяин утеплил его. Человек, который общается с духами, что говорят твои духи -- залег ли хозяин в свой теплый дом? Шаман, не знавший, чем обернется для него приглашение старейшего, сразу изменился, облегченно заегозил. Отвечал загадочно: -- О, мудрый и добрый корень почтенного рода! Я знал, что заставило тебя обратиться ко мне, а через меня -- к духам. Завтра, как только заря распахнет свои крылья, придут ко мне мои духи. Я узнаю, что ответить тебе. Шаман медленно поднялся, взял свою шапку, соскреб со стола в подол теплого халата недоеденную юколу и, сопя и кряхтя для важности, направился к выходу. Эмрайн вышел следом -- проводил гостя Хиркун негромко сказал: -- Теперь я поведу. Ыкилак пропустил его вперед. Когда охотники исчезли из виду, Ланьгук вытащила новые нарядные мужские торбаза, щекой приникла к прохладному блестящему меху, взглянула на древний орнамент. И тут ей почудилось: орнамент ожил, обрел то ли человеческий лик, то ли звериный. Ланьгук тихо сказала: "Береги его. Сделай, чтобы удача не ушла от него!" Высокие облака стерли размашистыми крылами блеклое солнце, и оно едва теплилось в туманных прогалинах низенького зимнего неба. Ровный серый свет не струился -- падал. Падал неслышно и медленно, как падают в оттепель хлопья снега. В тайге от этого света сумрачно. Косматые древние лиственницы стояли смиренные и молчаливые. Природа приучала даже этих великанов к покорности. Тишина необычная, давящая. Ни шороха, ни посвиста мимо летящей птицы. Лишь дыхание свое слышишь да неровный гулкий стук сердца. Хиркун обошел заснеженный кустарник, остановился. Долго смотрел на вывороченную бурей громадину-лиственницу. Дерево вытянулось вдоль сопки. Могучие корни разворотили крутой склон ее, обнажили каменистую россыпь. Толстые длинные корни местами раздвинуты, местами отодраны и лежат в стороне. Кто-то могучий повозился здесь. Хиркун кивнул головой. Ыкилак и Лидяйн подошли осторожно -- след в след. Хиркун ничего не подсказал им: таежник должен сам распознать. По каким-то неуловимым признакам Ыкилак угадал под заснеженным выворотнем провал. И еще заметил на выпростанных из-под снега корневищах куржак. Хиркун отвел охотников на такое расстояние, чтобы можно было безбоязненно говорить. Дал Ыкилаку и Лидяйну задачу. Ыкилак должен ударом шеста взломать чело у берлоги и энергичным тычком разбудить Его. Когда Он, возмущенный, разъярится и выскочит -- одновременно его принимают на копье двое -- Ыкилак спереди в грудь, а Лидяйн -- справа в бок. Сам Хиркун стоит сзади -- на всякий случай. Он вмешается лишь тогда, когда убедится, что без его помощи не обойтись. Ыкилак нашел стройную гладкую черемуху, неслышно срезал ее ножом, очистил от ветвей. И, держа шест на весу в правой руке, а копье -- в левой, осторожно, словно ощупывая каждый свой шаг, направился к берлоге. За ним с копьем в руках следовал Лидяйн. Чем ближе берлога, тем чаще и громче стук сердца. Вроде и одежда стесняет движения, мешает дышать свободно. Все ближе и ближе берлога. Медленней и короче шаг. Лоб покрылся испариной. Пот стекает на брови, набухает здесь, расползается, наплывает на глаза, заволакивает их и больно щиплет. Не видать ни берлоги, ни деревьев. Ыкилак нагибает голову, чтобы удобнее было достать и, не выпуская копья, смахивает с глаз капли пота. Вроде бы лучше стало. Вот и чело. Прикрыто снегом. Но снег здесь другой. Крупчатый, ноздреватый. А сквозь снег тихо поднимается кверху пар. Его легко заметить, надо только хорошенько вглядеться. Сейчас Он спит. Он, конечно, знает, что пришли люди. Он хороший и добрый. Он жалеет Ыкилака. Иначе проснулся бы раньше, и люди нашли бы покинутое теплое еще жилище. И ни о какой женитьбе не могло быть и речи. А тут Он спит и позволит Ыкилаку выдержать испытание. Лидяйн зашел справа. Ыкилак заметил в его глазах какой-то странный блеск. "Боится?" Его и самого трясло. Он оглянулся, и убедившись, что все наготове, с силой ударил торцом шеста в чело. Надеялся, что шест легко войдет в глиняную стенку, проскочит внутрь. Но шест наткнулся на корневище и больно отдал в руку. Раздумывать некогда. Ыкилак ударил еще раз -- уже пониже. Конец шеста почти без задержки проскочил в провал и -- это точно ощутил юноша -- уперся во что-то мягкое, живое. "Тебе больно. Не сердись. Я не хотел этого. Мне только разбудить тебя. Не сердись", -- мысленно умолял Ыкилак хозяина берлоги. Но тут шест будто ожил, дернулся, заходил из стороны в сторону. Словно сама сопка с грохотом взорвалась. От неописуемого громкого рева Ыкилак присел, почувствовал, как волосы потянуло вверх, а ноги Ноги дрожали и подгибались. Комья глины и снега мелькали перед глазами, а справа что-то метнулось в сторону. Ыкилак не услышал скрип снега, но понял, что Лидяйн бежал. А Он с ревом уже взвился в смертельном прыжке Отец поучал: удобнее всего принимать медведя, когда он встал перед тобой на дыбы. Резкий выпад навстречу с ударом в открытую грудь А если медведь не встанет на дыбы, а попытается в прыжке достать тебя? Медведь редко так нападает. Охотник не всегда успеет направить копье. И тогда Тогда мужчины всего стойбища преследуют убийцу. Преследуют дни и ночи. Преследуют до тех пор, пока не нагонят его где-нибудь на вершине сопки или в распадке и в гневе великом изрубят на куски, а мясо отдадут мышам на съедение И еще отец поучал: если взвился медведь в прыжке, держи копье покороче, ближе к лезвию, крепче расставь ноги и встречным ударом насади на копье. Все было проделано в миг. Смертельная опасность одних обращает в бегство, других заставляет собраться, Ыкилак как-то удачно поднырнул, выставил копье, и медведь напоролся на острие. Упав на одно колено, Ыкилак сильно и резко дернул копье вверх и назад, медведь перелетел через охотника, уткнулся носом в снег. Не успел поднять голову, как Ыкилак, высоко подпрыгнув, оседлал его, схватил за уши, изо всех сил налег, помогая себе коленями, вдавил голову медведя в снег. Тот вдохнул вместо воздуха рассыпчатый снег, отчаянно и глухо закашлялся, но сильные руки юноши, который уже знал, что он победил, цепко держали. Тут подоспел Хиркун, четким движением набросил путы. Медведь крупно, всем телом, задергался, и люди поняли: это душа покинула его. Хиркун подошел к Ыкилаку, сидевшему на плечах зверя, и, цокая языком, с восхищением смотрел на него. -- Удачлив ты, удачлив! -- а сам пытался набить табаком трубку. Руки его непослушно дрожали, и табак сыпался мимо. Наконец, он затянулся, протянул трубку Ыкилаку. Только сейчас вспомнил о Лидяйне, который растерянно топтался за деревьями. Лидяйн так и не понял, как все произошло. Он видел: перед ним в трех шагах словно вздыбился склон сопки и выстрелил из себя громадного разъяренного зверя. Маленькие злобные красные глаза, саблевидные желтые клыки, пенистая пасть и рык Опомнился Лидяйн лишь тогда, когда взобрался на следующий склон. Как же так? Ведь медведь бросился за ним! Наверно, отстал. Вот как быстро он умеет бегать! Подожду немного. Ему лезть на сопку, а мне сверху удобнее, я и встречу его копьем. Но где же он? Или убежал? А может, Ыкилак убил? Ыкилак-то? Скорее медведь размозжил ему голову. А Хиркун? И его задавил медведь? Или все-таки Лидяйн заставил себя вернуться к берлоге. Хиркун и Ыкилак сидели на валежине, молча курили трубку, передавая ее друг другу. У их ног лежал медведь. Лидяйн от стыда не знал, куда деваться. -- Иди сюда, -- окликнул его Хиркун. "Лучше бы уж ударили. Или обозвали последними словами", -- с тоской думал Лидяйн. Глава 34 Медведя обдирали в три ножа. Лидяйн с молчаливым упорством возился с задней ногой, чтобы усердием хоть как-то загладить свой позор. Разняли медведя на несколько крупных частей. Лохматую голову украсили нау -- священными черемуховыми стружками и вознесли на сооруженный на скорую руку настил. Потом каждый занялся своим делом: Хиркуну, как главному, поручили изготовить крошни -- плетеные сумки для переноски груза. Лидяйн, второе по важности лицо, ставил навес из еловых лап -- для ночлега. Ыкилак, ымхи, собирал дрова. Густой сумрак окутал мир, и тайга теперь чернела сплошной плоской стеной с неровным верхним краем. Лишь несколько ближних деревьев выпирали, словно вырезанные из темного русского сукна и приклеенные к черному фону, на котором уже пробились крупные мерцающие звезды. Перед ужином каждый взял в руки табак, куски юколы и обратился к берлоге, а через нее -- к духам, хозяевам этих мест и к Пал-Ызнгу. Благодарим за удачу. Пал-Ызнг очень добр. Это он повелел медведю взвиться кверху, чтобы Ыкилаку сподручнее было достать копьем сердце. Потом у костра с аппетитом уплетали сочную грудину и, отдуваясь, долго пили чай, заправленный чагой. Чага быстро возвращает утомленному силы. Поэтому таежники любят этот отвар березового нароста. Ыкилак еще до сумерек срубил две сухие лиственницы. Потом топором растеребил их, чтобы пламени легче было схватить древесину, и рядом с потухающим костром ближе к навесу ожила нодья -- долгий таежный огонь. Всю ночь ровно и неторопливо нодья будет давать тепло. Охотники вытащили головешки, на горячую золу настелили еловый лапник -- вот и готова постель. Нагретые ветви обмякли, остро отдавали смолой. Голова Ыкилака налилась тяжестью от густого смолистого воздуха. Хотелось прилечь, но какая же нивхская ночь обойдется без тылгуров -- старинных преданий и легенд? Кто-то из троих должен начать. Ыкилак сказал: -- Люди из рода Авонгов хранят древние тылгуры. Как деревьев в тайге с каждым летом становится больше, так и время дарит Авонгам новые тылгуры Ваш ымхи подарил бы свой тылгур, но он лишен дара рассказывать. После такой речи кому-то из ахмалков придется поделиться своим тылгуром. -- Хонь! -- попросил Ыкилак. Наступило молчание. Слышно лишь, как потрескивает нодья. Лидяйн злобствовал: "Волей случая добился удачи и теперь требует, чтобы ласкали его слух". Хиркун, не отрывавшийся от трубки, отсосал последние струи дыма, выколотил пепел о подошву, вновь заправил и уставился в костер. Потом тряхнул головой, положил руки на колени и без всякого вступления хрипловато начал: -- В большом стойбище, без отца, без родственников, с одной матерью, жил юноша. Он тяжко жил. Вместе с соседями ездил на рыбалку, за весла сажали. Много рыбы поймают -- ему только одну-две рыбки дадут. Соседи много нарежут юколы, так много, что уже негде хранить. А у юноши ни одной юколы На сопке глухо прокричал филин. Ночью звуки короткие. И слабое эхо ушло в ночную тишину, как стрела в мох. Хиркун посасывал трубку, замолкая перед затяжкой, и можно было подумать, что короткого мига ему хватает, чтобы обдумать слова, которых ждут. -- Юноша-сирота пошел вместе с соседями в тайгу. Сами они охотятся, а сироте велят рубить дрова, за костром смотреть, чай кипятить. И кормят, как никудышную собаку: кусок прелой юколы кинут, чая глоток оставят. Плохо жилось юноше в стойбище, а в тайге пошла совсем не жизнь. И когда сирота уже не знал, как дальше быть, встретилась ему добрая дочь Тайхнада -- бога тайги и охоты. Пожалела она бедного юношу, дала ему две петли-ловушки. В эти петли попадались самые редкие, неслыханно дорогие звери. Поймал он не много зверей -- когда звери очень дорогие, много и не надо. Поехал юноша в большой город, на торги поехал. Привели его к самому богатому человеку. Увидел богач шкурки -- подпрыгнул до потолка. Сказал: за самую дорогую отдам все, что попросишь. А у богача -- красивая дочь. Вот юноша и сказал: "Мы, добытчики, как и вы, торговцы, хорошо знаем цену своим словам. Возьми то, что хочешь, а мне дай в жены свою дочь". Богач не ожидал такого. Но ничего не поделаешь: отдал. Снарядил богач большое судно, и увез наш юноша красавицу жену домой. Говорят, долго и хорошо они жили, много детей имели Ыкилаку по душе пришелся тылгур. Он так желал удачи безымянному сироте. Что-то общее находил между ним и собой. Может, то, что им обоим одинаково трудно вступать на тропу жизни? Юношу из тылгура осчастливил сам бог тайги и охоты. Говорят, редко кому давалось такое счастье. Да и то в старину Но и Ыкилак чувствовал себя счастливым. И не бог дал ему удачу -- он сам добыл. "Завтра принесу в стойбище медвежью голову и шкуру. После праздника увезу Ланьгук. Не так красиво получается, как в тылгуре, но тоже счастье" От смолистого тепла люди разомлели. И вскоре тихо и мирно овладел ими сон. Глава 35 Лидяйн взвалил на себя больше остальных: переднюю ногу и шкуру. Большая у медведя шкура, тяжелая. Лямки от крошни безжалостно давили, натирали плечи. Лидяйн, согнувшись чуть ли не до земли, шел вслед за старшим братом. Хиркун и Ыкилак предлагали взять часть его ноши, но он сердито отмалчивался. Казалось, взвали на него еще полмедведя, -- не сбросит. Хиркун знал: упрямый и злой Лидяйн казнил себя за малодушие. Охотники оставили позади проклятую марь, в кровь сбили себе ноги и, уже не чувствуя пи боли, ни усталости, продолжали идти и идти. Поднимаясь на сопку, они увидели дым. Кто-то поджидал их. Уж, конечно, не Эмрайн. Неужто Касказик? Долго гадать не пришлось. Из-за деревьев навстречу выскочил Наукун. На привязи -- огромный пес, чтобы тянул -- так легче идти. Наукун выскочил из-за деревьев, уставился на измученных парней, взмахнул руками, как крыльями, повернул назад, крикнул собаке: "Та!" Он поджидал их с самого утра. Если бы оказались без добычи, возвратился бы с ними вместе. А тут надо сообщить радостную весть и опередить настолько, чтобы в стойбище успели подготовиться к встрече. На вершине перевала Хиркун сбросил груз, присел отдохнуть -- надо дать время Наукуну оповестить. Когда младший Авонг предложил испытать Ыкилака, а сына поддержал Эмрайн, Касказик досадовал: "Чего только не придумают люди! Мало им хорошего выкупа, хотят пожрать медвежатины". Только ушли охотники, Касказик обратился к Эмрайну: -- Нгафкка, ты хорошо знаешь, что Он залег? -- Берлогу обнаружил мой старший сын. Осенью. Потом после снегопада проверил. Приметы говорят, хозяин занял свой дом. -- Ых-ы, -- вздохнул Касказик. Какое-то чувство подсказывало ему: Ыкилак справится. Будь только не пустая берлога. Поэтому и решил Касказик: -- Поеду за Наукуном! Эмрайн удивленно вскинул седые щетины бровей: -- Может, лучше подождем? А вдруг не так? Но Касказик упрямо повторил: -- Поеду за старшим своим. Сегодня же. -- Тогда запряги и моих трех псов. Касказик вернулся на другой день до темноты с женой и старшим сыном. Привез и выкуп. Не выпив чаю, он прихватил топор и отправился выбирать сухое дерево. Срубил его, отрезал бревнышко на два маха, очистил от коры, приволок к то-рафу. Вырезал на толстом конце голову медведя, а другой конец закруглил. И готов тятид-сххар -- ударный инструмент. Легонько постучал по дереву топором -- звук получился гулкий. Когда примчится гонец с радостной вестью, тятид-сххар подвесят к двум молодым елкам, воткнутым в снег наклонно. У елок обрублены ветви и только на макушке оставлены в виде султанчиков. Охотники приближались к стойбищу. Едва показались они на тропе, загудел тятид. Это женщины в лучших своих зимних халатах встали по обе стороны тятид-сххар и одновременными ударами по бревну выбивали торжественный ритм. Первой от "головы" стояла Талгук, мать рода Кевонгов. Она негромко, как молитву, шептала слова и тут же опускала то одну, то другую, то обе вместе палки. И гулкие, ликующие звуки разлетались по стойбищу. Уж так принято в нивхских обрядах: женщины знают о большой удаче, но делают вид, что слышат о ней впервые. О-тец во-рон на вершину е-ли сел. Одет он в нау. Прыг-прыг. "Кох-кох", -- кри-чит, "Ках-ках", -- кри-чит Известно, ворон живет много лет. Он много видел и много знает. Долгая жизнь сделала его мудрым. Не зря его почтительно называют: отец. Но вот смотрите, прилетел отец-ворон, сел на вершину ели. Он взволнованно прыгает по веткам. Что его растревожило? Слышите, он кричит: "Кох-кох! Ках-ках!" Это радостная весть. Но какая? Да взгляните же на него, взгляните: он одет в нау -- священные стружки. Удача! Удача! И кленовые палки радостно и торжественно выбивают: О-тец во-рон на вер-ши-ну е-ли Касказик принялся строгать нау. Потом с Наукуном он будет рубить молодые елки -- их сегодня немало понадобится. Жители стойбища услышали зов тятида, потянулись к то-рафу Эмрайна. Те, кто с Авонгами не в родстве, тырнивгун -- глазеющие. Они на правах гостей, правда, не почетных. Но их тоже не обойдут во время пира. Человек средних лет подошел, сел на кучу дров. На голове -- потертый лисий малахай, на ногах -- поношенные оленьи торбаза. Одет в рыжую собачью доху. Шаман Кутан. Достал из-за пазухи кисет с трубкой, закурил. Охотники собрали последние силы, приободрились и чинно, один за другим вошли в стойбище. Сбросили ношу свою на еловый лапник, постеленный прямо на снегу, с трудом разогнули онемевшие спины. Человек в рыжей собачьей дохе степенно встал. В праздничной суете никто и не заметил, как от крайнего то-рафа отошла упряжка. Кутан помчался в Нгакс-во Охотникам не до веселья. Стонет каждая мышца. Пройдет еще немало дней, пока боль утихнет. Ыкилак нашел в себе еще силы отметить: искусно выбивают ритм женщины. Он оглянулся: мать танцевала. Взмахи ее рук плавны. Опускаются разом, словно крылья птицы, преодолевающей ветер. Тятид-сххар, привязанный к наклонно воткнутым молодым елкам, раскачивается, гудит. Крайняя в ряду -- Ланьгук. Она смущалась, но отбивала ритм старательно, вместе со всеми. В то-рафе Хиркуна расторопная Музлук уже нарезала испеченную на углях юколу, кипятила чай. Она подала сначала охотникам по чашечке топленого нерпичьего жира -- лучшее средство обрести силы. На низком столике Ыкилак увидел несколько ломтей лепешки из серой русской муки: "Нынче торговцы еще не приезжали. Однако, из прошлого запаса". Женщины отложили на время кленовые палки, занялись делом. Перво-наперво -- приготовить пищу богов -- мос. Для этого требуется тайменья кожа. И женщины принесли охапки белой душистой юколы тайменя. Псулк торопливо отдирала кожу от мяса, отмачивала в теплой воде, соскабливала чешую. Обрабатывать тайменью кожу хлопотно. И на помощь женщинам пришли старушки соседки. Целую груду молочно-белой кожи приготовили они. Потом варили ее и толкли в деревянных корытах с искусными орнаментами старых мастеров. Псулк помнит, чьи руки вырезали каждое корыто, хотя многих из этих мастеров уже нет в живых. Получилось два полных больших корыта студенистой массы. Псулк насыпала сверху мороженой брусники, клубни растения хискир. Залила топленым нерпичьим жиром. Женщины перемешали все это лопатками, заровняли и поставили на холод. Нивхи готовят мос, когда нужно принести дары разный богам -- таежным, речным, морским. Мосом потчуют знатных гостей, людей рода ымхи. Было уже темно, и старики решили отложить торжество на завтра. В то-рафе Эмрайна собрались гости, чтобы послушать сказителей. Хиркун остался у себя, а Лидяйн увел Ыкилака в свой, малый то-раф, где он жил один. В то время, когда у Эмрайна, затаив дыхание, люди следили за необыкновенными походами безымянного героя через восемь небес на девятое и через семь морей на восьмое, стены то-рафа младшего Авонга сотрясались от могучего храпа. Глава 36 Тимоша был убежден: узкоглазые народы -- одинаково не годны ни к чему. Что гиляк, что якут -- один черт. И даже в ум не брал, что Чочуна может стать деловым человеком: побалуется, порастрясет дурь и рванет домой, в какую-то свою Якутию. За осень и зиму быстроногие олени пронесли якута по всей тайге. Чочуна умело пользовался доверчивостью и добродушием нивхов и ороков, их обостренным чувством благодарности. Узнав о бедственном положении в том или другом стойбище, посылал Ньолгуна раздать муку или крупу, нерпичий жир или оленье мясо. Якут прослыл щедрым и добрым. Благодарные нивхи потом сторицей воздавали ему соболями и лисами. Чочуна скупал понемногу и оленей и к середине зимы владел стадом, достаточным, чтобы снарядить караван в Николаевск на ярмарку. Тимоша, привыкший к тому, чтобы шли к нему со всех стойбищ, сам не бывал в тайге и не знал, что там творится. Чочуна же редко объявлялся в Нгакс-во, ловко держал купца в благодушном неведении. Только зимой, когда якут возвратился с ярмарки, Тимоша распознал, кого он привез в свои владения! А Чочуна с самого начала понимал: рано или поздно кому-то из них нужно убираться отсюда. Тимоша легко не уступит. Чочуна даже обрадовался, когда тот спалил дом Ньолгуна -- настроил против себя все стойбище. К тому же на Тимошу написана жалоба. Упрям и справедлив этот топограф -- дойдет до губернатора. Но начальство что-то молчит. Правда, ему сейчас не до Тимоши и не до гиляков -- идет война с германцем. А тут поговаривают и насчет японца -- того гляди, полезет. Чочуна выбрал время поговорить с Ньолгуном. Тот уже несколько дней пребывал в мрачном настроении: узнал, что Авонги еще не отказали Кевонгам. -- Ланьгук ты возьмешь, -- ласково, как ребенка, утешал Чочуна. -- Как же возьму, раз сосватана? -- Не беспокойся, будет твоей женой, -- уверял его Чочуна. -- Я помогу. Весной, после охоты, и сыграем свадьбу. Ньолгун верил в Чочуну, как в бога. Еще не было случая, чтобы якут не сдержал слова. И сейчас Ньолгун счел неловким расспрашивать, как удастся им заполучить Ланьгук. Но раз Чочуна сказал Хотя у нивхов и не нарушают священный обряд -- Поедем к Тимоше, -- неожиданно предложил Чочуна. -- Поезжай. Ты же, считай, его зять, -- угрюмо отозвался Ньолгун. -- Вместе поедем. -- Он сжег мой дом, а я чай пить к нему? Нет! -- Ты же друг мне. А я ему, как говоришь, зять. -- Мне легче пальнуть в твоего тестя! -- Тс-с-с-с! -- Чочуна оглянулся. Никто их не слышал. -- Это ты успеешь, -- не отступал Чочуна. -- Но пока надо мириться. Надо! Только теперь сообразил Ньолгун, что Чочуна вовлек его в новую игру. В просторной избе ярко горели восковые свечи. За столом шумно. Тимоша и Чочуна рядом, с краю -- розовощекая Дуня, жена Тимоши. С другой стороны -- Ольга. Ньолгун в углу строгал себе мороженую навагу. Тимоша, который чувствовал себя обойденным, досадливо крутил головой, приговаривал: "Значит, осенью в тайге встречались, ягодку собирали? Вот и отпускай одних баб за ягодкой". Ольга ни разу не обмолвилась снохе хоть словечком о тайных своих встречах с Чочуной. Дуня вспомнила, как в солнечные осенние дни, никого не предупредив, Ольга уходила в лес. Возвращалась она обычно без ягод, говорила, что заблудилась, еле отыскала тропу домой. И никто бы не узнал о встречах, если бы Чочуна сегодня после третьего глотка вдруг не сказал хвастливо: "Ольга, ягода-то вкусная, пошли собирать!" Тимоша все еще выражал свое недовольство, когда отворилась дверь и на пороге возник Кутан. -- Ольга, вот тебе ишшо жанишок! Ольга хихикнула, передернула крутыми плечами -- крупные груди заходили под пестрой кофтой. Чочуна набычился, поднял глаза на вошедшего и не здороваясь сказал: -- Сюда садись, жених. Кутан присел с краю стола. Тимоша разлил водку. -- Ну, бывай! -- и все дружно подняли стаканы. -- Чего строгаешь навагу? Давай сига! -- потребовал Чочуна. Ньолгун выскочил в сени, принес несколько крупных серебристых сигов. Быстро, играючи настрогал. К строганине со всех сторон потянулись руки. Люди Нгакс-во были удивлены, когда узнали, что Тимоша и Ньолгун, похоже, в мире. Гадали, каким образом Пупок смог откупиться. Или Чочуна уговорил забыть прошлое? -- Под строганинку! -- снова предложил Тимоша, всем видом своим показывая, что настроен миролюбиво: он неуклюже подмигивал, игриво подталкивал Чочуну локтем. Пока Тимоша разливал водку, Чочуна отобрал у Ньолгуна второго сига и стал сам строгать. Грубые, неуклюжие стружки церемонно положил на стол перед Ольгой. Та засмущалась -- нежные маленькие уши стали как рябина, тихо, одними губами выронила: "спасибо". Большие глаза потупились, длинные темные ресницы запрыгали быстро-быстро. Хороша, чертова девка! -- Шо раззявил рот? -- Тимоша хлопнул по широкой спине Чочуны. -- Моя сестра -- шо яблоко. Жанихайся. А то отдам первому, кто попросит. -- Заберу. В тайгу заберу. Царица будет тайги! -- серьезно ответил ему Чочуна, а глаза жадно ловят просвет в пестрой кофточке. -- Забирай. Жалко, што ли? -- добродушно соглашался Тимоша. -- Давай ишшо под строганинку. Со стола быстро исчезали изогнутые спиралью стружки. Ньолгун только успевал строгать. Дуня ушла на кухню и через минуту появилась с миской, наполненной мясом. Поставила на середину стола, подцепила ножом грудинку, положила перед Чочуной, приговаривая: -- Кушайте, кушайте на здоровье. Кутан взял ребрышко. Широкое и плоское, не как у оленя. Да и запах какой-то травяной. Пожевал. Мясо не сочное, волокнистое. -- Шо, друг, не то, да? -- спросил Тимоша. -- Ничо! Мясо действительно было "ничо". Можно есть. И шаман потянулся за вторым ребрышком. Он видел: Ньолгун с удовольствием поглощает кусок за куском. -- Говядина, оно, конешно, не оленина, -- Тимоша поглядывал на Чочуну. И без всякого перехода: -- А ишшо друг называется. Обижаешь меня. Ездишь, ездишь, и все мимо, мимо. Сам жрешь оленину, вон скоро лопнешь, а меня обижаешь. -- Ты богатый. У тебя все есть. -- Какой я богатый? Оленька, скажи, какой я богатый? -- обратился Тимоша к младшей сестре. Потом вздохнул: -- Последнюю коровку нонче зарезал. Чочуна оторвался от кости, которую тщательно обгладывал: -- Врешь все. -- Не верит! -- Не верю! -- твердо сказал Чочуна. -- Оленька, сестрица моя, -- взмолился Тимоша. Захмелевшая Ольга прыснула. -- Кушайте, кушайте на здоровье, -- суетилась хозяйка -- сама доброта и щедрость. Тимоша обнимает Чочуну, слюняво целует в губы. "Русские, как бабы, -- в губы целуются", -- заметил про себя Кутан. Шаман был удивлен, что никто из присутствующих -- ни хозяин, ни гости не поинтересовались, зачем пожаловал к ним человек. -- Вот ты богат, -- говорит Тимоша. -- Я? Всего сто олешков. -- Это што -- мало? -- Будет тыща! -- хвалится пьяный Чочуна. -- Будет! -- убежденно подхватил Тимоша. -- Сколько соболей успел набить? -- Сколько набил -- все твои. -- И Чочуна показал на тугой мешок. Тимоша только диву дается. Не дав никому и рта открыть, Тимоша запел протяжно, неожиданно приятным голосом:
Про-о-ощай, Одес-та, славный каранти-и-и-н. Меня посыла-а-а-ют на остров Сахали-и-и-н. Бабы подхватили. Было видно: в этом доме любят и умеют петь. Чочуна слушал, и ему было хорошо. Не от слов этой странной песни хорошо -- от слаженности и красоты голосов и еще от неожиданной душевности, которую вдруг выжало нз себя зачерствелое сердце. И расплакался Чочуна, тогда Тимоша жалостливо затянул: Каков был соло-о-овьюшек сильный, храбрый богатырь. Сквозь слезы, как сквозь туман, сперва неясно, расплывчато, но с каждым мигом ясней и ясней -- Софья Андреевна. И странно, в груди у Чочуны не было того волнующего биения, какое он испытывал при встрече с живой, неумолимо манящей, но загадочной и далекой Софьей Андреевной. Лишь слабое, подзабытое, едва уловимое волнение. Даже не волнение, а скорее воспоминание о чем-то приятном, но далеком, которое сегодня уже не может взволновать -- так давно оно было Я теперь, соло-о-овьюшек, в остроге сижу-у-у Тимоша весь отдался песне, сам печалясь и вызывая у присутствующих ответную печаль. И Чочуна в эти минуты жил совсем в другом мире. Он словно спорил со своей непутевой, глупой, как он считал сейчас, юностью. Презирал ее. И видел себя могущественным, богатым. Верил, что в течение этой зимы все таежные нивхи и ороки станут его людьми. У Тимоши, конечно, на уме свое: он хочет заполучить и зятя и дарового работника -- сборщика таежной пушнины Пусть надеется. Сейчас главное -- усыпить внимание лавочника: он еще силен. Летом же Зимой -- оленьи караваны, летом -- белоснежная шхуна! Ха-ха-ха!.. И громкое эхо: а-а-а-а-а! Сопки и солнце, реки и тучи, олени и люди, медведи и собаки -- все завертелось, закружилось. Ха-ха-ха!.. А-а-ааа! А-а-ааа! Да что там Батя! Сам Бутин поднимется из гроба, чтобы снять шапку перед Чочуной! Ха-ха-ха ха-а-а! А-а-ааа! И опять сквозь туман Софья Андреевна. Глаза большие. Ресницы длинные, жесткие. Прикоснись к ним -- вонзятся в тебя, застрянут в душе, как заноза Чочуна вдруг обнял полные ноги Ольги и торопливо, словно боясь потерять, с жаром сказал: -- Вот она, вот она моя Софья Андреевна. -- Последние слова тихо, на выдохе. Все переглянулись: ну, конечно же, пьян человек. -- Да какая тебе Софья Андреевна! Это же Ольга! Ольга! -- смеется Дуня. Поздно ночью два человека обнявшись вывалились из дома Тимоши и, тревожа ездовых собак, прошли к соседней избе. Это Ольга увела к себе Чочуну Лишь близко к утру люди Нгакс-во узнали, зачем пожаловал к ним шаман. В окне еще было совсем темно, когда мощные удары в дверь разбудили Ольгу. Чочуна продолжал храпеть, Ольга, испугавшись не на шутку, растолкала якута. Тот спросонья никак не мог сообразить, чего от него хотят. Снаружи раздавался тревожный голос Ньолгуна: -- Эй вставай! Быстрей, быстрей вставай! Ньолгун основательно подготовился к поездке в А-во. В Николаевске купил шелка, сукна, серебряные серьги, браслеты и еще много другого добра -- Чочуна поделился вырученными от торговли деньгами. Хорошо подготовился Ньолгун и собирался появиться в А-во сразу после Николаевска, но Чочуна задержал на промысле. И теперь, получив весть, Ньолгун в какой-то миг собрался в путь. Не успело еще солнце подняться над сопками, как шесть оленьих упряжек уже стояли у крыльца. К каждой нарте на поводке привязано еще по два оленя. -- Сукин сын, бежишь! Переспал с девкой и бежишь! -- закричал Тимоша не по-мужски визгливо. -- Как же так? Как же так, не обвенчавшись-то! -- причитала Дуня. -- Надо ехать. Человеку надо помочь. Через день вернусь. У нас все решено, -- Чочуна был спокоен и тверд. -- Не дам! Не дам Ольгу! -- вопил Тимоша. Чочуна кивнул. Ньолгун отвязал оленя, трехгодовалого жирного самца, подвел к крыльцу. Вынул из чехла узкий охотничий нож. А Дуня продолжала причитать: -- Нехристь! Как же так -- не обвенчавшись-то! -- Замолчи, дура! -- прикрикнул Тимоша. -- А мы как появились на божий свет? Смотритель -- вот кто был батюшкой. Кинул каторжнику бабу в постель, как собаке кость, -- вот мы и появились. А то -- "не обвенчавшись", -- передразнил он жену. Чочуна подошел осторожно, без резких движений -- полувольный олень пуглив. За уздечку держал Ньолгун. Мягко прикоснулся к шее, погладил по вздрагивающей голове, нашел округлую ямку у основания головы, приставил к ней блескучий тонкий нож. Придерживая левой рукой, приподнял правую и резко, ладонью, нажал на торец рукоятки. Олень упал, забил тонкими ногами. -- Молодец! Это работа! -- Тимоша был в восторге. Оленя быстро разняли. Тимоша тут же отрезал лакомые куски парного мяса -- грудину, язык, сердце, передал жене. А сам вынес бутыль и, наполнив большую кружку, пустил по кругу. Каждый глотал, сколько мог, и закусывал горячей печенкой. Подошел черед Ольги. Она только пригубила. Но с удовольствием отведала нежной, сочной печенки. Отправив гостей, Тимоша, мурлыча ему одному ведомую песню, взвалил на плечо оленя и, сгибаясь под тяжестью, направился к большому сараю. У него был четкий план. Чочуна -- бродяга, без дома. Не будет же Ольга таскаться с ним по сопкам. Будет жить в Нгакс-во, в доме Тимоши! Он обрежет якуту крылья, сделает ручным. Лучшего приказчика и не найти. Пусть мотается по тайге, собирает пушнину У разбитой острыми копытами топанины застыла притихшая Ольга. Она смотрела вслед уходящим наездникам и не видела их

|
Обсуждение:
ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ МАЛО
1648. 10.06.2010 19:30
Глава 28Чачфми -- удобное местечко. Здесь по обоим берегам Тыми обширные тундровые мари, отличные пастбища, да в окружающих ельниках полно мха-бородача. Единственное, что мешает оленеводу, -- семья росомах. Кровожадные хищники постоянно тревожат стадо. Лука ставил ловушки, но хитрые звери умело обходили их. Росомахи отвлекали от пушной охоты. И поэтому первое, что решил Чочуна, -- уничтожить хищников, чтобы всем вместе потом заняться соболями. Лука согласился, и теперь ждали удобного случая. И случай этот не заставил себя ждать. Морозным ветреным утром прискакал Кириск, розовощекий сопливый подросток, и сообщил: росомахи задрали оленя. Схватив ружья, Чочуна, Ньолгун и Лука вскочили на верховых и помчались за мальчиком. Проскочили длинный лесистый склон сопки, вышли на круглую заснеженную поляну-марь. И тут Кириск остановил оленя. Таежники уже сами приметили: у дальней кромки леса -- два черных пятна, рядом -- серый бугорок. Росомахи после трапезы охраняли добычу от ворон. Охотники окружили поляну, спешились и, когда Лука взмахнул шапкой, стали сужать кольцо. Шум ветра в ветвях -- хороший помощник, хищники поздно учуяли опасность. Азартный Чочуна не позволил другим сделать первый выстрел. Тяжело раненный зверь упал, но, подняв голову, ощерился. Чочуна снова поднял ружье, но крик Луки остановил его. Второй зверь, укрываясь за одиночными чахлыми деревцами, понесся в чащу. Ньолгун торопливо разрядил ружье. Росомаха поддала крепче, только снежные комья взлетали из-под мелькающих лап. Ньолгун выстрелил еще. Зверь круто повернул, заметался, и тут Кириск, безоружный мальчик, как-то уж очень ловко кинул аркан. Гибкая петля догнала зверя. Росомаха дернулась, сильным рывком мальчика бросило в снег. Разъяренный зверь повернул назад и помчался к нему. Ньолгун бросился туда же что есть силы, крича и стреляя в воздух. В этот опасный миг спокойнее всех вел себя мальчик. Он не отпустил аркан. Росомаха приближалась крупными прыжками. Кириск мгновенно вскочил на ноги и, когда зверю оставалось всего два прыжка, отпрянул за дерево. Взрослые подошли, когда мальчик, подобрав торчащий из снега толстый сук, добивал опутанного и уже не страшного хищника. Чочуна восхищенно качал головой. Теперь ничто не мешало переключаться полностью на соболей. Лука-Нгиндалай и его дети добыли за осень знатных соболей, большую часть их отдали Чочуне, но и себе оставили: нынче оленевод поедет на далекую Шилку, к сородичам. Решили так: сперва Лука заедет в Николаевск вместе с Чочуной. С ярмарки Чочуна вернется назад, а Лука с молодыми ороками продолжит путь по Амуру до таежной эвенкийской деревни на Шилке. Глава 29 Как всегда, с рассветом вороны стаями вылетели из голубого заиндевелого ельника, где, укрывшись в гуще разлапистых ветвей, зябко коротали длинную ночь. Ельник взбирается по кручам высокой террасы, переходит в непролазную тайгу, которая разбегается по глухим нехоженым сопкам. У подножия кручи в рощице черноствольной каменной березы не сразу приметишь маленькое подслеповатое стойбище Ке-во. Снег засыпал его. И только не в меру высокие сугробы да сизый дымок от сухих лиственничных дров обнадежит проезжего: тут его ждет тепло. Вороны расселись на вершине узловатой ели, которая, словно осердясь на своих сородичей, убежала из ельника и поселилась в рощице, среди каменной березы, сразу за стойбищем. Целая сотня ворон может спрятаться в ветвях этого дерева. Утром перед вылетом на кормежку или вечером перед сном вороны слетаются к ели со всех лесов, теснятся на ее вершине, дремотно вполголоса каркают. Потом, будто сговорившись, разом снимаются, взмывают вверх и гигантской черной тучей закрывают собой полнеба. На землю опускается сумрак. Родовое предание гласит: вороны облюбовали ель в тот день, когда на берегу Тыми у подножия высокой кручи появилось стойбище Ке-во. Может быть, в далеком прошлом, люди, поселившиеся на берегу нерестовой реки, назывались не так, как сейчас. Но прошло много лет, люди позабыли свое прежнее имя и стали называться Кевонги -- жители Верхнего селения. Сегодня вороны медлили с отлетом, облепили оголенную вершину, с которой сбили хвою еще в незапамятные времена. Каркали, словно спорили, гадая, что предпримут жители стойбища. В эту ночь к Ыкилаку так и не пришел сон. Он и виду не показывал, что его тревожит скорая поездка в стойбище А-во -- Нижнее селение. Конечно, он с нетерпением ждал поездки. Осень ждал, зиму ждал. Ждал лето и еще осень. Ждал, но никак не проявлял нетерпения. Только несмышленыши-подростки позволяют чувствам овладеть собой. Даже от небольшой радости готовы прыгать полдня. А он -- мужчина! Он уже кормилец. И должен держать себя в руках. Этому учил отец. Этому учила тайга. Учили все шестнадцать буранистых зим и шестнадцать лет: дождливых и сухих, обильных ягодами и рыбой. Он не спал. Нет, не потому, что взволнован. Это милки [Милки -- злые духи, оборотни.] всю ночь строили козни. Это они отогнали от Ыкилака сон. Им бы только напакостить человеку. То ночью в лесу заорут, и человек цепенеет. А потом хохочут над ним, одиноким, скованным страхом. Или в осенний ледостав направят туда, где лед тонок, и человек обязательно искупается в морозной воде. А то и утонет. И в эту ночь проклятые милки отняли у Ыкилака сон. Хорошо, что никто не видел, как всю ночь он вертелся. В то-рафе на других нарах спал аки. Всю ночь свистел носом. Вот и зазвал этим своим свистом милков. А все потому, что завидует Ыкилаку. И злится на отца. Ланьгук должна была стать женой Наукуна -- он старший. Но волею отца она станет женой младшего. Зимняя ночь длинная. А эта особенно. Ыкилак ворочался с боку на бок, сбились мягкие, как замша, штаны из кожи тайменя. Они мягкие, пока сухие. Когда подмокнут и высохнут, станут как кора на лиственнице. Мни их потом. Долго и старательно мни. А штаны, ставь их на пол -- будут стоять колом. Ыкилак повернулся на левый бок, взглянул в дымовое отверстие на потолке. Перед сном он сам закрыл его снаружи. Наверно, неплотно. И в щель Ыкилак увидел: небо заметно посерело, будто густой до черноты чай разбавили кипятком. "Еще полежу", -- он подтянул к подбородку старую собачью доху. Еще от деда доха. Ее никто давно не носит -- такая ветхая. Ыкилак не помнит, было ли у него когда-нибудь одеяло -- всегда укрывался дохой или еще каким хламом. До полуночи в то-рафе обычно жарко. К утру остывает. Но если надеть халат из рыбьей кожи, накрыться дохой и лежать скорчившись, чтобы ноги не выглядывали, можно пролежать до утра и не замерзнуть. Только устанешь так лежать. Тем более что постель -- оленья шкура, брошенная прямо на деревянные плахи, -- давно вылиняла, и ощущаешь все неровности нар, как суставы на тощей руке стариков. За много лет Ыкилак приноровился к своей постели: передвинешься чуть-чуть в сторону, и бокам не так больно. Мелкие звезды погасли, только крупные видны. "Еще немножко полежу", -- сказал себе Ыкилак. И тут он вспомнил о выкупе. Долго, две зимы, собирали этот выкуп. Отец охотился. Ыкилак охотился. Охотился и Наукун. Но тот сердит на отца и припрятывает часть соболей. Ыкилак знал об этом, но молчал. Наукун еще скажет, младший брат не мужчина -- только и ждет, чтоб за него другие работали. А ведь обычай велит: всему роду собирать выкуп. Потому что к ним придет женщина. И неважно, чьей женой она станет. Важно другое -- принесет детей, продолжателей рода. Выкуп собрали богатый, соболей большая связка -- трижды по сорок шкурок, двенадцать лис, восемь шкур выдры. Ыкилак сам носил одежду из рыбьей кожи, а всю добычу отдал на выкуп. Он вспомнил, что вчера вечером отец снес увесистый узел в амбар. Срубили они его из лиственничного долготья и поставили на сваи -- собаки не заберутся. Но покрыт он корьем. Как бы лесной зверь не проник туда. Ведь для росомахи кора не препона. Ыкилак откинул доху, быстро встал и, пока накопленное за ночь тепло не улетучилось, набросил халат на собачьем меху, нашарил в темноте нерпичьи торбаза, натянул меховые чулки. Наукун не проснулся даже тогда, когда младший брат, обходя очаг, зацепил ногой за что-то. Ыкилак нагнулся, протянул руки -- они коснулись низкого столика. Братья после вечернего чая не убрали его. Согнувшись привычно, Ыкилак прошел узкий, тесный коридор, толкнул наружную дверь. Прилаженная к косяку с помощью ремня из сивучьей кожи, она неслышно отошла и, выпустив человека, снова закрыла вход. Ыкилак глотнул морозного воздуха -- сна сразу поубавилось. Мелких звезд не видать. Но крупные редкие звезды, словно подожженные кострами зари, вспыхивали и, мерцая, лучились на небосклоне. И если чутко вслушаться, услышишь, как мир тихо и умиротворенно досыпает еще одну ночь. Звезды в эту пору издают какой-то особый звон, от которого сон спокойный и полный В эту ночь не спала и Талгук. Завтрашняя поездка мужчин волновала ее не меньше, чем младшего сына. Она тоже ворочалась с боку на бок, стараясь ненароком не задеть мужа. Все-таки задела. Касказик открыл глаза, но не шевельнулся. Только сказал: -- Близко, что ли, утро? -- Нет, еще не близко, -- приникнув к его плечу, прошептала Талгук. -- Ты что -- не спала? Голос какой-то не сонный. -- Нет. -- Почему не спится? Холодно? -- Нет, не холодно. -- Тогда спи, -- и Касказик отвернулся от жены. Под оленьими шкурами тепло долго держалось. Лишь при вдохе ощущаешь студеную резь в носу. Талгук, чтоб не объяснять причину бессонницы, сказала: -- Нашим сыновьям зачем жить отдельно? Зачем два очага иметь? Зачем рубить дрова для двух очагов? Касказик, никак не ожидавший такого ночного озарения от своей жены, с которой прожил столько зим и лет, дернулся от удивления всей спиной. -- Ты хоть думай, прежде чем сказать! -- Касказик сейчас был добр. Тепло, идущее от рядом лежащей жены, смягчило его резкий нрав. -- Сама знаешь: какое же это стойбище, если в нем один лишь то-раф? Раньше наше стойбище было, словно птичье гнездовье: шум, смех, лай собак. Теперь хоть два то-рафа, но свое стойбище. Родовое. Со своим древним священным очагом. Талгук знала, как обернется затеянный его разговор. Но была довольна: маленькая хитрость ее удалась -- муж принял разговор, и Талгук увела его от попыток узнать, почему ей не спится. -- Спи, -- Касказик не изменил своей позы до утра То-раф родителей немо и смутно темнел в стороне на сером снегу. Воронья ель черной громадой уходила в небо и будто касалась там ветвями крупных звезд, отчего и чудилось, что звезды звенят. Собаки в большой конуре, похожей на то-раф без коридора, услышали скрип снега, завозились, но, узнав по шагам своего, вновь уснули. Ыкилак походил вокруг амбара. Убедился: в порядке. Вернулся в то-раф. Наукун продолжал высвистывать носом. "Скоро утро. Милки боятся света. Они, однако, уже исчезли. Полежу еще", -- и Ыкилак не раздеваясь полез под доху. Когда голова коснулась груды хламья -- вместо подушки, откуда-то из небытия донесся тонкий серебряный звон. Он дрожал, разрастаясь и множась, -- это небо звенело: спать, спать, спать -- Хы, этот все еще спит! Ыкилак поначалу не сообразил, чем так недоволен старший брат, с трудом поднял голову. Наукун сидел на своей наре в накинутой на плечи оленьей дохе. Толстая жирная коса свисала сбоку. Наукун смачно обсасывал чубук и, наслаждаясь, медленно выпускал дым тонкими струйками. В узкую щель в потолке проникал неясный свет наступившего утра. Поза старшего брата выдавала нетерпение. Ыкилак знал, чего хочет аки. "Сам бы мог развести огонь. Теперь злой, ничего не сделает". Ыкилаку не хотелось оставлять теплую постель. Но вставать надо. Он рывком поднялся. Нашел нож, насек щепок, настругал стружек от куска березы, сложил на очаге сухие дрова. Затем ногтем большого пальца разрыхлил чагу -- березовый нарост, поднес огниво и кремень. Хорошая искра получилась на втором ударе. Она упала на крошку гриба, и крошка едва задымилась. Ыкилак раздул тлеющий уголек. Огонек разросся, перешел на кусок с ноготь величиной. Ыкилак, не переставая дуть, положил его на очаг под витые ленты бересты. Набрал полную грудь воздуха и снова подул сильнее. Уголек рассыпал вокруг себя искры, сухая береста вспыхнула прозрачным, еле видным пламенем. А Ыкилак дул и дул, пока пламя не охватило крупные щепки. Огонь разошелся. Ыкилак разогнул спину и почувствовал, как отяжелевшая голова идет кругом. "Нельзя так долго дуть", -- и пошел к двери. А Наукун все сидел в той же позе. Отец переносил вещи из амбара к то-рафу. Мать выводила застоявшихся собак. Те лаяли и рвались с привязи. Непривязанная сука носилась рядом, дразня кобелей и мешая сборам. Мать убрала длинные косы вокруг головы. От этого голова казалась очень большой, а сама мать еще меньше и походила на неокрепшую девочку-подростка. Собаки рвались из рук, и мать кричала на них, нагибалась, чтобы намотать привязь на кол. При этом у нее все время распахивался халат. Она поспешно прикрывалась, завязывала шнурки, но едва наклонялась, халат снова распахивался. "Что у нее -- шнурки короткие? Или оборваны?" -- Ыкилак наблюдал, как мать безуспешно пытается застегнуть халат. Он висел на ней мешком. Два года назад, тогда еще новый, сшитый из желтой материи, он сидел ладно. -- Спустим нарту, -- сказал отец, не глядя на сына. Придерживая, осторожно спустили нарту по покатой земляной стенке. -- Принеси потяг. Ыкилак нашел в амбаре свернутый кругами плетеный потяг, с которым через постромки соединены попарно хомуты из широких полос кожи. Каюры обычно используют веревочный потяг. Но сегодня поездка особая, и глава рода велел принести плетенный из кожи. Мать вывела семь нартовых кобелей и отправилась накрывать на стол. Наукун не участвовал в сборах. Он явился в то-раф родителей, когда мать уже подала юколу, нерпичий жир и густой отвар из березового гриба -- чаги. Чай давно уже редкая радость у жителей Ке-во. После завтрака разгоряченные люди вышли из то-рафа и поначалу даже не почувствовали мороза. Касказик уже дернул конец потяга, привязанный к столбу. Талгук умоляюще сказала: -- Запряги суку. Касказик резко обернулся: -- Только твоя голова может придумать такое. Только твой язык слушается такой глупой головы! -- Сука сильная. Она потянет. А дорога неблизкая, и снег еще не улежался, тяжелый, -- не сдавалась Талгук. -- Ыйть! -- разгневанный Касказик замахнулся тяжелым остолом, чтобы отогнать жену, так некстати подвернувшуюся под руку. Кто видел, чтобы уважающий себя каюр впрягал в упряжку суку? Тем более в такую поездку. А сука тем временем взвизгивала, рвалась с привязи. Обычно ее не привязывают. Она вольно рыщет вокруг стойбища, сама добывает себе пищу. Ведь велел же еще утром привязать, чтобы не путалась под ногами. Старик ворчал, левая же рука привычно отвязывала закрепленный конец потяга. Собаки разом рванули -- Касказик едва успел ухватиться за тормозную дугу и все же его бросило на бок. Отчаянно ругаясь, он налег на стол с железным наконечником -- впереди крутой спуск, нужно притормозить, иначе нарта ударится о торос и разобьется или подомнет под себя задних псов. Ыкилак оглянулся: у низкого заснеженного то-рафа стояла Талгук. Наукун так и не вышел проводить. Только спустилась нарта к реке, мимо лихим аллюром промчалась сука. Она бежала впереди, задрав длинный хвост [Нивхи обрубают кобелям хвосты, у сук же оставляют.]. Кобели наддали, пытаясь догнать ее, нарта запрыгала по крутым застругам. -- Ыйть, проклятая! Чтобы ты разбилась об лед! А вы, безмозглые, чего радуетесь? -- орал Ыкилак. -- Выдохнетесь уже на третьем кривуне! Вороны разом сорвались с ели, догнали нарту и некоторое время в смятении висели над нею черной тучей. Глава 30
Пред тобою сугробы расступятся пусть, Рыхлый снег твердым настом вдруг станет пусть. Чтоб в дороге легки были ноги твои, Шью тебе торбаза я. Самой прочною жилкой я швы прострочу. Слов надежных и верных я не умолчу. Чтоб в дороге легки были ноги твои, Шью тебе торбаза я. Чтобы в долгом пути ты не встретил беды, Древних предков узор осторожно кладу Чтоб в дороге легки были ноги твои, Шью тебе торбаза я -- Красивая песня! -- восхищенно сказала Музлук, когда Ланьгук спела последние слова. -- У тебя всегда красивые песни. Ланьгук застыдилась искреннего восхищения невестки, низко нагнулась над шитьем. Вот уже дней восемь, прячась от глаз отца и братьев, Ланьгук шьет торбаза. Мужские. Из прочного камуса -- оленьих лапок. Музлук помогла подобрать мех. Отобрали темно-коричневые. Отделали белоснежным камусом, нарядным. А узор придумали втроем -- мать тоже приняла участие. Поверху пустили крупный орнамент, ниже -- шашечками белый и темный камус. Скоро должен приехать Ыкилак, красивый юноша, ловкий, удачливый добытчик Древних предков узор осторожно кладу Пусть древний нивхский орнамент хранит тебя от всяких бед На реке снег лежит ровно, без сугробов. Лишь кое-где на кривунах козырьками дыбятся заструги. Снег рыхлый. Полозья то и дело проваливаются. Упряжке тяжело. Постромки гудят, нарта скользит, дергаясь и подпрыгивая -- перескакивает через заструги. На четвертом или пятом повороте, как и ожидал Касказик, упряжка перешла на шаг. Бока у кобелей запаленно вздымались, языки болтались, как мокрые тряпки. А сука, высоко задрав хвост, носилась вокруг, откровенно взывая к игре. -- Ыйть, -- выругался Касказик, -- ты у меня порезвишься! Он затормозил. Кобели тут же встали, залегли, жадно хватая снег дымящейся пастью. Касказик протянул руку, чтобы подозвать суку, но тут же застыл в замешательстве: как окликнуть ее? Четвертую зиму никто не удосужился дать ей имя. Может, потому, что не требовалась она в хозяйстве. Одно знала: плодила щенков для будущих упряжек. Но сука поняла, чего хочет человек. Она отбежала подальше и только тогда оглянулась. Касказик держит на вытянутой руке кетовую хребтину. Соблазн велик. Сука голодно облизнулась, завиляла хвостом, крадучись подошла. Медленно и осторожно, чувствуя подвох, потянулась к руке. А человек ласково приговаривал: -- Вот тебе рыба. Вкусная рыба. На, возьми, съешь. Рука отдаляется, отдаляется. Аппетитный запах бьет в ноздри, вызывает обильную тягучую слюну. Сука сделала короткий шаг. Еще шаг. Ноги дрожат от возбуждения. Она видит над своей головой распростертые пальцы другой руки. Внимательно сторожит глазами. Резко хватает кетовый костяк, выдергивает, и не успел человек опомниться, стрелой уносится к берегу, исчезает в кустах. Нартовые собаки, с любопытством следившие за ходом событий, завистливо скулят, бросаются вслед за ней, но лишь запутывают постромки. -- Ыйть, безмозглые! -- пинает старик ни в чем не повинных кобелей, срывая на них зло. Ыкилак в душе хохочет над отцом. Касказик грубо растолкал кобелей, распутал постромки и крикнул: -- Та-та! Упряжка пошла, но кобели все оглядывались, посматривали на берег, где в кустах догрызала свое лакомство сука. Через несколько поворотов, когда упряжка вновь перешла на шаг и кобели из последних сил налегали на хомуты и хрипели, задыхаясь от собственных усилий, каюр смилостивился: -- Порш! Кобели опять залегли в снег. Касказик обернулся. -- Она боится меня. Попробуй ты. Ыкилак соскочил с нарты, пошел к суке, которая сидела в стороне, ожидая, когда снова тронутся в путь. Увидев юношу, собака прилегла на снег, прижала уши, осклабилась в покорной улыбке. Позволила взять себя за загривок, тут же встала на ноги и, повинуясь руке, пошла рядом. Касказик надел на нее не алык-хомут, а простой ошейник -- так проявил он свое презрение, привязал ее сразу же вслед за вожаком, приговаривая: -- Убеги на этот раз, добра не будет. Вот и далась в руки. Теперь ты у меня потанцуешь. Такой танец тебе выдам, какого ни один шаман не знает. Он понимал, кобели, увидев перед собой суку, будут стараться настигнуть ее и сильнее потянут нарту. Старик перекинул ногу, сел поперек, вытащил остол. Собаки дернули, легко понесли. Сука тянула сильно. На трудных участках, когда полозья исчезали в снегу и шли тяжело, будто по песку, она от усердия приседала, ее задние ноги подгибались, дрожали и, казалось, гудели от напряжения. Долго каюр не давал передышки. Псы переходили на шаг, но старик кричал, размахивая остолом, и они боязливо озирались и тянули из последних сил. Сука, непривычная к такой тяжелой работе, выдохлась раньше и еле перебирала лапами. Конечно, ни один уважающий себя каюр не запряжет суку. И вообще, во всем виновата Талгук. Нарочно выпустила. Ыйть, старая дура, из ума выжила. Теперь, хочешь не хочешь, запрягать надо. Хорошо, хоть постороннего глаза нет. Касказик ругал жену, но в душе поднимался другой голос: это она сделала от добра, хотела помочь мужу и сыну в их трудном пути. Лишь в конце дня, когда из-за последнего поворота показалось стойбище А-во, старик остановил нарту, освободился от суки. Та радостно взвизгнула, взмахнула длинным хвостом и снова помчалась впереди упряжки. Уставшие, еле волочившие ноги кобели приободрились, налегли на алыки, и нарта пошла быстрее. Глава 31 Маленькое стойбище А-во встретило гостей остервенелым лаем будто взбесившихся здешних собак. Но в их заливистом лае не злоба была. Скорее любопытство и радость от того, что наконец-то есть повод продрать горло. Редко когда сюда наезжали. Разве какой-нибудь дальний каюр с другого побережья в своей нелегкой поездке по родичам, разбросанным невесть где, останавливался в этом глухом таежном местечке, чтобы дать отдохнуть отощавшей в дороге упряжке и обменяться с жителями А-во родовыми тылгурами -- преданиями и легендами. Из большого то-рафа вышел сгорбленный старец. Это Эмрайн -- старейший рода Авонгов. Он в синем матерчатом халате с волнообразным желтым орнаментом на полях. Седые редкие волосы заплетены в тонкую облезлую косу. Старец пристально всматривался в приезжих. Следом вышли два его сына -- Хиркун и Лидяйн. Оба в накинутых на плечи цветастых халатах. За ними выскочили две молодые женщины -- одна совсем еще юная Ланьгук. Встретившись с Ыкилаком глазами, она покраснела, будто лицо ее окатили из жбана соком брусники. Девушка юркнула в то-раф -- только косы взметнулись, как крылья. За Ланьгук степенно повернулась и исчезла другая женщина. Это Музлук -- жена Хиркуна. "Наверно, чай пили -- раз собрались все в то-рафе родителей", -- рассудил Ыкилак. Эмрайн прикрикнул на собак, и те смолкли. Лишь некоторые поскуливали, завидев суку, которая нагло и независимо прогуливалась по стойбищу. Непривязанные кобели, тесня друг друга, обхаживали ее. "Ах, ты, бессовестная! Нахалка! Ведь срок твой еще не вышел!" -- корил ее про себя Касказик, а вслух сказал, оправдываясь: -- Увязалась за нартой. Гнал, да разве послушается, тварь этакая. Всю дорогу только и мешала. Эмрайн, криво ступая, подошел ближе. -- Как дорога? Наверно, нелегко было? Лидяйн вполголоса спросил Хиркуна: -- Не за Ланьгук они? -- Откуда я знаю, разговора еще ведь не было? И уже на правах старшего не счел нужным скрывать недовольство: -- Ты вечно спешишь. Сходи, позови женщин -- пусть помогут распрячь упряжку да собак покормят. Лидяйн ответил обиженным взглядом исподлобья, но повиновался. Не успел открыть он дверь, как ее толкнули изнутри. Вышли Псулк, Музлук и Кутан, младший брат Эмрайна, родовой шаман. Ыкилак двигал плечами, размахивал руками, чтобы изгнать из себя холод -- день был безветренный, но морозный воздух, казалось, проник во все поры, выстудил кровь. "Еще подожду. Как пальцы отойдут, распрягу". Но ему не пришлось заняться этим. Подошли широкоскулая и плоская, как плашка для распялки шкур, Псулк -- жена Эмрайна и с нею на редкость крупная и статная Музлук -- жена Хиркуна. -- И-и-и, -- улыбнулась Псулк младшему Кевонгу. -- Какой большой и красивый стал мальчик. Она широко и уверенно шагнула к упряжке. Нартовые псы, поначалу с подозрением встретившие женщин, повиновались умелым рукам. Вечером после чая по традиции пришло время сказаний. Гости должны рассказать свой тылгур [Тылгур -- предание, сказание, легенда.]. И когда Касказик почувствовал, что окружающие накурились и настроились слушать, рассказал короткое предание. Три охотника -- ымхи, человек рода зятей, и два ахмалка, люди рода тестей, пошли в тайгу ставить петли. Ымхи был бедный, неженатый. Ему нужно добыть соболей на выкуп. Ахмалки же -- из богатой семьи, где было много мужчин-добытчиков. Ымхи, если охота окажется удачной, женится на сестре ахмалков. Пришли охотники в сопки, срубили балаган, расставили ловушки. Ымхи поставил тридцать ловушек, младший ахмалк -- пятьдесят, старший ахмалк -- триста. Прошел день, прошел второй. Пришли охотники проверять ловушки. Ни в одной ловушке нет добычи. Принесли охотники Пал-ызнгу жертву: табаку, корни сараны. Старший ахмалк сказал: "Добрый дух, пожалей меня за все мои страдания -- вон сколько ловушек я выставил". Пошли на следующее утро охотники проверять ловушки. Шли, шли они по распадкам и сопкам, видят: идет по сопке красивая девушка, зовет: "Кыть, кыть, кыть!" Так скликают щенков покормить. Идет красавица по склону сопки, зовет: "Кыть, кыть, кыть!" И со всех склонов и распадков выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А девушка что-то бросает в стадо соболей, соболи ловят на лету. Стоят охотники, разинув рты. Стоят и смотрят, как лесная девушка, дочь земного Тайхнада [Тайхнад -- сотворитель живого на земле.], прошла по склону сопки вместе с соболями. Прошла дочь Тайхнада по склону сопки -- исчезла. После этого еще несколько дней соболи не шли в ловушки. Охотники ходили по сопкам и распадкам, переставляли ловушки, но все равно не было добычи. Вечером, когда они сидели в балагане и думали о своей неудаче, кто-то стал спускаться по сопке к балагану. Охотники подняли головы, видят: входит к ним седовласый старец. Вошел старец, прошел к лежанке, присел. "Ух-ух-ух, -- перевел он дыхание. -- Вижу, что вас мучает неудача. Жалко вас -- вы так стараетесь, а добыча не идет в ловушки". Поняли охотники, к ним явился сам Тайхнад, сотворитель живого на земле. Старец сказал: "С завтрашнего дня соболь пойдет в ваши ловушки. Вы ловите соболей, а я буду снимать шкурки, сушить". Охотники не знают, как отблагодарить. Покормили они гостя, положили спать. Ымхи подумал: "Хоть бы двадцать соболей послал в мои ловушки. Столько соболей, пожалуй, хватит на выкуп". Подумал так ымхи и уснул с этой мыслью. Младший ахмалк подумал: "Знать, я наделен счастьем, раз сам Тайхнад пришел ко мне в гости. Сделай так, чтобы мои ловушки всегда были полны добычи". Подумал так младший ахмалк и уснул со своей мыслью. Утром охотники проснулись рано, пошли проверять ловушки. Увидели: в каждой ловушке сидит соболь. Ымхи подумал: "Надо убрать ловушки. Если так будет ловиться, не успеем снять шкурки". Так же подумал и младший ахмалк. А старший подумал: "Вон как ловится соболь. Хорошо! Я поставил много ловушек". Снова зарядил ахмалк свои ловушки. А добычу в мешках таскал к балагану несколько дней. Пока он таскал соболей, во всех ловушках оказалась новая добыча. Старик тогда сказал: "Не надо так много ловить, я не успеваю снимать шкурки. Они портятся". Ахмалк ничего не сказал. Но и ловушки не снял. И накопилось соболей так много, что стало негде хранить. Старик опять говорит: "Не надо ловить так много священных зверей -- они портятся". Ахмалк подумал: "Старик только мешает мне охотиться". Он знал: Тайхнад не любит, когда костер собирают из пихты: пихта, разгораясь, трещит так, что голова болит. Ахмалк незаметно срубил пихту, незаметно положил в костер. Костер вспыхнул, затрещал. "Тэ-тэх-тэх!" -- трещит огонь. "Ыйк-ыйк-ыйк!" -- вздрагивает Тайхнад. Потом старец молча надел шапку и вышел из балагана. На следующее утро охотники услышали шум, будто ветер прошел по лесу. И увидели охотники: по сопке проходит лесная девушка. Девушка шла и звала: "Кыть-кыть-кыть". И со всех склонов и распадков выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А она все зовет: "Кыть, кыть, кыть". И тут соболи, которых старший ахмалк хранил в амбарах, ожили и помчались к девушке. Схватился старший ахмалк за голову, побежал с криком: "Соболи! Соболи! Мои соболи!" Долго бежал ахмалк. Но куда там. Ступит девушка -- она на одной сопке, ступит еще -- уже на другой сопке. А вместе с нею -- стадо соболей. Бежал охотник за соболями. Ымхи и младший ахмалк долго слышали, как по распадкам и ущельям разносился голос: "Соболи! Соболи! Мои соболи!" Вернулись они в стойбище. Отдал ымхи отцу-ахмалку выкуп, забрал жену. Рассказали о случае в тайге. Их рассказ стал преданием. Едва Касказик закончил рассказывать, раздался голос Музлук: -- Так и надо ему: одним жадным меньше стало. Ыкилак впервые слышал от отца это предание. Другие, разные, отец рассказывал раньше, а этот тылгур о бедном ымхи и жадном ахмалке Ыкилак услышал впервые. Ыкилак слушал отца, видел себя на месте безымянного юноши и желал себе удачи Эмрайн не ответил на предание ни словом. Он понял старейшего Кевонга, тот предупреждал: нельзя быть жадным. Хитрый Касказик нанес удар, упредил Глава 32 Прошла ночь. Наступил новый день Кевонгов, может быть, самый важный для маленького рода. Но что это? Касказик ощутил, что между ним и людьми А-во незримо встала стена холода. Что же случилось, почему так внезапно все изменилось? Два рода -- Авонгов и Кевонгов -- издревле кровно связаны. Авонги -- род тестей, Кевонги -- род зятей. Издревле было: женщины из А-во переходят в род Кевонгов. Правда, бывало в далеком прошлом (об этом гласят родовые предания), когда иные женщины из А-во уходили в род Нгакс-вонгов на туманном берегу моря. Но такое случалось редко и лишь тогда, когда в роду Кевонгов у всех были жены, а взять вторую жену редко кто решался -- лишний рот. Но о тех прекрасных временах, когда мужчинам хватало женщин, -- об этих временах лишь в преданиях сказывается. И Касказик, сегодняшний старейший оскудевшего рода, с тоскливой печалью думал: "Были ведь такие времена" О, эти проклятые воры -- люди из туманного Нгакс-во! Будь проклят тот, кто придумал огненную воду! Это с ее помощью лишили ума покойного деда Сучка и его братьев -- иначе бы они не изменили своему слову! Будь проклят тот миг, когда пролилась кровь людей Нгакс-во. Это он, Касказик, в то давнее время, увидев убитого брата, разъярился и бросил копье в убегающего криволицего, пронзил его. О, будь проклят этот день: он стал началом кровной мести. Люди Нгакс-во не знали, что и Кевонги понесли утрату. Вернувшись к морю, они учинили резню -- уничтожили тамошних Кевонгов, которые отошли от родового древа много ань назад. Жителей Ке-во потрясла неслыханная несправедливость: они убили одного из Нгакс-во, а те отняли три жизни! Как только Курнг не покарал их! Кевонги мудро укротили свой гнев. Отвечать новой кровью значило наложить руки на себя, всему роду пришел бы конец. Касказик дал себе тогда слово: наступит час и он отомстит. Молил богов, чтобы помогли ему: хотел иметь сыновей, много сыновей. Они отомстят людям Нгакс-во. Но боги обошлись с Кевонгом немилостиво. Прав был тот древний шаман, от которого сейчас и трухи не осталось: он сказал тогда, что Кевонги совершили тягчайший грех, пролив человеческую кровь Может, Курнг потому и оставил так мало Кевонгов, чтобы чувствовали свое бессилие? Теперь не заботы о кровной мести занимали Касказика. Он будет виноват, если на его сыновьях оборвется род. Земля будет жить. И травы будут жить. И звезды, и зверье будут жить. А рода Кевонгов не будет! Эта мысль преследует Касказика. Где бы ни был он, на охоте ли, на рыбалке, спит ли с женой в своем теплом то-рафе -- не отстает от него эта дума. Ланьгук, конечно, должна была стать женой Наукуна -- уж таков обычай, сперва женят старших сыновей. Но волею Касказика она станет женою младшего. Касказик принял это решение не потому, что любит Ыкилака больше. У него были свои расчеты. Тогда Касказик надеялся: он сумеет найти своим сыновьям не двух, а трех жен. Ланьгук никуда не денется, она, еще не родившись, предназначена была роду Кевонгов. Наукун на семь ань старше Ыкилака. А пока Касказик в силе, он объедет стойбища, доберется до самых отдаленных, куда не проникали даже его предки, и найдет, конечно же, найдет двух женщин, пусть не очень молодых, пусть не очень красивых, пусть даже горбатых, но двух. И, пока Ыкилак и Ланьгук подрастут, Наукун уже будет иметь нескольких сыновей от обеих жен! Нескольких сыновей! И дерево Кевонгов пустит новые ветви! Вот почему двенадцать ань назад Касказик привез в А-во младшего сына. Тогда детям оголили ноги и обвязали их чныр-травой. Так символически соединили Ыкилака и Ланьгук. После этого обряда Ланьгук уже принадлежала не вообще роду Кевонгов -- Ыкилаку. С угрюмой настойчивостью Касказик пытался осуществить свой план. После осенних пеших походов он ненадолго задерживался в то-рафе. Снова оставлял жену и детей, гонял упряжку от стойбища к стойбищу, возвращался уже по насту. Измученный долгими, бесполезными поездками старейший отвечал на немой вопрос жены виноватым взглядом. И в такой миг этот своевольный властный человек казался жалким, беспомощным. Талгук ничего не спрашивала, только жалела мужа тихо, ненавязчиво, как умеют жалеть нивхские женщины. В дальних своих поездках Касказик понял, что смерть грозит не только его роду. В некоторых стойбищах ему рассказывали: в таком-то роду еще несколько ань назад было двадцать человек. А теперь только шестеро. В другом же роду всего трое. Касказик ужаснулся: нивхи, похоже, вымирают! Они чувствовали беду, как птицы изменение погоды, и по-своему принимали спасительные меры. Едва появится у кого дочь, тут же совершают обряд чныр-юпт, а некоторые имели по две или даже по три жены. Но это доступно лишь людям крупных родов: за женщин теперь так много заламывают, что только Могущественный род может собрать требуемый выкуп. Узнав, что Касказик из маленького рода, с ним и вовсе прекращали разговор: кому интересно иметь слабых и бедных ымхи! Так жестоко время расправилось с планами старейшего Кевонга. Четыре ань назад, когда он узнал, что Ланьгук уже могла бы родить, сказал жене, что поедет рыбачить на дальнюю тоню, а сам примчался в А-во. Между старейшими состоялся разговор. И по сей день Касказик помнит каждое слово. Он (умоляюще): "Нгафкка, я затеял обряд чныр-юпт, я и нарушу его. Отдай мне свою дочь: она станет женой Наукуна". Эмрайн (настороженно): "Где это видано, чтобы нарушался кровный обряд?" Он (упавшим голосом, настойчиво) : "Это нужно, чтобы мой несчастный род быстрее окреп". Эмрайн (пугливо и неуверенно): "Курнг может возгневаться". Он (все так же умоляюще): "Курнг не щадил мой род. Сколько бед натерпелись! Теперь мы достойны его жалости". Эмрайн (так же пугливо, но решительно): "Нет! Я не ищу гнева Курнга! Ты хочешь, чтобы и мой род постигла твоя участь". Касказик вернулся назад сам не свой. Домашние сочли, что рыба не пошла в ловушки. Вот так и случилось, что Ланьгук окончательно должна стать женой младшего сына при живом и неженатом старшем. Касказик сидел на сложенной дохе, откинувшись назад и прислонившись к краю нар. Такую же позу принял и его сын. Старик ждал, когда ему подадут табак. Эмрайн протянул кисет младшему своему сыну Лидяйну и тот положил его на колени гостю. Касказику не понравилось, что хозяева заставляют его ждать. Закон гостеприимства требует, чтобы кисет положили перед гостями сразу же, как те поедят. Касказик пошарил рукой под халатом, где-то под мышкой нащупал трубку, вытащил, набил листовым табаком. Передал кисет сыну. Ыкилак тоже набил трубку, подошел к очагу, нашел сучок с тлеющим концом, подал отцу. "Что же это такое? -- возмущался про себя Касказик. -- Разве так обращаются с людьми из рода ымхи! Что все-таки произошло?" Женщины у очага молча чинили одежду. Женщинам света белого не хватает на их нескончаемые большие и малые заботы. Мужчины медленно курили. На их угловатых скулах играло пламя очага. Чем больше тянулось молчание, тем явственнее ощущалось напряжение. Неуверенность тяготила Ыкилака. Он целиком полагался на отца и бросал изредка на него вопрошающий взгляд. Ланьгук, та самая Ланьгук, при одном воспоминании о которой будто головой зарываешься в благоухающий багульник, сидела спиной к нему и, склонив маленькую головку на грудь, рассматривала узоры на полах халата, теребила кончики толстых кос, спускавшихся к бедрам, и по-детски шмыгала носом. Как самый младший член семьи, она не была обременена заботами Ыкилак смотрел на Ланьгук, и во всех подробностях встала перед ним их встреча у Вороньей ели.
Это птенчик, это птенчик выклюнулся из яйца. Это птенчик, это птенчик крыльями затрепетал. А гнездо мое качают ветры злые, и пугает темь ночная. Только крики страшных духов слышу я Упадет на землю птенчик -- крылья сложит и неслышно затаится между кочек Будет ждать покорно птенчик, как над ним сомкнутся копи, и от крыльев, и от крыльев пух и перья полетят. Где же тот, кто в небо бросит неокрепшего птенца? Неужели ты забыла, когда родилась эта песня? Прошлая осень выдалась теплая, солнечная. Природа будто перепутала времена года, и вместо осени пришло весеннее тепло. Воздух был наполнен земными запахами, травы благоухали терпко, по-весеннему. Птицы сытно и беззаботно цвиркали в воздухе, кустах, траве. Будто им не надо сбиваться в стайки, чтобы покинуть наши края, куда скоро придут холода. В воздухе висели утренние паутинки. Они сверкали, переливаясь на солнце. В тот год был большой ход кеты. Едешь по Тыми, и на каждом мысу -- возведенные на скорую руку вешала. Они отдавали белизной свежей рубки, но были сплошь завешаны гирляндами красной распластанной рыбы. В мире ничего нет красивее увешанных юколой вешалов! Юкола обильно вбирала в себя солнце, становилась частью солнца, чтобы в самую стужу съел ее человек -- и стало ему сытно и тепло. Когда у нивха солнечная юкола, его обходят болезни и неудачи Тогда и вы, люди А-во, и мы, люди Ке-во, набили свои амбары под самое корье плотными душистыми связками отлично провяленной юколы. А потом вы приехали к нам на лодке. Мужчины -- чтобы в Пила-Тайхуре ловить осетра, а ты за брусникой. Ее, брусники, в ту осень уродилось как никогда. Все сопки вокруг были осыпаны крупной, темной, как сгустки крови, длинноветвистой таежной ягодой. Вечером мы вытащили из Пила-Тайхура огромного, в полтора моих роста, жирного осетра, и все, кто находился в стойбище, вышли на берег каждый со своим ножом и вдоволь наелись. Ты подошла ко мне и подала маленький, узорчатый туес, полный брусники. Потом взглянула на меня. Сердце мое забилось совсем по-другому. А ты повернулась и, глядя на меня, медленно пошла из стойбища к Вороньей ели. Твои глаза тянули меня за собой. Ты обвила меня своими тоненькими руками и так прижала к себе, что заломило в спине. А я стоял, как пень. Ты смотрела в мои глаза, а я, теленок-первогодок, от смущения не знал, как поступить. Твои глаза просили, умоляли. Шея и щеки горели. Я почувствовал на губах что-то тонкое, упругое. Это волос твой или паутинка? В ту осень было много ее, паутинки. Надо было целовать тебя, а я перебирал губами паутину. Ты сказала: "Послушай" и тесно прижалась ко мне. Я не понял, что должен услышать. Ты взяла мою ладонь, прижала к своей груди и сказала: "Вот тут слушай". Ладонь ловила частые, сильные удары сердца. А ты тихо и печально пела: Это птенчик, это птенчик крыльями затрепетал. Посмотрела на меня -- в глазах мольба. Но в следующий миг я заметил: ты сердишься. Упадет на землю птенчик, крылья сложит и неслышно затаится между кочек. Будет ждать покорно птенчик, как над ним сомкнутся когти, и от крыльев, и от крыльев пух и перья полетят. Ты пела вполголоса. Я напрягал слух, чтобы не пропустить ни слова -- так они были складны и красивы. Потом будто по голове меня ударило: о чем сказала эта песня? Я глянул в твои глаза. В них -- мольба и отчаяние. Где же тот, кто в небо бросит неокрепшего птенца? Что ты этим сказала? Ты резко повернулась и побежала в стойбище. А я остался. На другое утро вы уехали, увезли с собой большую рыбину -- ночью Пила-Тайхур подарил еще одного осетра Ланьгук, Ланьгук Где тот взгляд, которым ты смотрела на меня у Вороньей ели? Что случилось? -- Офы! Офы! Это прокашлялся отец. Что-то хочет сказать? В то-рафе полумрак. Лишь огонь очага пляшет красной лисой. -- Офы! Офы! -- еще раз прокашлялся отец и резко передернул плечами. Окружающие поняли: нет, не уйти от разговора. Двое старейших должны объясниться. Касказик мудр! От того, как начнет он, будет во многом зависеть, удастся ли ему взять свое. -- Ы-ы-ы! -- тянет Касказик. Как талая ледниковая вода нащупывает себе русло, так и Касказик ищет путь к сердцу ахмалка. -- Ы-ы-ы-ы! -- Сколько память людская живет, столько живут два добрых соседа -- два древних рода: Авонгов и Кевонгов. Кажется, ручей пробил себе русло и помчался уверенней. Касказик перевел дыхание. Голос старейшего Кевонга звучал ровно: Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! С тех пор как солнце восходит в небо, с тех пор как травы усеяли землю, с тех пор как сопки покрылись деревьями и в реки Тайхнад посылает лосося, живут два рода, два древних рода. Живут два рода, два древних рода, собой оживляя долины и сопки, тайгу оживляя делами и речью, собой украшая великую землю, живут два рода, два древних рода. Касказик перевел дыхание, обратился к старейшему Авонгу: Волею Курнга -- Всевышнего духа, род твоих предков стал родом ахмалков. Был он могуч и цветущ, как долина в теплые дни бестуманного лета. Волею Курнга -- Всевышнего духа, род моих предков в ымхи превратился. Добрые наши соседи ахмалки в род наш своих дочерей отдавали. Брали мы женщин и в стойбищах дальних, но лучшие жены -- из Нижнего стойбища. Род наш Кевонгов окреп и разросся, деревом стал он с ветвистою кроной. Быть бы всегда нам могучими, сильными. Нет, отвернулися добрые духи. Видишь ты сам -- здесь не нужен глаз юноши -- дерево гибнет, остались две ветви. Ветви без сока усохнут однажды, дерево черви съедят. Касказик сейчас не тот, каким его знали -- властолюбивый, гордый. Он согнулся, голова свисает на грудь, глаза закрыты, голос печален и глух. Сердце дорогу свою не забудет, травы всегда будут к солнцу тянуться, сопки всегда будут лесом покрыты -- рода Кевонгов не будет Вокруг напряженная тишина. Ланьгук потихоньку смахивает слезы. Псулк, жена Эмрайна, сердито дергает иголку, нитка рвется, и женщина долго мучается, пока дрожащей рукой проденет нитку. Эмрайн нервно теребит бороденку, подслеповато мигает, ссутулясь перед очагом, молчит. Чуть поодаль, в тени, полулежат на нарах братья: Хиркун задумчив и хмур, Лидяйн поглядывает на отца с усмешкой. Ланьгук всхлипнула. Опять тишина, напряженная мучительная. Эмрайн подкинул дров в огонь, и снова тишина. Наконец он выпрямился, словно сбросил какую-то тяжесть. -- Вы, как снег в ясный день. Мы и принять-то как следует не смогли. А Ланьгук, какая из нее жена: плачет и плачет. Дитя совсем. -- Подождем, -- сказал Лидяйн. Сказал так, будто его слово решающее. "Ах ты, сучий выродок, -- выругался про себя Касказик. -- Совсем обнаглел. Будь ты моим сыном, я бы показал, как лезть не в свое дело". Потом старейший Кевонг поймал себя на тоскливой мысли: "Будь у меня третий сын, как бы я благодарил Курнга. Пусть бы даже такой выродок -- все равно". -- Какой из Ыкилака муж -- он и мясо-то не знает, как добыть. "Опять этот негодяй. У-у-у Скажи спасибо, что не мой сын" -- У него жена на второй же день помрет с голоду. -- Заткнись! Это уже гневается Хиркун. Он -- второе лицо в то-рафе. Уж он-то может прикрикнуть на младшего. -- Пусть докажет, что он мужчина, -- обиженно говорит Лидяйн. -- Пусть докажет 
|
Обсуждение:
ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ МАЛО
1649. 10.06.2010 19:24
Глава 21Высокий, худощавый человек размеренно вышагивал по песчаному берегу залива. Лицо, давно не бритое, шея тонкая, худая. Лохматую грязную голову венчала мятая светлая шляпа. Вот уже много лет не расстается с этой шляпой топограф. -- Девяносто семь девяносто восемь девяносто девять Каждую сотню шагов он заносит в тетрадь. А вслед за новыми и новыми сотнями -- на графленом планшете тянется ломаная линия -- берег залива. В прилежащих к низовьям Тыми урочищах обнаружили выходы нефти. Но чтобы приступить к поисковым работам, необходимо было иметь план местности. Известный топограф получил задание покрыть маршрутами нефтеносную полосу побережья. Помощником и проводником он нанял Громовика. Десятки сотен шагов сотни сотен шагов тысячи сотен шагов А в каждом шаге семьдесят шесть сантиметров. Ни на сантиметр больше, ни па сантиметр меньше. Натренированный, выверенный годами точный шаг топографа. -- Сорок пять сорок шесть сорок семь -- Семен Семенович! -- слышится радостный крик. Пятьдесят четыре пятьдесят пять пятьдесят шесть -- Тимоша прибыл! Вон шхуна жмется к берегу. Шестьдесят один шестьдесят два шестьдесят три Топограф словно оглох. Казалось, ударь его гром -- он все так же будет вышагивать и вышагивать. Лишь отмерив последний шаг и внеся запись в тетрадь, Семен Семенович перевел дыхание, вытер шляпой испарину со лба. А ведь не так уж и жарко. -- Послезавтра к полудню придем к Нгакс-во, как раз и замкнем залив. А там -- дальше, -- словно отгоняя какие-то сомнения, сказал Семен Семенович и бросил короткий, усталый взгляд на помощника. -- А там двинемся дальше, Коля, -- повторил он. -- На юг надо идти. -- Здесь проходили Крузенштерн, Бошняк -- А проверить бы их не мешало. У Крузенштерна много приблизительного. Вот Бошняк -- тот все пешком исходил, да на лодках. Но он больше на гиляков полагался. Нет, не пошли топографы на юг. Они появились в Нгакс-во на второй день после пожара. Узнав о случившемся, потрясенный Семен Семенович собрал нивхов и написал от их имени жалобу губернатору. -- Строчишь? -- вызывающе усмехнулся Тимоша. И сам же ответил: -- Строчи! Строчи, коли грамотный. Только ворона, что ли, отвезет твою писулю губернатору? Ха-ха-ха-ха-а-а Тимоша редко смеялся. Озабоченный, он был постоянно хмур. А тут развеселил его этот топограф. Когда, в какие времена жаловался гиляк на кого-нибудь? Бьют его, а он молчит. Грабят его, а он молчит. Молчит, как скотина немая, Только и разница, что на двух ногах ходит. -- Ха-ха-ха-ха-а-а, -- рассмешил ты меня, грамотей. -- Смейся, живодер! -- зло оборвал его Семен Семенович. -- Найдется и на тебя управа. -- Голос у топографа срывался. -- И буду смеяться, -- вдруг посерьезнев, сказал Тимоша. -- Только не ко мне ли в лавку поскребешься? Али гиляку уподобился, сырой камбалой довольствуешься? Семен Семенович понимал: гиляки внимательно следят за их перепалкой, знал, что гиляки относятся к ним обоим настороженно, недоверчиво. И откуда бы взяться другому отношению, когда европейцы только затем и приходили сюда, чтобы грабить. И надо было сейчас, сию же минуту найти такие слова, чтобы гиляк понял: не все они одним миром мазаны. Семен Семенович отвернулся -- в левой части груди побаливало, -- он сделал вид, что полез в карман, просунул руку под куртку, помассировал. -- Живодер, найдется на тебя управа! -- И обернулся к жителям стойбища: -- Кто из вас понимает русский? -- Мой говори мало-мало есть, -- торопливо и громко ответил Ньолгун, словно боялся, что на него не обратят внимания. -- Его говори тозе, -- кто-то ткнул пальцем в Чочуну, который с любопытством наблюдал за происходящим. -- Вы говорите по-русски? -- Семен Семенович только сейчас заметил этого человека, одетого даже щегольски: хромовые сапоги, рубаха с русским вышитым кушаком, на голове лихой картуз. -- Я приезжий, якут. По-ихнему не понимаю, -- объяснил Чочуна. -- Тогда вы, пожалуйста, переведите мои слова, -- обратился Семен Семенович к Ньолгуну. -- Объясните своим соплеменникам, что лавочник Тимоша Пупок дерзко нарушает царское указание, за что ему несдобровать. Там сказано, чтобы вам, гилякам, никто не чинил препятствий в ловле рыбы -- кеты, горбуши, чтобы такие, как этот, -- и он кивнул головой в сторону Тимоши, -- не посягали на ваши рыболовные тони. А Пупок отобрал у вас лучшие. Вот тут, в этой бумаге, -- Семен Семенович ткнул темным, обветренным пальцем, -- я обо всем написал. Чудо свершалось на глазах. Непроницаемые, казалось, безразличные лица нивхов вдруг оживились, потухшие глаза загорелись. Нивхи потянулись к бумаге, словно хотели убедиться в могущественной ее силе, которая способна покарать злодеев и вернуть их тони и сытую жизнь. Эта ночь была для Касказика тяжелой К'итьк -- каторжники, злодеи Пупок -- купец, тоже злодей. И вот -- Семен Семенович Обличьем схожи, крови одной, но такие разные. Никто не защитил бедного Ньолгуна, а этот русский заступился. И не только за Ньолгуна -- за всех нивхов стал За эту ночь старейший Кевонгов переворочал в своем усталом мозгу множество самых сложных мыслей. От стойбища Нгакс-во отошел караван, груженный тюками Чочуны Аянова. Он направлялся в темную островную тайгу. Караван уходил. И никто и не заметил в этой суматохе, как, прислонившись к теплой, нагретой солнцем стене дома, стояла в оцепенении Ольга, младшая сестра Тимоши. Лишь глаза печально смотрели вслед каравану, да нежные губы раскрылись в неслышном вопросе. Ольга родилась в нивхском стойбище. Играла с раскосоглазыми своими сверстниками, бегала с ними босиком по берегу моря, собирала в лесу ягоды. Отец всегда был чем-то занят. Теперь-то Ольга понимает: сколько сил пришлось убить ему, чтобы ни она, ни братья не знали нужды. Ольга любила красные закатные вечера, когда по стойбищу от края и до края перекатывается заунывный вой ездовых собак. Какая-то неизъяснимая тоска в нем. Тоска огромная, беспредельная. Услышав вой во дворе, отец зло оглядывался, энергично заносил руку, будто с маху хотел кого-то ударить, и с перекошенным лицом говорил: "Каторжники". И как-то жалко согнувшись, поспешно уходил в избу и долго сидел там в углу, ни с кем не разговаривал и никого не подпускал к себе. "Любила", пожалуй, не то слово. Просто Ольга не представляла себе жизнь иной, вне этого стойбища. После смерти отца жила Ольга у брата своего Ивана. Целыми днями хлопотала она по дому, радуя своим усердием Федосыо. Хлопотала, а у самой в сердце с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем нарастала горечь. Она теряла сон, аппетит, нервничала по пустякам. "Жанишок ей нужон. Жанишок", -- подтрунивал Тимоша в такие минуты и обещал в следующую поездку в Николаевск найти "подходящего". Но этих "следующих" уже сколько было, а "жанишка" все нет как нет. И когда жители стойбища вышли встречать шхуну, Ольга перво-наперво сосчитала людей на палубе. Трое Она тихо вскрикнула, накинула на плечи шаль, выскочила на берег и вместе с Дуней и Федосьей полезла в воду, встречать долгожданного. Но Тимоша и Иван, как обычно, обняли сестричку и не представили третьего человека. А тот прошел мимо нее, к орокам. "Недосуг, верно". Измученная напрасным ожиданием, на другой день Ольга поймала во дворе Ивана: -- Кто это? -- Кто? -- не понял тот. -- Ну, кто с вами приехал. -- Не знаю. Погостить, что ли, к гилякам. Караван уходил. Караван уходил в тайгу. -- Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Чочуна придержал оленя, оглянулся, кто же это поет? Кешка, старший сын Луки, и Гоша Чинков -- зять и батрак Луки и его сыновей, ехали след в след, и видно было, что каждый занят своими мыслями. Ньолгун замыкал караван. Это он раскачивался в седле, вертел головой по сторонам и пел. "Что за народ -- эти гиляки? -- не переставал удивляться якут. -- Только что у него сожгли дом, а он уже и позабыл о горе своем, поет!" В тайге полно медведей, соболей и всякого другого зверья. Ньолгуну радостно от этого. Над караваном пролетали вороны, сойки и прочие птицы -- Ньолгун разговаривал с ними. Навстречу каравану, раздвинув широко плечи сопок, торопился, подскакивал на камнях ручей. Глава 22 Касказик видел, как встречавшие их жители Нгакс-во вдруг разом отхлынули от берега, словно их унесла волна. И тут же запылала чья-то хижина. Касказик осмотрительно пристал выше стойбища и со стороны наблюдал за событиями. Наукун и Ыкилак бегали смотреть пожар и вернулись озадаченные и удивленные. Их поразило то, что никто в стойбище не осмелился помешать купцу. "Когда же это успели так запугать всех нас, -- подумал Касказик, -- что ни у кого рука не поднялась остановить злодея?" Касказик и в молодости редко общался с жителями морского побережья, мало кого знал, и теперь ловил себя на мысли, которая давно уже засела в его старой голове и которую грех произносить вслух: хотелось древнему корню Кевонгов, чтобы его сверстников Нгаксвонгов не осталось в живых, чтобы ничьи уста сегодня не могли поведать людям о давней кровавой битве. Касказик твердо знал: его род не может жить в одиночестве. Детям древнего рода нельзя без общения с людьми большой и богатой их земли. Древо Кевонгов должно вновь зазеленеть! К некоторому огорчению старейшего Кевонга привели его к деду, который был намного старше самого Касказика. Дед крупный, ширококостный, с большой белой, как полярная сова, головой и прищуренными, слезящимися глазами. Он восседал прямо на голом песке в какой-то неземной отрешенности, словно не видя и не слыша, что творится вокруг. Рядом чернели угли и пепелище. -- Аткычх! Аткычх! [Аткычх -- дедушка, уважительная форма обращения к старику.] -- обратились к нему люди. Дед никак не откликнулся. Кто-то прикоснулся к его руке -- но дед оставался глух. Тогда дернули его за рукав, и дед неожиданно резко вскинул голову. -- А-а-а! -- Дедушка, дедушка, человек к вам! -- Чего? -- Дед приставил ладонь к уху и весь собрался, даже спина выпрямилась. -- Человек к вам. -- Какой человек? -- Старейший рода Кевонгов с сыновьями. -- Как, как? -- Кевонг с сыновьями. -- Какой Кевонг? -- Мы не знаем такого рода. Он сказал: приехал встретиться со старейшим рода Нгаксвонгов. Касказик понял теперь, с кем имеет дело. Орган -- древнейший человек на побережье, старейший Нгаксвонг. А Касказик-то полагал, что его давно уже нет в живых -- Кевонг Кевонг -- старик задумался, что-то припоминая, и вдруг тревожно сказал: -- А разве есть еще такой род? -- резко обернулся и закричал: -- Мылгун! Мылгун! Где ты, мой сын? Откуда-то выскочил и подбежал к нему маленький оборванец. Орган обхватил его обеими руками, рывком усадил рядом, прижал к себе: -- Сын мой! Сын мой! Голос древнего нивха сорвался. И люди услышали рыдание, хриплое и негромкое, горькое мужское рыдание. Окружающие недоуменно переглянулись. Несколько молодых женщин наклонились к седой, дергающейся от плача голове: -- Атк [Атк -- дядя по женской линии, брат матери.], пошли домой. Теперь Касказику все ясно: род Нгаксвонгов тоже на грани вымирания. Их тоже осталось всего трое: старец Орган, Ньолгун и мальчик Мылгун. Но у них много родственников по материнской линии: есть кому приютить, обогреть Мылгуна. И если бы у мальчика было несколько братьев, пожалуй, всем хватило бы невест: вон сколько женщин назвали старика "атк". -- Купим товары и поедем домой, -- сказал Наукун. Касказик знал, почему возникла у старшего сына эта мысль. Он не принимал в счет престарелого Органа и маленького Мылгуна. Ньолгун же покинул старейшего рода и племянника -- оставил на попечение сестер и тетушек. И Наукун решил: никто здесь не знает о Кевонгах, никто не помнит о давнем. Чего же лучше? Часть мехов нужно оставить на выкуп, а на другую -- товары! При этом Наукун пекся не столько о младшем брате, сколько о себе; ведь ему должно теперь перепасть. С богатым выкупом легче найти невесту. -- Сучий сын! -- не оглядываясь, прошипел Касказик, И приказал: -- Ступай, узнай, в каком то-рафе Мылгун. На другой день стойбище Нгакс-во потрясло новое происшествие: какие-то люди, назвавшиеся Кевонгами, передали маленькому несмышленышу, отпрыску рода Нгаксвонгов, неслыханно богатые дары: собольи меха, юколу, оленьи шкуры и новую лодку, сильных ездовых собак, мужскую одежду. При этом Касказик, старейший Кевонгов, молвил: "Пусть ты вырастешь большим и станешь великим добытчиком. Пусть между родами и племенами всегда будет мир. Пусть добрые дела всегда сопутствуют людям. Пусть в твоем роду народятся кормильцы, а не братоубийцы". А потом жители Нгакс-во увидели: от их берега отошли две лодки: Кевонги в опустевшей старой, а во второй, новой, -- русские топографы. За длинными, любовно и мастерски выточенными из лиственницы веслами первой лодки -- крепкорукие Наукун и Ыкилак. Касказик с трубкой в зубах -- на корме, ловко подлаживаясь под гребцов, молодцевато взмахнул рулевым веслом. Люди уже знали, что топографы продолжат свою мудреную работу в долине Тыми, в урочищах рода Кевонгов и других нивхских родов. И еще знали они, что люди во второй лодке везут бумагу, написанную от имени нивхов русским человеком Семеном Семеновичем. Все жители стойбища и гости поставили свои подписи -- замысловатые или простые закорючки. Некоторые по чьему-то совету прижали чуть пониже текста засаленные пальцы -- отпечатки. Когда вошли в реку, где встречное течение усилилось и где потребовалось весла заменить шестами, Касказик перебрался во вторую лодку: он заметил, что русские неумело действуют шестами. Глава 23 Лука не понукал оленя -- верховой знал тропу, шел споро, а на некрутых спусках переходил на рысь. Ничто не отвлекало Луку от его дум -- ни пение несчастного гиллы, ни восторженные восклицания якута ("Ой, сколько рыбы!" -- когда переходили нерестовый ручей, или "Ягоды-то, ягоды сколько!" -- когда двигались мимо рябинника). Якут всего-то и попросил поохотиться вместе зиму. А весной вернется домой. Так и сказал: "Добуду триста соболей -- поеду домой". Чего же не помочь человеку? Попросил человек -- надо помочь. Ведь и Луке помогли люди, не дали сгинуть. И если сегодня он хозяин стада -- пусть небольшого, но стада, -- благодарить надо добрых людей. А этот человек дармоедом же не будет. Богат он: восемь оленей везут его груз. И щедрый: сколько табаку, сахара и чая раздал просто так, водкой всех угостил. Ньолгуну и мне ружье подарил. Пусть себе охотится, добрый человек. А Ньолгун пел. Ему было хорошо. Он благодарил судьбу, несчастье для него обернулось счастьем. Он владелец невиданного ружья -- ни один нивх с побережья не может теперь тягаться с ним. А нагрянут морозы, Ньолгун явится в стойбище, привезет мясо диких оленей. Накормит стариков и детей. Люди увидят, Ньолгун помнит отца своего и его братьев -- были они лучшими на побережье гребцами. Слава о них еще долго жила после их гибели. А лодку, необыкновенно большую и многовесельную, которая за несколько лет успела перевезти столько груза, вытащили и поставили у могил утонувших -- пригодится она им в потустороннем мире. Правда, корма у лодки покалечена. После похорон, когда народ разбредался по домам, старик Орган внезапно, словно взбесившись, рубанул ее топором. Ньолгун видел это своими глазами, но не понял, что привело старейшего в такую ярость. После той большой беды, односельчане редко брали Ньолгуна на промысел нерпы или за рыбой: в роду Нгаксвонгов не было ни промысловой лодки-долбленки, ни охотничьего снаряжения. А какой из безоружного человека добытчик? Тимоша то и дело приглашал Ньолгуна к себе, просил помочь в домашнем хозяйстве. Свободный от летнего промысла Ньолгун охотно откликался на этот зов, -- тем более лавочник угощал необычной для нивхов русской едой -- хлебом печеным, кашей, зеленым чаем с кусочками сахара. А иногда давал с собой табаку на две-три трубки. Ньолгун отдавал старику Органу все гостинцы, пусть хоть на миг отбросит горестную мысль, что внук его -- не добытчик. Одна затяжка крепкого табака могла сделать сердитого человека мягким и добрым А потом, чтобы трубка чаще была набита, Ньолгун стал сам предлагать лавочнику всяческие услуги: дрова поколоть, сено косить. Тимоша держал странных больших животных -- коров. И еще знал Ньолгун, что сородичи перешептываются: мол, приятель он сильному русскому человеку. И хорошо становилось от этого на сердце. И позволял себе Ньолгун в разговоре то и дело такие слова: "Мой друг русский купец Тимоша" Едва переждав лето, Ньолгун уходил в тайгу. Промышлять соболя -- здесь не нужно ни лодки, ни хитрого снаряжения. Силки всего лишь, терпение да ноги. А ноги у Ньолгуна неутомимые. Зверь этот Тимоша. Хуже, чем зверь. И откуда он узнал о моих соболях? Я копил долго, потихоньку, тайно. А он отобрал. Все отобрал, хоть я и не должен ему. И еще дом сжег. Первый у нивхов настоящий дом. Правда, холодный был -- щелей много. Но похож на русский дом. Сколько я сделал для Тимоши: дрова, сено Даже коров его рогатых находил, когда пропадали в тайге! Поди, сам попробуй найди -- заблудился бы, самого пришлось бы искать Зверь ты, Тимоша. Хуже, чем зверь. Теперь Ньолгуну не нужна дружба русского. Теперь Ньолгун сам сильный человек. У него ружье, такое же, как у Тимоши, даже лучше. Хороший человек якут. Хороший. Так, задаром отдать ружье! За такое ружье мне пришлось бы две, а то и три зимы охотиться. А этот задаром. Хороший человек Лука ожидал. И когда подтянулись все, показал палкой на противоположный склон распадка. Чочуна от радости едва не слетел с седла: в кустарнике пасся большой медведь. Даже отсюда видно было, как на его широких боках ходила и лоснилась черная шерсть. Добрый, жирный медведь. Первым желанием было -- пустить оленя вскачь, подъехать к медведю и выстрелить в голову. Чочуна даже отвел пятки, чтобы ударить в бока оленю, но Лука резко схватил его за рукав. Ничего не сказал, только глаза сказали: "Не суетись. Не так надо". Чочуне не понравился взгляд эвенка -- в нем уверенность, превосходство. Ньолгун выдернул ружье из чехла, зарядил. Лука жестами велел Чочуне спешиться. Тот повиновался, но дальше дал знать, -- не нуждается он ни в чьих советах. Бросил поводок в руки Луке и, определив направление ветра, спустился к ручью, чтобы перейти его. Ньолгун шел следом. Охотники перепрыгнули ручей и стали карабкаться по сырому травянистому склону распадка. Ньолгуну хотелось, ему очень хотелось, чтобы первый выстрел, первый в жизни выстрел принес добычу. И, когда медведь, обирая малину, оказался на виду, Ньолгун поднял ружье. Ствол ружья длинный и непомерно тяжелый. Ньолгун еще не знал, что нужно крепче прижимать к плечу приклад. Чочуна тоже остановился. Ньолгун, опередив соперника, дернул спусковой крючок. Он и так нетвердо стоял на крутом склоне, а тут ударило неприжатым прикладом. Чочуна инстинктивно присел -- пуля с жестким свистом распорола воздух, и медведь неожиданно легко подпрыгнул. Пуля ударила низко. Не дав медведю опомниться, Чочуна разрядил ружье: медведь опрокинулся на спину и покатился по скользкому склону. -- Прекрасный охотник! -- восхищался Лука, глядя на Чочуну. Глава 24 Отец будто испытывал терпение Ыкилака, все молчал, и ничто не предвещало, что пора собираться в распадки. Уже прошли осенние дожди. Запоздалые кетины выбрались из Пила-Тайхура, и по высокой воде проскочили галечные косы -- перекаты, тревожа своим шумным трепетом по-осеннему затаившиеся берега. А отец молчал и молчал. Целые дни проводил на своей лежанке, подсунув под спину скатанную оленью шкуру и всякий хлам. Жиденький дымок нестойкой струйкой поднимался от обгорелой трубки, повисал меж лежанками и плотным рядом закоптелых потолочных жердей. Табаку оставалось мало, и Касказик смешивал его с мелко накрошенной чагой. Курево получалось некрепкое. Кевонги лишь в редчайших случаях позволяли себе курить чистый табак. Обычно добавляли примесь из чаги или терпких трав. И чем меньше оставалось табака, тем большую долю занимала в их трубках противная, пустая на крепость и запахи примесь. Лишь когда трава совсем смякла и мертвая легла на потемневшую землю, а по утрам на невыбранном кроваво-красном брусничнике засверкал иней, старик словно очнулся от полусна. В течение дня он починил крошни. Легкие, плетеные крошни Касказика из тонких, прочных на разрыв тальниковых прутьев. Многое можно унести в них. Мать разложила по крошням тугие связки кетовой юколы, положила две плитки чая -- все, что осталось от недавней поездки в Нгакс-во, -- наполнила кисеты куревом. Каждый взял еще по собачьей шкуре и по обтрепанной, облезлой оленьей дохе. Пока мужчины собирались в путь, Талгук приготовила чай, принесла из родового амбара заготовленный вчера мое -- пищу богов, нарезала юколы. Чаепитие длилось недолго. Торопливо отрыгнув, -- значит сыт и пора в путь, -- Касказик поднялся, привязал к крошне Ыкилака латунный маньчжурский чайник, взял в руки короткое копье, и трое мужчин -- весь род Кевонгов -- отошли от полузасыпанного землей то-рафа. -- Подожди, -- позвала Талгук. И по тому, как был ее голос нежен, мужчины поняли: мать обратилась к младшему. Ыкилак приостановился, обернулся, всем видом показывая, что сейчас не время. Талгук подошла к нему, протянула руку -- на ладони упругим кольцом лежали тонкие аккуратно сплетенные силки. Ыкилак шел и рассматривал петли. Волосяные. Теперь уже не сосчитать, из скольких волос мать сплела эти петли. Однако, из десяти-двенадцати. И что это за волосы -- длинные и черные? Правда, попадаются белые Что это? Седина?.. Ыкилак шел, слегка отставая от отца и брата. На плечи его давили крошни, а ноги переступали легко. И на сердце легко. Чтобы не поддаться нахлынувшей нежности, Ыкилак сказал вполголоса: "Когда она успела сплести? Вроде бы и времени-то на это не было". Едва отошли от стойбища, один за другим поднялось несколько выводков глухарей. Большие птицы тяжело взмахивали широкими крыльями, гремели ими, словно горный ручей галькой, и, вытянув шею, уходили восвояси. Вековой, не тронутый ни пожаром, ни человеком лиственничник просматривался насквозь. В нем не было кустов, которые обычно создают густое непроглядье у самых комлей деревьев. Лишь изредка попадались береза или ясень -- словно для того, чтобы глазу было за что зацепиться. Высокий и светлый лес, скинувший уже хвою, встретил молчанием. Ыкилак слышал только свое дыхание да торопливый шорох сухих лишайников под кожаными подошвами. Хорошо идти в лиственничнике. Легко. Не мешают тебе ни кусты, ни болота -- их не встретишь в таком лесу. Копнешь лишайниковый дерн, и всегда наткнешься на крупный песок. Лишь в распадках, где тенисто, где неумолчны студеные ручьи, кряжисто, и, подбоченясь от важности, поднимаются ели вперемежку с березой. Елям есть отчего важничать. Мыши и синицы, соболи и горностаи, выдра и рябчики -- все они любят ельник. Выдра ловит в ключах рыбешку; мышь собирает ягоду и орехи, подбирает остатки от обеда выдры; рябчику нужна ягода, хвоя; соболь ловит мышь и рябчика, лакомится ягодой. Хороши распадки с ручьями и ельниками. Хороши. Но и в лиственничниках много ягоды -- брусники. Дятлы любят такие леса. И соболь заходит в лиственничники. Идут охотники по лесу, у каждого свои заботы. Ыкилак думает об одном: богаты ли нынче их леса и распадки соболем. Будет ли милостив Курнг, пошлет ли в их силки драгоценного зверя. -- Пришли, -- вдруг сказал Касказик. Ыкилак осмотрелся, чтобы убедиться, действительно ли наступил конец пути. Они стояли у развилки быстрых ключей, по обеим склонам распадка теснились ели. Ыкилак и не заметил, когда и где пересекли лиственничник. Скажи ему найти обратную дорогу -- нет, не найдет. Распадок незнаком. Ельник большой. По развилкам он поднимался на склоны сопок. А ниже, там, где ключ терял свою стремительность и дно ручья местами темнело ямами, берега окаймляли кустарники. -- Здесь я был тогда, когда Ыкилак едва ползал на четвереньках. Больше не бывал. И это означало, что отец привел сыновей в богатое угодье, "Солнце не прошло еще всего дневного пути, а мы уже на месте. Не очень далеко", -- обрадовался Наукун. -- Люди так и называют это угодье Ельник рода Кевонгов. Потом Касказик указал на невысокий, ровный, сухой мысок, возвышающийся над ручьем. -- Смотрите, вон жерди -- все, что осталось от нашего балагана. Ыкилак разглядел гнилые, изорванные ветром и снегом жерди, некогда составлявшие остов балагана. Братья перешли ручей по перекинутому от берега к берегу мертвяку -- сухой, еще крепкой ели. Касказик остановился на середине, посмотрел вверх навстречу течению, потом вниз; русло ручья во многих местах перечеркнуто поваленными деревьями и деревцами. "Готовые мосточки, чтоб соболь перебегал". По берегам ручья валялись кости отнерестившейся кеты, в ямах против течения стояли крупные почерневшие, с буры* ми полосками по бокам самцы. Они еще должны найти себе самок Несильные порывы ветра срывали подмороженные скрюченные листья, и те, без летнего кружения, как-то винтом подныривали под ветви и сухим шуршанием тревожили увядшую траву, зеленую подушку из мха в тени вековых деревьев. Снег вот-вот выпадет, а пока Ыкилак чувствовал себя неуверенно, словно слепой, которому на ощупь надо отыскать в лесу тропинку. Снежный покров -- он лучший помощник: смотри, соображай, какой, когда, куда и зачем прошел здесь зверь. Хороший ли, плохой ли добытчик Ыкилак -- и не сказать. Еще маленьким с помощью обрывка сети сооружал ловушки в амбаре для крыс. Здесь требовалось терпение -- крысы, большие и хитрые, вскоре распознали в том обрывке врага и спокойно обходили, грызли юколу в каких-нибудь двух шагах от затаившегося мальчика. Тогда он придумал другое -- деревянный давок с насторожкой. Наделал несколько штук, поставил у прогрызанных крысами щелей. Касказик тогда не поленился -- пришел, полюбовался изобретением сына. "Сам придумал? -- спросил, хотя знал, что никто в их пустом стойбище не мог подсказать малышу. -- Такой штукой не только крыс -- горностаев и белок можно брать. Почти готовая плашка". А через день Ыкилак уже стрелял из лука. У то-рафа долгое время валялась сухая рябина, срубленная для какой-то надобности -- кажется, чтобы выстрогать коромысло. Но деревцо оказалось для такого дела тонким -- вот теперь пригодилось. Касказик выточил связку стрел: легкие, остроконечные -- чтобы стрелять на дальнее расстояние; тяжелые, оканчивающиеся тупым набалдашником, -- чтобы сшибать цель, не попортив ее. Первыми мальчик стрелял рябчиков, вторыми -- бурундуков, которые подпускали близко, на несколько шагов. Оперенные, стрелы хорошо шли к цели, не отклоняясь при несильных порывах ветра. Наукун посмеивался над младшим братом. Зачем лук, когда бурундуков можно шестом бить. В следующую весну Наукун нашел тонкую и длинную черемуху, срубил ее, аккуратно ошкурил и долго, более месяца, сушил на ветру, привязав стоймя к высокой березе. К тому времени Ыкилак истратил почти все стрелы. И Наукун с важным видом использовал младшего брата в качестве загонщика: спрячется зверек в кусты, Ыкилак должен выгнать его на брата, который почти без промаха опускал легкий, послушный шест на полосатую спину юркого зверька. Ыкилаку вскоре надоело быть подручным. Но просить отца он не решался: вечно тот чем-нибудь да занят. К. тому же Ыкилак уже не такой маленький, надо испытать свое умение. Настругать прямые стрелы из колотой лиственницы, как это делал отец, -- не удастся. Зато вдоль речек растет краснотал. Прямые и тонкие ветки можно выбрать для стрел. Ыкилак так и сделал. Нарезал целую охапку длинных, без единого сучка ветвей. Отец научил делать заготовки для стрел. Сперва вымочить в горячей воде, затем подвесить к шесту, привязав к нижнему концу тяжесть, и прутья станут прямые, как натянутая тетива. Ыкилак уже сделал заготовки, очинил концы, но чем оперить -- не знал. Отец снова помог: маховые перья от вороньего крыла мало уступают орлиным. Наукун издевался: "Ворона -- не бурундук, у нее крылья: загоняй не загоняй, все равно под мою палку не полезет". Тогда Ыкилак смастерил Ловушку -- такую, какой ловил крыс. Но понятливые птицы сразу учуяли неладное и не шли ни на какую приманку. "Стрелой добуду", -- упрямо решил мальчик. Но неоперенные, они вдруг сворачивали в сторону или касались ворон боком. "Только пугаешь", -- сердился Наукун. "Прошлогодние стрелы все порастерял?" -- спросил отец. "Поломанные есть. Кажется, две или три". -- "Принеси", -- отец сам и подкараулил ворону. Первый же выстрел оказался удачным -- стрела пронзила ее насквозь. К концу лета Ыкилак овладел луком настолько, что ему не стоило большого труда подстрелить не только бурундука, но и белку. А однажды принес большого черного глухаря. Радости матери не было конца. Талгук все говорила-приговаривала: растет кормилец, растет кормилец. Юноша обычно охотился в лесу вокруг стойбища -- далеко уходить не было нужды. И всегда в первоснежье был с добычей: тогда следы помогали, наводили на добычу или показывали места кормежки Осенний день короток, а Ыкилак, как младший, должен еще заботиться о костре. Эта обязанность поначалу его раздражала. Но ничего не поделаешь. Надо и дрова запасти, и утеплить лапником и сеном балаган. Через два дня и отец, и Наукун вернулись с добычей: отец принес крупного соболя -- самца, а старший сын двух дикуш -- черных рябчиков. Тогда Ыкилак сказал себе: "Все равно мне нужно рубить дрова -- побольше заготовлю -- и не зря пройдут дни". Желание поскорее добыть цепного зверя не давало ему спать по ночам. А отцу вроде бы все равно, что Ыкилак крутится вокруг балагана и дров. Может, думает, что он ставит ловушки после их ухода и возвращается раньше, чтобы вскипятить чай? -- А ты сделал миф-ард [Миф-ард -- "кормить землю", то есть "кормить" духа, хозяина данной местности.], кормил землю? Так и есть. Отец считает, что сын нарушил таежный закон, потому Курнг и не шлет в ловушки зверя. -- Я еще не выставлял силки. -- Хм! -- изумился отец. -- Когда ж думаешь выставлять? -- Не знаю, как ловить: снега ведь нет еще. -- Хм! Ты что же, только после снегопада берешь? -- Да, -- Ыкилак опустил голову. -- А я-то думал Где же ты родился? В тайге? Глава рода никак не мог взять в толк, что сын, его собственный сын, не умеет добывать по чернотропу. Ночью Ыкилак видел сон. Молодая девушка, нарядно одетая, стояла на противоположном берегу ручья и говорила ему, а голос у нее такой же, как у Талгук: "Ты не бойся -- испытай себя. У тебя хорошие силки -- будет удача". Утром после чая отец сказал: "Пошли!" Наукун счел, что это относится к нему, обрадовался. -- Не ты -- Ыкилак! Наукун обиженно глянул на отца исподлобья. -- Ты тоже. До последнего дня отец полагал, что дети его умеют все. Человек, родившийся в тайге, вместе с молоком матери впитывает и умение своих предков. Сейчас он напряг память, вспоминая себя в возрасте Ыкилака. И сказал сам себе: я уже знал все. Передавал ли ему кто-нибудь из старших свое знание? Просто Касказик смотрел, как делают взрослые, и старался поступать так же. Потом тайга сама научила. Соболь, обходя хитрые ловушки, сам учил добытчика, как его ловить. И дети Касказика должны все уметь. Но оказалось -- нет. Как же получилось, что они не знают чернотропа? Потом вспомнил, что в последние годы, едва покончив с заготовкой юколы, срывался в дальние походы. Брал двух ездовых собак и уходил через сопки в отдаленные стойбища искать невест для сыновей. Странствовал долго. Съедал всю пищу, взятую с собой. Изнашивал одежду и обувь. Обменивал соболей на одежду и еду и ходил, ходил, ходил. От перевала к перевалу, от залива к заливу, от стойбища к стойбищу, от рода к роду. Добрые люди принимали путника. Угощали чаем и табаком, обменивались родовыми преданиями, стелили ему постель, сочувствовали его горю, но дочерей не отдавали. В дальних странствиях Касказик убедился: чем горестнее молва, тем быстрее ее полет. О роде Кевонгов, вымирающем роде, знали даже в самых отдаленных уголках земли нивхской. Заросший, измученный, с тусклыми глазами, возвращался Касказик домой уже по глубокому снегу. Он шагал сквозь тайгу, через нехоженые горы. Как находил он свое крохотное стойбище -- известно лишь богам, добрым и милостивым, хранящим несчастного человека. И сыновья, предоставленные самим себе, каждый как мог постигали законы тайги Касказик подвел сыновей к уродливой чепемухе, перекинувшей свой кривой пестрый ствол через ручей. -- Смотрите! Братья удивленно оглядывали дерево. Ничего не найдя, старший отвел глаза. Дурак дураком! Касказику стало до боли обидно за свои горькие неудачи, пустые далекие походы, насмешки недобрых людей. Обидно за попусту истраченное время. За то, что его сыновья, такие взрослые, ведут себя в тайге, как дети. -- Болван! Болван ты! Касказик едва не заплакал и, желая хоть как-то свалить с души непосильную тяжесть, замахнулся и ударил старшего. Чтобы успокоиться, ему потребовалось много времени. Такого с ним еще не случалось. Расстроится, бывало, разойдется, но остывал, отходил быстро. А сейчас он горестно смотрел на старшего сына. И сыновья видели, как ему тяжело. Ыкилак стучал носком по обнаженным корням черемухи и слушал шуршащий тупой звук. Наконец Касказик взял себя в руки. Но еще дышал часто и шумно. -- Подойдите ко мне! -- сипло сказал старик. Сыновья подошли, напряженные в ожидании. -- Соболь, он ходит широко по тайге. Но есть у него любимые места, где он охотится, есть любимые места -- где спит. И переходит ручьи по одним и тем же мосткам. Вот это дерево. Смотрите: чуть выше и здесь. Видите, кора сбита? Это соболь. Один и тот же соболь. И тут открылась перед Ыкилаком одна из тайн тайги. Оказывается, зверь ходит по своим охотничьим дорожкам след в след не только зимой, но и летом. Только летом не всякий увидит в тайге следы. Хвоя, остатки мертвых деревьев, сухие опавшие ветви образуют подушку, на которой следы мелкого зверя не заметны. Надо быть очень наблюдательным и хорошо знать тайгу, чтобы и летом видеть ее, как зимой. А Ыкилак считал, что зверь ходит по своему следу только зимой и лишь оттого, что пробиваться сквозь целинный снег тяжелее, чем идти по готовой тропе. И еще полагал, что тропа потому плотная, что топчет ее не один зверь. Конечно, любой зверь может воспользоваться и чужим следом. Но у каждой местности -- свой хозяин. Он пробил след -- он и ходит по нему. Других он просто-напросто гонит из своих владений. Отец показал летний след соболя. Значит, не только глубокий снег причина тому, что зверь идет по своей тропе след в след. Ыкилаку словно развязали глаза, теперь он знает: земля, черная бесснежная земля, на которой и не видно следов, тоже может помочь. -- Ставьте петли. Только не забудьте сделать миф-ард, -- отец хотел уйти, но передумал. -- Вместе покормим землю. Принеси, -- кивнул он головой. Ыкилак понял, к кому относится последнее слово. И знал, что от него требуют. Он сбегал к стану, принес завернутый в бересту мос -- студень с ягодой, сушеные клубни сараны, немного юколы, щепотку табака и маленький кусок плиточного чая. Касказик взял все это в руку, повернул ладонь в сторону сопки за распадком и обратился к Ызнгу -- хозяину местмости: -- Мы к тебе пришли. К доброму хозяину богатых угодий. Дали бы тебе больше, но мы бедные люди. Покормили бы лучше, но у нас нет. Бедные люди мы, неимущие люди мы. На, прими. Делимся с тобой последним. Не серчай. Сделай, чтобы нам было хорошо. Бедные люди мы, неимущие люди. Чух! Касказик швырнул под куст приношения, повернулся и молча прошествовал к шалашу. Глава 25 Наукун сказал, что попробует поймать соболя -- хозяина кривой черемухи. Ыкилак нарубил дрова, принес воды и тоже отправился искать переходные мостки. Он вышел к реке в стороне от той самой черемухи. И тут сперва услышал странный звук -- кто-то бил по ветвям. Потом увидел, как над кустами стоймя плывет тонкий березовый шест. Так оно и есть: Наукун! Он хранил в тайне свой, не очень солидный для добытчика, способ охоты. Шест прятал в лесу, чтобы не навлечь насмешки отца и брата. Ыкилак обошел куст шиповника. Наукун выглядел со стороны смешно. Ссутулившись, он вышагивал, словно цапля. Шест, который держал на полусогнутых руках, раскачивался вместе с охотником. Наукун преследовал дикуш -- смирных, лишенных страха черных рябчиков. Они крупнее обычных и живут в чернолесье, в одиночку или парами. Уважающий себя нивх не трогает этих божьих тварей. Они, как бедные сироты из старинных тылгуров-легенд, очень доверчивы и, увидев человека, тянут шею навстречу, словно спешат узнать, что доброе несет он им. А Наукун от усердия и жадности затаил дыхание. Вот он коротко взмахнул и ударил. То ли слишком напряженно дернул шест, то ли волновался от того, что добыча близка, но шест скользнул по хвосту дикуши, и птица, вместо того, чтобы убираться подальше, перелетела на следующее дерево, села повыше и, вздрагивая побитым хвостом, вновь повернулась к человеку. Наукун рванулся было, но тут же споткнулся и с маху упал. Раздался треск. "Неужто расколол себе череп?" -- у Ыкилака похолодела спина. Но брат вскочил, схватил шест -- тот был переломлен пополам. Наукун покрутился на месте. С какой-то тупой злостью оторвал свисавшую половину шеста, отбросил в сторону. Подошел к дереву -- дикуша сидела высоко, не достать. Наукун все же нашел выход из положения. Прислонил обломок шеста к пихте, на которой сидела птица, обхватил шершавый ствол руками и ногами, поднялся до первого сучка, ухватился за него обеими руками, подтянулся. Сучок предательски треснул, и Наукун полетел вниз. Он катался по земле, выл от злости, от боли и бессилия. Ыкилак хотел подбежать, чтобы помочь, но остановился: обойдется. Осторожно отступил и, скрываясь за деревьями, пошел своей дорогой. Перебрался в следующий распадок, по дну которого протекал небольшой ручеек. Берега сырые, но не топкие. Сквозь гальку пробивалась редкая трава. Береза и ольха, рябина и чуть повыше -- ель и пихта -- лес хороший, доброе угодье. Ыкилак оглядывал лес, когда услышал жесткий частый треск. Оказалось, едва не наступил на выводок каменных глухарей -- паслись на берегу ручья и на галечном островке, который разбивает ручей на две упругие струи, похожие на извивающиеся косы Ланьгук. Ниже этого крохотного островка струи вновь соединялись. Испуганные большие птицы, едва добравшись до ближайших деревьев, расселись на ветках и с высоты поглядывали на человека, словно решая, как быть, опасаться ли этого двуногого или не обращать внимания. Ыкилак оставил глухарей в покое и пошел искать мостки. Их много -- перекинутых через ручей деревьев. Но только на нескольких нашел он то, что искал: по коре видно, что этими деревьями пользуются соболи. Первое -- наклоненная ольха -- сразу у галечного островка, второе -- береза. Ыкилак насторожил силки -- по три на дерево. Затем решил: глухарь тоже сделает ему честь, тем более, что еды с собой всего дней на пять-шесть. Поставил петли на галечном островке, привязав их к кольям, вогнанным в гальку. Галька уже оделась ледком, и пришлось повозиться изрядно. Глухарь -- он бродит по всему островку, клюет мелкие камешки -- должен запутаться в петлях. Юноша вернулся к стану, когда день уже угасал. Костер горел без дыма -- кончался. Поодаль, с наветренной стороны на вертелах томилась распластанная кета. А рядом -- тоже на вертелах -- мясо. Значит, отец и Наукун ели. -- Ну, что видел? -- осведомился старший брат. Он величественно восседал на коряжине рядом с кучей еловых веток. Ыкилак прежде, чем ответить, подумал: "Зачем так много лапника?" -- Ничего, -- Ыкилак с трудом сдерживал смех -- перед глазами всплыла охота за дикушами. Отец, закрытый шалашом, что-то мастерил. Ыкилак обошел кругом -- Касказик сооружал лабаз. "Медведь? Олень? Но как взял? Ведь у него -- только нож и петли?" Ыкилак подошел к куче лапника, приподнял ветви: да, мясо, темно-розовое оленье мясо. А вот и шкура -- постелена на землю, и мясо грудой лежит на ней. У Наукуна вид такой, словно это он добыл. -- Чего сидишь? -- в голосе отца слышалось недовольство. И Наукун стал сдирать с лиственниц кору -- ею покроют лабаз. Ыкилак с наслаждением съел целый вертел оленьего шашлыка, заел кетовой головой и подошел к отцу -- чем помочь? -- Притащи жердей. Когда в небе появились крупные звезды, лабаз был готов. А к тому времени, когда пробились и мелкие звездочки, мясо разрубили на куски. Легли спать поздно. Ыкилак оказался посредине, и ему было тесно. Он знал: ворочаться в шалаше не принято -- мешаешь другим. Но Ыкилаку не спалось не потому, что тесно: так было и вчера, и позавчера. Его терзал вопрос: как добыл отец оленя? Не задушил же руками и не убил же палкой. Олень настолько чуток, что слышит шорох мыши на противоположном склоне распадка. Олень так зорок, что видит не хуже орла. Олень так быстр, что за ним не угнаться. -- Отец, -- тихо позвал Ыкилак. -- Вот стукну, будешь знать, как мешать, -- пригрозил Наукун. -- Отец, -- снова позвал Ыкилак. -- Ыйть! -- сердито прикрикнул Наукун и больно ткнул кулаком в бок, отвел руку, чтобы ткнуть еще, но тут послышался голос отца? -- Что, сын? -- тихо спросил он. -- Как оленя достал: яму вырыл? -- Когда и чем? -- По голосу было ясно, что вопрос позабавил старика. -- Знаешь, как медведь ловит оленей? -- спросил в свою очередь Касказик. -- Так то медведь, -- сказал Ыкилак. -- Нет, ты ответь: знаешь, как медведь ловит оленей? -- Подкрадывается, когда тот разгребает ягель. Да подходит так, чтобы не попасться на глаза другому оленю, сторожу. -- Я тоже подкрадывался, когда олень слышал только себя, и тоже так, чтобы не видел сторожевой. -- Но ты ж не медведь. -- А сделал то же самое, что медведь. Только дождался, когда олень оторвал морду от ягеля. А когда услышал и оглянулся, нож уже торчал в боку. Глава 26 Когда завтракали, Ыкилак обратил внимание на то, что в стане у них нет дикуш. "Так и не раздобыл, бедняга", -- посочувствовал он брату. Юноша оглядел лабаз, хорошо, что вовремя покормили Курнга -- оценил он их усердие и послал удачу. Теперь бы еще одного оленя, и весну можно встречать спокойно. Проходя мимо того места, где Наукун охотился, Ыкилак увидел у одного мостика подвешенную вверх ногами дикушу. Значит, решил ловить на приманку. У второго перекинутого через ручей дерева тоже висела дикуша. И у третьего. "Наверно, перебил весь выводок. Рад стараться. Дикуш и так мало. Добытчик называется. -- Ыкилак рассердился. -- Пусть берет глухарей, их в лесу, как ворон у стойбища. Не умеет ловить настоящих птиц, вот и гоняется за дикушами". Наукун шел впереди, победно поглядывая на брата, словно соболя уже лежали в его заплечном мешке. "Сперва добудь, а потом задавайся. Невидаль какая -- дикуши! Тьфу!" -- плюнул Ыкилак. Потом подумал: "Если Курнг благоволит тебе -- пошлет в петли соболя. К чему тогда приманка?" У отца был простой план: окружить стадо оленей и очень осторожно, используя ветер, подкрасться как можно ближе. Первый, кто подойдет на расстояние верного удара копьем, должен поймать случай. И, не дожидаясь остальных, бить зверя. Стадо в панике замечется. И тут может еще подвернуться удача. У всех троих копья. Но только у отца -- стоящее. А сыновья приспособили охотничьи ножи: привязали их крепко к длинным черемуховым черенкам. Отец вышел к широкому распадку, где накануне достался ему олень. Растревоженное стадо покинуло угодье, но Касказик по следам определил, где искать. И действительно, за несколькими поворотами открылась просторная круглая марь, на которой паслось стадо. Ыкилак быстро пробежал глазами -- голов тысяча. А по краям мари в лесах шевелились еще рога. Окружить стадо -- не выйдет: троим это невозможно. И Касказик принял решение. Углубиться в лес с заветренной стороны, разойтись так, чтобы, подходя к мари, охватить большую группу оленей. Среднему нужно будет потревожить их -- те побегут и, прикрываясь кромочным лесом, попытаются уйти в сопки. Они наткнутся на затаившихся с краю охотников, тогда уж не зевай. Касказик отправил старшего сына вправо, младшего -- влево, а сам остался стоять на месте. "Только очень осторожно", -- были его последние слова. Старик выждал время и уверенным, но мягким шагом направился в сторону мари. Первого оленя он увидел вскоре. Молодую самку. Она стояла на маленькой полянке, легко разгребала передним копытом снег. Поодаль паслись еще самки и три самца -- упитанных, крупных. Но к ним не подойдешь -- сколько сразу ушей и глаз! Касказик внимательно оглядел лесок. Одинокий олень лежал удобно: головой на марь, глаза, похоже, закрыты. К тому же, он не был крайним -- за ним, несколько в стороне паслись две самки. Значит, чувствуют себя спокойно. Нужно только обойти ту, что ближе. Полянка маленькая, окруженная кустарниками. И Касказик сообразил, как ему поступить. Слабый ветер относил запахи назад и чуть в сторону. Касказик прополз меж кустами в нескольких шагах от оленя. Тот и ухом не повел. Впереди -- завал. Надо подбираться долго, терпеливо Наукун застыл, прислонившись к дереву, и смотрел не мигая. Огромный олень, однако, самый крупный в стаде, с большими тяжелыми рогами, уставился в сторону леса и тоже смотрел не мигая. Ему казалось подозрительным еле слышное шуршание, повторившееся несколько раз. Что бы это могло быть? Наукуну незаметно бы отступить. Но олень так огромен, охотник еще не встречал такого. Нужно стоять, как дерево, и тогда можно усыпить внимание. Так Наукун и сделал -- стоял долго, без малейшего движения. Олень поскреб задним копытом гривастую шею. До мощной лиственницы, за которой можно спрятаться, -- всего два шага. И тут олень резко обернулся и поймал глазами человека. Нет, он не слышал ни треска сучьев, ни шороха -- их не было. Просто долгие годы владычества и охраны громадного стада научили слышать неслышное, видеть невидимое. И владыка перед тем, как опустить чуткую морду на душистый ягель, повернул ее и застиг человека в крайне неловкой позе -- тот заносил ногу в шаге. Олень не сразу побежал. Оглядел стадо и, когда убедился, что все на ногах, пошел неторопливо. Так за многие годы сотни раз поднимал он и сотни раз уводил их от опасности Касказик благополучно одолел обе валежины: через первую пролез, а под второй прополз. Олень продолжал лежать. Уже можно было бросить копье. Но только длинное. Нет уж, лучше подобраться вплотную. Никто ведь не мешает ему, никто не торопит. То ли почудилось Касказику, то ли в самом деле он расслышал: вроде вдалеке раздался глухой хриплый рык. Неужто? В следующее мгновение оленя, до которого уже можно было дотянуться кончиком копья, не стало. Он исчез мгновенно. Только топот, сотрясающий землю. И тут перед глазами старого охотника запрыгала, заходила, замелькала тайга с ее травянистыми, бурыми мшистыми марями, ощерившимися чернолесьем сопками, с быстроногими рогатыми оленями: светлыми и бурыми, серыми и пестрыми Все. Это все А олени мелькают, мелькают, мелькают. Вот и хор -- владыка. Он гнал стадо через марь -- вывел его на открытое место, чтобы удобнее было определить и оценить опасность. Он не бежал во главе стада -- там был другой, пестрый, тоже большой и сильный. А владыка шел поодаль, останавливался, поджидая отставших. Касказик еще мог бросить копье -- отставшие олени пробегали совсем близко. Но он, как завороженный, впился глазами в владыку. И восхищался старик не могучестью хозяина стада, не его сильными ногами или раскидистыми крепкими рогами. Старый, опытнейший добытчик стоял в непонятном оцепенении и шептал: "В прошлый раз мне удалось победить. Сегодня ты мне не оставил ничего. Сегодня ты победил! Меня и моих сыновей. Ты мудр, владыка! Мудр и велик! Сегодня ты победил" Телята и самки сгуртовались в середине, хоры вышли на край. Там, где кончается болото и начинается тайга, владыка возглавил стадо. Касказик знал: теперь он надолго уведет его. Далеко, за перевалы. Туда, где не ступает человеческая нога Ыкилак был уверен: и сегодня они с добычей. Он видел, как олени всполошились. Так бывает, когда их потревожат. Но что поразило юношу: никакой паники. Олени, словно ведомые чьей-то могучей рукой, сбежались к середине мари, сбились в стадо и в небыстром беге исчезли в сопках Отец-то должен взять своего оленя "Похоже, я согнал стадо, -- томился Наукун. -- Надо же было выйти на вожака! И почему не послушал себя: ведь хотел оставить в покое этого проклятого хора, найти другого. Его бы все равно не взял, раз уж насторожился. Надо было другого брать". Братья почти одновременно подошли к отцу. Ыкилак увидел его понуро сидящим на валежине. "Сердитый. Не я один виноват, все трое охотились, -- оправдывал себя Наукун. -- Молчит. Стоит мне подойти, драться начнет. Он такой: всегда найдет виноватого". Услышав шаги, Касказик поднял седую голову -- облезлая коса поползла по спине вниз. Касказик вздохнул и сказал только: -- Запомните эту марь. Богата она всякой ягодой и ягелем. Вокруг в лесах и на сухих буграх посредине полно грибов. И все деревья вблизи окутаны мхом-бородачом. Олень любит эту марь. Пасется здесь и летом, и зимой. Потопчет марь, уйдет. Но едва оправится ягель -- вернется. Оленья марь называется. Запомните. Охотники вернулись к стану каждый своим путиком -- промысловой тропой. Касказик принес двух соболей, темных, хорошо вылинявших. Наукун оказался удачливее -- трех. "Когда успели попасться: ведь утром петли были пустые, одни дикуши болтались над ними?" -- сокрушался Ыкилак, прикидывая, как сделать, чтоб соболь не обходил его ловушек. Он принес глухаря -- тот запутался ногой в петле. В глухаре мяса много -- на всех хватит. Но как поймать соболя? Через день и отец, и Наукун принесли еще по соболю. У Ыкилака петли оказались сбитыми. -- Отец, а ты как ловишь: на приманку? -- спросил Ыкилак. -- Нет, -- отозвался Касказик. -- На переходах. И на следу. "Снега нет, а он следы разглядел", -- затосковал Ыкилак, а отцу сказал: -- Наукун развесил приманки. И старый охотник ответил то, что ожидал Ыкилак: -- Если Курнг не поможет, добычи не будет. Ыкилак вернулся в распадок и у первого попавшегося трухлявого пня бросил жертву: клубни сараны и юколу. -- В прошлый раз мы с отцом плохо накормили вас, не серчайте. Сегодня я кормлю хорошо. Вот, берите. И простите меня. Глава 27 До снега Ыкилак поймал только одного соболя. В первоснежье юноша вдруг увидел: соболь крутится у трухлявого пня, где оставлена жертва. "Их прислал добрый дух. За жертвой. Еще принесу". Но юкола кончилась, и Ыкилаку попалась в ручье только снулая отнерестившаяся кета. Он положил ее туда же, у пня. После снегопада Ыкилак снял двух соболей -- на мостках. Определив по следам, откуда и куда Шли эти зверьки, подгоняемый смутной догадкой, он ринулся к трухлявому пню: да, снег вокруг истоптан, изрыт. Галечный остров тоже подарил Ыкилаку добычу. Но глухарь, запутавшийся в силках, был без головы -- соболь отгрыз. Ыкилак не тронул птицу, -- раз уж соболь облюбовал этого глухаря, пусть доедает. Он был рад, что угодил соболю. Нет, нет, Ыкилак не тронет птицу. Он только расставит рядом силки. Касказик доволен -- сезон начался удачно. Снег еще не выше щиколоток, а на троих уже восемнадцать соболей. Оба сына приносят хорошо. Научились ставить петли. И, когда ударили морозы и выпал большой снег, старик решил -- пора уходить из тайги. Сюда вернется кто-либо из троих. На лыжах. Напрямик через сопку -- не долго идти: за день без особого труда обернется. Но тот, кто станет здесь охотиться, должен знать места. Начали с распадка Ыкилака. Касказик обратил внимание на то, что младший сын ставит иначе, чем он. Касказик не трогает соболей там, где кладет жертвоприношения. Соболя уносят их духам. И место это священное. Касказик не топчет, ставит ловушки на переходах, и зверьки попадаются в петли по пути туда. А Ыкилак ловит прямо на священных местах. Это грех. И если Ыкилаку сходит с рук и его ловушки все же с добычей -- значит, Курнг не в гневе на него. Наверно, потому что Ыкилак молод: не все молодые чтят законы тайги. Старому добытчику, конечно бы, не простилось. На тропе Ыкилака насчитали двадцать ставок. Сегодня сняли одного соболя. Тропа Наукуна длиннее -- два распадка. Ловит он на переходах, как учил отец, но тоже вот полез на святые места. Касказик поморщился. Будь они не на промысле, где грех ругаться -- духи могут услышать и отвернуться, -- показал бы им, как нарушать обычай. Но ведь можно сказать и спокойно. И тут его внимание отвлек какой-то шорох в заснеженных кустах. Наукун вырвался вперед, сломя голову бросился в кусты и заорал истошно. Крупный черный соболь бился в его руках. Глаза у зверя страшные, клыки острые, а между белыми зубами -- кровь. От дикой боли юноша потерял рассудок, так дернул руку на себя, что порвал силок. Соболь почувствовал свободу и, круто изогнувшись, отпрыгнул далеко. Наукун, уже забыв о боли, бросился вслед за соболем, но куда там: только того и видели. Касказик недовольно сказал: -- Жадность доводит до безумия. Чего хватать голыми руками? Можно было придавить палкой. Наукун осторожно поддерживал раненую руку, крутился на месте и выл то ли от боли, то ли от досады. -- Замолчи! -- прикрикнул Касказик. -- Сам виноват. Наукун продолжал выть. -- Да перестань же! Лучше отсоси кровь, а то потеряешь руку. Жадность доводит до безумия, -- сказал Касказик, но тут же подумал: "И Наукун старается не для себя одного -- для всего рода старается". И старый Кевонг пожалел сына-неудачника. Но в следующий же миг внутренний голос вновь заговорил: "Какой же он неудачник, соболи сами лезут в его петли!" -- Отсоси кровь, -- мягко повторил Касказик. -- Больно, -- простонал Наукун. -- Делай, что говорят! -- властно произнес отец. Наукун шел и плевался, оставляя на снегу красные пятна. В следующем распадке сняли соболя -- не очень черного и среднего по размерам. Касказик на какое-то время забыл, что сыновья ставят силки не там, где надо. -- Уже крови нет, -- не то радуясь, не то жалуясь, сказал старший сын. -- Теперь приложи снег, -- посоветовал старик. -- А вернемся в стойбище, прижмешь подорожником. Мать насушила много этой травы. По пути домой между братьями разгорелся спор, кому охотиться в Ельнике. Уж очень приглянулся он обоим. -- У тебя нет лыж, -- говорил Наукун. -- Врешь. Есть лыжи у меня, только одна сломана. Но я починю, -- твердо сказал Ыкилак. -- Пока починишь, снег завалит все ловушки. Их надо поправлять каждый день. А если и починишь, лыжина все равно не выдержит: вон какие крутые сопки. Это был серьезный довод. И Касказик произнес решающие слова: -- Чего спорите? Кто будет проверять ловушки -- неважно. Весь соболь пойдет на выкуп. Пусть Наукун бегает. У Наукуна что-то не ладилось. Он сокрушался, просил у отца совета. Говорил, что не совершил ничего такого, чтобы разгневать духов -- хозяев охоты. Ыкилак и Касказик ловили вблизи от стойбища. У них добыча была хоть и не такая обильная, как в Ельнике, но все же. Скончался месяц Лова, народился Холодный месяц [Месяц Лова -- ноябрь; Холодный месяц -- декабрь.], а Наукун так и не приносил ничего домой. Касказик сказал тогда: -- Зря ноги бьешь! Лови, как и мы, вокруг стойбища. Наукун не сразу нашелся: -- Послезавтра еще раз схожу. Если не будет ничего -- брошу. Но он принес двух соболей.

|
Обсуждение:
ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ МАЛО
1650. 10.06.2010 19:20
Глава 16В конце второго дня, пройдя мимо нескольких таежных стойбищ, люди Ке-во выплыли к местечку Чачфми. Крутая береговая терраса разрезана здесь родниковыми ручьями. Еловое темнолесье тянется большим массивом и уходит в глубь сопок. Противоположный берег Тыми, наоборот, низкий и покрыт мшистыми марями. Кажется, ни один нивхский род не занимал этого урочища постоянно. Лишь в отдельные годы иные приезжали сюда на зиму, промышляли соболя и вновь возвращались на свои заливы -- поближе к морской рыбе и зверю. Иногда ороки, племя таежных оленеводов, в своих бесконечных блужданиях по тайге зацеплялись за это веселое местечко, пасли оленей и тоже срывались в другие нетоптаные урочища. Касказик знал: от Чачфми до устья Тыми по воде -- неполный день хода. И было бы хорошо встретить здесь кого-нибудь, расспросить о людях Охотского побережья. И потому обрадовался, когда за поворотом увидел два крытых берестой островерхих чума. "Ороки", -- с облегчением подумал Касказик. Старик, хотя и шел на мир с родом Нгаксвонгов, опасался встретить кого-нибудь из них в стороне от людского глаза. Ыкилак и Наукун никогда не уходили от своего стойбища так далеко и впервые видели жилище ороков. Ыкилаку издали даже показалось, что это не человечьи жилища, а кандаф -- жилье для собак. По прибрежной гальке разгуливала желтомастая собака -- по размерам и виду напоминающая нивхскую ездовую. Ее раньше заметили нартовые кобели и подняли лай. Желтомастая ответила громко, визгливо. Из чума вышли женщины и кривоногий старик. Старик спустился к воде, приветствовал приезжих по-орокски: -- Сороде, сороде! Узнав давнего знакомого, обрадовался. -- Ты, однако, это! -- сказал по-нивхски, вконец изумив Ыкилака. Обнял Касказика, легонько похлопал по спине. -- Давно не видались! Однако долго мы с тобой живем! Сыновья твои? Вон какие выросли! Последний раз виделись -- тот, старший, едва ходил. Меня не помнишь? -- обратился к Наукуну. Наукун покачал головой. -- Вот видишь, как долго не встречались? -- А ты, Лука, куда уходил? -- осведомился Касказик. -- Везде уже побывал. Но больше жил на самом севере, на Миф-тёнгр [Миф-тёнгр -- Голова земли, исконное, нивхское название полуострова Шмидта, северной оконечности Сахалина.]. Хорошие места, ягельные и зверя много. Но там теперь землю ковыряют, кровь земли льют, ягель портят. А те пастбища, что еще не сгубили, заняли пришлые -- эвенки, якуты Мало им своей земли, что ли?.. "Сам приезжий, а местным считает себя", -- взревновал Касказик. Узнав от отца, что орока зовут Лука Афанасьев, Ыкилак удивился. И отцу не без труда удалось объяснить сыну, что ороков не в столь отдаленное время русские попы обернули в свою веру и нарекли русскими именами. Но многие из них наряду с русскими имеют и свои имена. Луку Афанасьева обычно зовут Нгиндалай, или Нгинда-Собака. Оттого, что у него всегда водились собаки. Подохнет одна от старости или задерет медведь -- обзаводится новой. Собаки помогали таежнику: охраняли оленей от медведя и росомах. Касказик еще пояснил, что Нгиндалай-Лука сам называет себя ороком. Но он не орок. Эвенк, с материка. Породнился с орокским родом -- вот и считает себя ороком. За чаем словоохотливый Нгиндалай разглагольствовал: -- Ты совсем одиноко живешь. Совсем. Заперся в тайге -- ни к кому не ездишь, никого не зовешь к себе, -- качал Нгиндалай головой, то ли жалея, то ли осуждая. Слова его заметно опечалили старого Кевонга, словно на больную мозоль наступил. Уж Нгиндалай-Лука знает, что заставило Касказика засесть в тайге. Не надо шутить над бедным человеком. -- С той поры так и не вылазишь? -- сочувственно спросил Нгиндалай. Касказик утвердительно мотнул головой. -- А теперь куда держишь путь? Не за невестой ли -- вижу, с подарками? -- Нет, не за невестой. Касказик вздохнул. Нгиндалай понял, что опять задел за живое молчаливого нивха. И тогда решился выложить новость, что просилась на язык с самого начала встречи. -- Нгакс-во сейчас большое стойбище. Нивхи там, русские. -- Какие русские? Не те, что с Николаевска приезжают, купцы? -- Не те. Свой купец объявился. Тимоша Пупок. Слыхал? -- Нет, не слыхал. Как это "свой"? -- Из местных. Сын каторжника. Купец не купец, но лавку имеет. -- Не слыхал. Не слыхал. А давно это Нгакс-во стало большим стойбищем? -- Как Тимоша построил лавку. Ань семнадцать, однако, прошло. -- Нет, не слыхал Касказик задумался, не зная еще, как отнестись к такой вести. -- А люди рода Нгаксвонгов Как они позволили? Ведь их родовое стойбище заняли другие? -- А Пупок и не спрашивал позволения. Место ему понравилось: тихая бухта, устье большой нерестовой реки. Нивхи вокруг опять же. А Нгаксвонги их теперь вроде и не осталось. -- Как это не "осталось"? -- А так, не осталось. Рода не осталось. -- Что же случилось такое? Касказику не верилось, чтобы род Нгаксвонгов, который славен добытчиками, мог исчезнуть. -- А ты правду говоришь? Может, о другом роде речь ведешь? -- Правду говорю, правду. Глаза оленевода были грустны. Да и предмет разговора не допускал шуток. Весть поразила Касказика так, что он не мог вымолвить ни слова. Сводило челюсти, и вместо слов из нераскрытого рта вырывалось что-то похожее на стон. Сыновья и оленевод недоуменно взглянули на Касказика. Наукун не мог понять, что так взволновало отца. Казалось бы, надо радоваться -- теперь у Кевонгов нет врагов. Но отец произнес: -- Наш ум был короче рукоятки ножа. Наши головы не знали боли, мы не мучили их думами: споры решали быстро -- ударом копья. Пролили кровь, словно ее не жалко, словно ее, как воды в море. И Курнг наказал, никого не обошел: и нас, и их. Лука негромко, с хрипотцой, сказал: -- Они не умерли от старости. Они не умерли от болезни. Они погибли. И погибли не в битве за свой род -- На весенней охоте во льдах? -- Нет, не на охоте. Когда появились купцы, люди Нгакс-во выстругали просторные лодки. И не для того чтобы взять больше нерпы -- промысел этот они бросили. Построили большие лодки, чтобы набрать на борт больше товару. Тем они и жили, что перевозили купцам товары. -- Бросили нерпичий промысел? -- Касказик был несказанно удивлен: как же так жить, только товары перевозить? -- А они уже не живут, -- спокойно сказал Лука, -- был шторм. Большой шторм. Люди отказывались выйти в залив, но Тимоша заставил. Обещал хорошо заплатить -- те и вышли. На двух лодках вышли. Даже брата своего меньшого не пожалел купец. Так и погибли. -- Весь род погиб? -- Весь. Кажется, весь. -- Нгиндалай-Лука сморщил лоб, напряг память. -- Кажется Постой. А Ньолгун -- из их рода? -- Он обернулся к Касказику. Ыкилак вскинул голову, второй раз слышал он это имя. Первый раз от Ланьгук там, у Вороньей ели. -- Не знаю, -- пожал плечами Касказик. -- Я знал всех взрослых Нгаксвонгов. А детей не помню. -- Ньолгун из Нгаксвонгов, -- сказал Лука. -- Теперь я вспомнил: они из Нгаксвонгов, -- твердо повторил он. -- Только один и остался? -- встрял в беседу Наукун. -- Один. -- Тогда зачем идти с миром -- ведь мириться-то не с кем? -- сказал Наукун. Он быстро оценил обстановку: "И мне останется на выкуп". -- Заткнись! -- вскипел Касказик. -- Ублюдок! Один человек -- тебе не человек? Пока жив хоть один человек, род его живет! Снаружи послышался звон боталов. -- Сыновья мои. Оленей привели, -- Лука встал. -- Собираемся тоже в Нгакс-во. Тимоша обещал привезти товары. Ты по реке, а я напрямик через сопки. Но ты ненамного отстанешь, может, на полдня всего. Глава 17 Привычная для нивхов морского побережья двухпарусная шхуна, словно чайка, лихо проскочила устьевые белопенные бары, вошла в лагуну и, умело используя постоянный напор Тланги-ла [Тланги-ла -- "олений ветер", юго-восточный морской ветер, обычно сильный и холодный.], медленно пошла против течения. Босоногие нетерпеливые ребятишки убежали далеко от стойбища и у пролива встретили белоснежное судно. Они кричали, размахивали руками, прыгали. "Радуются. Дикари есть дикари. Тимоша сдерет с них последнюю шкуру, а они радуются", -- мрачнел молодой якут. Он видел: купчика на этом берегу ждут. Длинная и узкая, словно палец, песчаная коса защищала от морского прибоя неширокий залив, где только рябь и мелкие всплески оживляли пустынную гладь. Но залив казался пустынным лишь поначалу. Чочуна присмотрелся и заметил на ее воде какие-то черные кругляши. Сперва принял их за обгорелые куски дерева. Но кругляши то исчезали в глубине, то всплывали и двигались не только по течению, но и против. "Нерпы!" -- сообразил Чочуна. Он видел их в Амурском лимане. В море же якута свалила качка и двое суток он ничего не видел и не слышал. И только удивился, как это русских не брала эта проклятая, выворачивающая все нутро тягучая качка. Нерпы в заливе много. Темноголовые с белыми и черными пятнами, они с любопытством рассматривали проходящее судно, без страха подплывали близко и, нырнув, вновь появлялись чуть дальше или с другого борта. Огромные белоснежные чайки степенно кружили над фарватером, высматривая добычу -- селедку, корюшку и прочую рыбью мелочь. Быстроногие мальчишки обогнали шхуну и принесли в стойбище весть: на судне, кроме Пупков, еще человек, обличьем смахивает на нивха. "Нанайца или амурского нивха наняли в помощники", -- решили в Нгакс-во. А Чочуна тем временем озирал берега столь далекой от Якутии земли. Песчаная коса невысокими дюнами, по бокам К ним прицепились низкорослые кустарники. Длинная и ровная коса у основания разбита буграми, бугры переходят в лесистые сопки, обрамляющие залив с другой стороны. В глубине его широкая низинная полоса, разрезанная в нескольких местах зеркальными плесами, над которыми висит белесый пар -- видимо, устье реки. Стойбище раскинулось у основания косы. Странные дома -- не то рубленые, не то сложенные из жердей. По форме они четырехугольные, без труб. И крыш вроде нет. Окна маленькие -- едва кулак проскочит, без стекол. Ниже домов, у кромки воды -- вешала. Их много. На них стройными рядами висит распластанная рыба. Ее так много, что она загородила собой стойбище, и дома виднеются лишь в просветах между вешалами. У каждого дома, слева или справа, высятся похожие на чумы сооружения. "Эвенки?" -- обрадованно забилось сердце. Привязанные к поперечным жердям-перекладинам, рвались с цепи огромные псы. "Собачье жилье", -- догадался Чочуна. Неизвестная земля Незнакомый народ. Как удастся сойтись с этими людьми? Среди встречающих отдельной группой стояли люди в меховой одежде. И когда за толпой Чочуна увидел рогатые оленьи головы, обрадовался, словно родственникам, от которых уезжал так далеко. Эвенки? Якуты? Несколько в стороне от нивхских жилищ две приземистые, с просторными дворами рубленые избы. "Русские везде остаются русскими: дома у них всегда прочные, хозяйство -- крепкое", -- не то с уважением, не то с тоской подумал якут. Три русские бабы, дебелые, розовощекие и улыбающиеся, вышли наперед, полезли в воду, высоко задрав сарафаны и оголив полные, белые ноги. И тут в один миг странные нивхи с их добродушными лицами и могучими собаками, оленеводы с их рогатыми друзьями, песчаный берег с буграми и кустарниками, низкое небо с плотными черными тучами -- все исчезло. И только женские ноги, невыносимо белые, казалось, заполнили весь мир. -- Тимошенька, ты мой родненький! -- Певучий ласковый женский голос. Чочуна зашатался, его словно толкнуло что-то в сторону. -- Укачало человека, -- посочувствовал Тимоша и тут же добавил: -- Море -- оно тебе не Якутия. К удивлению Чочуны, Тимоша оставил весь груз на шхуне. Только поглядел на небо, определил ветер, вытащил якорь на берег, закрепил между корнями гигантского тополя, выброшенного бурей к подножьям песчаных бугров. Чочуна сказал все же: -- Надо выгрузить, наверно? -- Зачем? Сегодня отдыхаем. Завтра выгрузим, -- сказал Тимоша таким тоном, что стало понятно: на этом побережье чужое не трогают. -- Идем, -- позвал Тимоша, -- а то бабы заждались. Чочуна нерешительно топтался. Тимоша-то, конечно, хорошо усвоил здешние нравы. И если уж оставил все добро без надзора -- значит, останется в целости, никто не тронет. И тем не менее он пребывал в нерешительности. Тимоша взвалил на плечи тяжелый куль -- наверно, с гостинцами. -- Ну, чего стоишь? -- Тимоша полуобернулся. -- Я зайду к тебе, -- поспешно пообещал Чочуна. -- Познакомлюсь с людьми и приду. -- Как хочешь. Хозяин-барин, -- и, разгребая большими сапогами воду, Тимоша пошел к берегу навстречу визжащим от радости женщинам. Глава XVIII Но Чочуна так и не попал к Тимоше. Замученный дорогой и опасениями -- не ровен час: эти дикари растащат все -- остался у костра, раскинутого на берегу оленными людьми. А коль костер и люди у костра -- запах жареного мяса поплыл окрест. На огонек подходили степенные нивхи -- разузнать, что за человек, схожий с ними по виду, объявился на побережье. Они без стеснения рассматривали якута. Чочуне как-то нехорошо стало под их прямыми, добродушными взглядами. "Словно зверь невиданный. Дикари". Нивхи же, изучив лицо приезжего, нашли, что он совсем не похож на них. Глаза большие -- чуть поуже, чем у русских, нос крупный, тоже не нивхский. И цвет лица светлый. Только волосы черные и прямые, как у них Нет, не нашли нивхи в лице Чочуны привычной мягкости очертаний. Удовлетворив любопытство, они разошлись по своим странным домам. Забот всем хватает: завтра Тимоша будет раздавать товары Оленные люди оказались ороками. Чочуна слышал о такой маленькой народности, язык который близок к гольдскому и отдаленно созвучен с тунгусским. Ороки раскинули костер неподалеку от избы молодого, крепкого нивха. Этот нивх с тугой, толстой косой раза два выходил из своего полузасыпанного землей рубленого жилища и обращался к орокам по-нивхски, похоже, приглашал к себе. Ороки что-то отвечали, и нивх исчезал в черном провале низких открытых дверей. Изба молодого нивха отличалась от других жилищ. Те большие, сложены из толстых жердей, стены покатые, без чердачного перекрытия, с дымовым отверстием в засыпанном землей потолке. Окон нет -- лишь маленькие дырки в стене. А у него изба рублена, как у русских. Только маленькая она, с маленькими окнами, словно зимовье таежных охотников. Чочуна знал тунгусский и спросил старшего орока: -- Ты человек какого рода? Лука-Нгиндалай от изумления вздернул бороденку. -- Назвался ведь якутом! -- Мы жили с тунгусами в одном селе. Так какого же ты рода? -- Из рода Высоконогого Оленя. -- Где живет твой род? Нгиндалай, прищурясь, взглянул на якута, словно прикидывал, стоит ли связываться с этим пришельцем. Покрутил в руках вертел с обжаренным мясом и сказал что-то по-орокски. Молодые ороки вытащили из ножен узкие ножи, пододвинулись к костру. Чочуна поднялся на шхуну, достал початую бутылку спирта. Ороки, увидев бутылку с огненной жидкостью, оживились Сухой плавник -- добрые дрова. Костер горел размеренно, без вспышек, отдавая большой жар. Подвыпивший Лука-Нгиндалай поведал о себе человеку из далекой Якутии. Лука -- не орок. Он шилкинский эвенк. Еще в юности был наслышан о какой-то земле гиллы [Гиллы -- так ороки и нанайцы называют нивхов.], что лежит далеко на востоке прямо посреди моря. Говорили: та земля покрыта нехоженой тайгой, соболей в лесах -- хоть палкой бей. Несколько отчаянных смельчаков из соседних урочищ уже хаживали на ту землю. Уходили надолго. Не охота отнимала у них время -- дорога. Дорога дальняя, опасная. Зиму-две ждали их в стойбище. И они возвращались. Полные мешки соболя привозили с собой. Отец умер рано, завещал детям стадо в двадцать оленей и русскую христианскую веру, от которой остались лишь имена да нательные железные кресты. Прошли долгие годы после смерти отца. Уже седина появилась на голове старших сыновей, да и стать не та, и походка не столь стремительная, а их дети уже помогали пасти оленей. И, наверно, братья не решились бы тронуться с родовых земель, так и жили бы, пасли свое стадо и ловили пушного зверя, поредевшего, правда, в последние годы. Но вслед за новой верой в урочище Шилки пришла дорога -- железная. Она разрезала тайгу и сопки, разогнала зверя. А в один из зимних дней, когда олени переходили путь, поезд задавил больше половины стада. Тогда и решили старшие братья податься на землю гиллы. Жены и дети, сестра и младшие братья наказали вернуться весной сразу после промысла. И в конце лета два брата на шести ездовых оленях тронулись в дальний путь по тропе отчаянных и рисковых смельчаков. Осенью по чернотропу объехали они много урочищ и добыли более сотни соболей -- намного больше, чем пешие охотники -- нивхи. Когда же тайга побелела от снега, эвенки пристали к нивхским охотникам, у которых имелся балаган в верховьях одной из нерестовых рек. Было темно, но тепло. И удивились эвенки еще вот чему: нивхи никак не проявляли недовольства тем, что пришлые охотятся в их угодьях. Напротив, все сделали, чтобы незваных гостей не обошла удача. Показали места, излюбленные соболями. Отдали свои широкие лыжи, подшитые нерпой. И радовались каждому их успеху. Странные люди, эти нивхи. В феврале нивхи подняли силки на деревья -- закончили сезон зимней охоты -- и распадками спустились к стойбищу Ке-во. Эвенки следовали за ними на лыжах, которые смастерили между делом в дни буранов. За собой эвенки вели оленей. Братья были довольны: добыли двести семнадцать шкурок. Их ждали благополучие и почет среди сородичей, к которым они вскоре вернутся. Погостили у приветливых людей рода Кевонгов, соорудили себе нарты и подались в Нгакс-во, чтобы продать часть соболей русскому купцу. Вечером после торгов кому-то из жителей стойбища вдруг захотелось посмотреть гонку на оленях. Подвыпившему Луке и его брату эта просьба польстила. Уж кто-кто, а эвенки, оленные люди, умеют ездить на оленях. Взлетели братья на неоседланных оленей -- к чему седла таким ездокам! Седла -- удел стариков и начинающих наездников. С криком погнали оленей. Стойбище зашевелилось, зашумело. Со всех сторон доносились возгласы восхищения и остервенелый лай нартовых псов, привязанных к жердям и кольям. Кажется, давно Лука не ездил так красиво: ноги выброшены вперед и хлестко бьют оленя по груди, корпус наклонен, а доха, как крылья орла, взметнулась за спиной. Проехали эвенки по реке в одну сторону, повернули оленей. Назад в стойбище. А собаки вновь подняли гвалт. И тут чей-то черный пес сорвался с привязи, бросился на оленя и Лука с большим трудом вылез из сугроба. Огляделся. Где же олень? А олень уже несся далеко за стойбищем. За ним след в след летел огромный пес, к которому присоединились еще несколько. Лука схватил палку и припустился что есть силы, но куда там. С каждым шагом он отставал. Мимо промчался брат. Но оленю с наездником на спине не угнаться за собаками. И брат видел, как далеко впереди псы нагнали ездового. Застрял Лука на острове. Брат один отвез мешки с пушниной в Николаевск -- там меха ценились дороже. Договорились, купит он пару оленей и вернется за Лукой. Но шли дни -- брат не являлся. Уж лед на реке заторопился и задвигался -- а брата нет и нет. "Наверно, ушел на Шилку. Вернется осенью", -- думал Лука. Но прошло лето, прошла осень, настала зима. Появились на острове другие эвенки с материка, но брата все нет как нет. Лука подстерегал каждого приезжего: эвенка ли, нивха ли, русского -- расспрашивал о брате. Описывал приметы, но ничего утешительного в ответ не услышал. Вот так и остался Лука па нивхской земле. Нивхи же свято соблюдали обычаи, кормили загостившегося иноплеменника. Тот как мог участвовал в жизни их стойбища: дрова рубил, ходил на охоту, рыбачил. Как-то Лука чинил прошлогодние лыжи. Было солнечно и тихо, морозец нерезкий, приятный, бодрящий. И тут почудился подзабытый уже, родной с детства звон. Звон повторился. На этот раз отчетливей. Лука замер и опять услышал: "Бол-бол-бол" "Неужто звон боталов?" -- эвенк поднял голову. В стороне от стойбища (чтобы не дразнить собак) проходило стадо оленей. Впереди наездник в дохе, в островерхой меховой шапке -- совсем эвенк. Всякие предположения нахлынули на Луку. Может, брат уговорил шилкинских, те согласились покинуть оскудевшие места и переехали на остров? Лука отбросил лыжи и, задыхаясь от волнения, побежал по некрепкой целине, проваливаясь по колено. Он бежал, бежал, бежал А стадо, не убыстряя своего движения, спокойно удалялось. "Э-э, э-э-э!" -- кричал Лука, размахивая шапкой. Пастух, замыкавший караван, остановил оленей. Вся поза пастуха выражала недоумение. Что надо этому человеку? Может, не в своем уме он? А Лука бежал. Он боялся: вдруг пастух ударит оленей и помчится вслед стаду. И тогда Лука не знал, что будет "тогда". Знал одно: он должен догнать пастуха, расспросить его. И Лука нагнал. Порывисто и резко схватил за уздечку. -- Что вы за люди? -- задыхаясь спросил Лука. Пастух, совсем еще юноша, непонимающе качнул головой. Тогда Лука сказал по-русски: -- Твой Амур ходи сюда? -- и жестом помог: показал рукой сперва вдаль, потом ткнул себе под ноги. Лицо пастуха смягчилось, исчезла настороженность. -- Твой эвенк? Орочон? -- вопрошал наездник. -- Эвенк, -- отвечал Лука. -- Мой эвенк, мой эвенк. -- Как твой сюда попади? -- удивился пастух. -- Мой мой -- Лука подбирал слова, но видел, не удастся им объясниться на русском. Пастух, очевидно, тоже это понял. Он сказал: -- Твой -- эвенк. Сапсем хоросо. Потом указал рукой на стойбище: -- Ходи туда. Мой скор туда ходи будет. Ударил ногами в бок оленю, пустился вслед за удалявшимся стадом. А Лука стоял, обескураженный, не понимая, почему пастух отвязался от него. Ведь он хотел А что он хотел? Что? Лука повернулся и медленно поплелся назад, как-то машинально ступая в свой след. Он вновь занялся лыжами, но то и дело вскидывал голову, взглядывая на синеющую борозду -- след оленьего стада. И тут заметил, два наездника лихим аллюром выскочили из-за поворота. У заднего на поводу мчался еще один олень -- Это были они, -- Лука кивнул головой в ту сторону, где сидели молодые ороки. Эвенк насыпал в трубку крошеный табак, прижал большим пальцем, задымил. -- Это были они, мои спасители и мои дети. Чочуна недоуменно вскинул глаза. -- Да, да, мои дети, -- подтвердил Лука. -- Сперва они взяли меня в свой род, кормили и одевали, как родственника. А когда умер их отец -- он был совсем немощный, -- я стал отцом юношей, принял их язык и веру Теперь они считают меня своим, ороком. "Ишь, какой ловкий! -- то был нищий и бездомный, а теперь он -- отец этих взрослых ороков и хозяин их стада. Нашелся папаша!" А Лука продолжал спокойно, негромко: -- На Шилке у моих орокских детей есть братья -- эвенки. Их дядя -- мой старший брат, -- однако, удачно вернулся домой. Привез и моим детям много соболей. И дети позабыли голод и болезни. Но что-то долго не возвращается дядя моих сыновей. Если нынче не появится, я поеду на Шилку. С моими здешними сыновьями поеду. За их братьями и сестрами. Чочуна был изумлен. Как по русской поговорке: не было ни гроша, да вдруг алтын. Костер неслышно угасал. Плавник на глазах истончался, и лишь пепел -- ветра совсем не было -- сизыми перистыми полосками перечеркивал кострище. Чочуна рывком поднял голову. Вокруг шевелились люди, переносили груз, сваливали неподалеку от лежавшего у костра якута. Тимоша, засучив рукава, с каким-то нивхом выбирал из трюма тюки, подавал стоявшим на палубе. Те в свою очередь перекидывали груз на плечи жителей стойбища. С удивлением Чочуна заметил: весь его небольшой груз выбран из шхуны и аккуратно уложен горкой. Поначалу якута так и подмывало проверить, все ли в целости, но усилием воли он взял себя в руки и тоже стал помогать. После выгрузки Тимоша открыл свою лавчонку -- небольшой дощатый сарайчик. Чочуна еще вчера приметил его. Никогда бы не подумал, чтобы хоть мало-мальски благоразумный человек держал товары в таком ненадежном помещении. Ну и порядки! Сперва в ход пошла водка. И когда народ стал нетверд на ногах и словоохотлив, Тимоша начал торги. У нивхов не было ничего ценного, кроме кеты, которой они расплачивались за прежние долги, и Тимоша только успевал заносить их имена в долговую книгу. Лишь у Луки с сыновьями оказалась пушнина -- немного соболей. Запасливые таежники придержали их во время весенних торгов, чтобы потом было на что выменять табаку, чаю и муки. Но тут Тимоша окончательно сразил якута: драл с опьяневших оленеводов три, а то и четыре цены! Захмелевшие таежники требовали в счет будущей пушнины водку, продукты и холст на палатку. Тимоша наотрез отказал. "Гиляк -- он народ привязанный, а эти бродяги -- не угонишься за ними в тайге", -- объяснял он Чочуне. Глава 19 Над устьем реки, где столкнулись теплая речная и холодная морская вода, нестойкий туман. Едва лодки Кевонгов выбрались из него, Касказик заметил белое судно. Оно отчетливо выделялось на темном фоне стойбища. Такого большого судна Касказик никогда не видал. Судно имело высокие борта, а длина его раза в два превосходила длину шестивесельной лодки-долбленки. Стойбище Нгакс-во сильно разрослось. Раньше в нем стояло восемь ке-рафов -- летних жилищ, теперь их, пожалуй, более двадцати. Поставлены они прочно, утеплены корьем и землей, и в них, как видно, живут и зимой. Значит, не все здешние на зиму перекочевывают на противоположный, "материковый", берег залива, где в густолесье еще их предками воздвигнуты теплые то-рафы. Кевонги подъезжали к берегу. У Касказика теперь лишь одна забота -- как в таком большом стойбище отыскать родовой ке-раф Нгаксвонгов. Жители Нгакс-во давно заметили лодки, приближающиеся со стороны Тыми. Они вышли на берег, расселись на прибрежных буграх и переговаривались, гадая, что это за люди едут к ним. Лодки подошли уже близко, и жители Нгакс-во стали спускаться к воде. Но встретить гостей им не пришлось. Они увидели, как Пупок влетел в избушку Ньолгуна. Люди услышали сперва ругань и крики. Потом низкая дверь, прилаженная к косяку лахтачьей кожей, дернулась, и двое -- Тимоша Пупок и Ньолгун, -- сцепившись, вывалились из избы. Ньолгун, заикаясь от возбуждения, твердил: "Ты мне пустую бочку давал -- бери свою пустую бочку. А за муку я соболь давал". Разгневанный Тимоша схватил подвернувшуюся под руку палку и со всего маху ударил нивха. Ньолгун, сам крепкий и не малый ростом, молча сносил побои. Но терпению его пришел конец: он плюнул в лицо Тимоше. Пупок на какое-то время замер, опустив руку с палкой, -- будто осмысливал происшедшее. Потом бросился было за нивхом, но тот уже отошел на почтительное расстояние и продолжал уходить по твердому, накатанному прибоем берегу залива. Озверевший Тимоша вбежал в избу, выскочил оттуда со связкой соболей. И нет, не успокоился купец. Вытащил спички и трясущимися руками поджег избушку. Крытую корьем лачугу огонь охватил мгновенно, и горела она ярко и быстро. Тысячеязыковое пламя бесилось над оголившимися балками, прыгало и взлетало, будто хотело покинуть жилье несчастного нивха, но балки и лиственничные стены цепко удерживали огонь, обугливались, истончались и рушились к ногам притихшей в страхе толпы. И лишь Ольга, младшая сестра Тимоши, бегала вокруг догоравшей лачуги и причитала: -- Люди! Люди! Что же вы смотрите! Потом схватила головешку и с растрепанными волосами подскочила к избе старшего Пупка. Дуня, дородная баба, жена Тимоши, вырвала у нее головешку, при этом обожгла пальцы, и, морщась от боли, крикнула: -- Вот дура-то, свое спалить хочешь. Глава 20 Несмотря на уговор, Чочуна не пошел к Тимоше. "Такой же узкоглазый, как гиляк, потому и жалеет их", -- объяснил сам себе Пупок и, закрыв лавку, исчез в избе. После его ухода притихшие нивхи и ороки несколько оживились. Но они то и дело поглядывали на покрытые пеплом угли -- все, что осталось от дома Ньолгуна, -- и тогда в глазах их вновь вспыхивал страх. Ньолгун весь день просидел на черных головешках, уперев локти в колени и опустив голову. Жители стойбища сочувствовали, но благоразумно не приставали -- чем могли они помочь, разве только впустить к себе "ожить, пока вновь не поставит хижину. Вечером Чочуна подошел к Ньолгуну. Он сумел разговорить убитого горем человека. Еще весной Тимоша раздал голодающим нивхам подопрелую муку в счет будущего улова. Ньолгун отдал тогда за кулек муки двух отличных соболей. Остальную пушнину оставил себе -- собирался жениться. В начале лета Тимоша развез по стойбищам бочки, наказал всем, чтобы рыбу заготовляли только для него. Другой купец -- Иванов -- летом промышлял севернее "владений" Пупка. Узнав о поездке Тимоши в Николаевск, он совершил быстрый рейд на юг. И Ньолгун, которому нужны были деньги для подарков, продал Иванову брюшки и еще два длинных шеста копченой кеты. -- Теперь все пропало, -- горевал Ньолгун. И Чочуна поймал себя на том, что ему жалко гиляка. Но тут же отогнал жалость подальше от сердца, спросил, стараясь придать голосу мягкость: -- Что "пропало"? Ньолгун, то ли в силу нивхской доверчивости, то ли надеясь найти хоть в этом иноземце защиту, рассказал подробно о своей беде. Нивхи берут жен из других родов. Мать Ньолгуна из А-во, что на берегу большой реки Тыми. В том стойбище у Хиркуна, хорошего добытчика, подрастает Ланьгук. Ньолгун последние годы каждую зиму наезжал в А-во, привозил гостинцы, цветной материал -- женщинам, прочные нити для сетей, табак, чай и водку -- мужчинам. Авонги принимали гостинцы. Старейший рода Эмрайн молча пил чай, молча курил, молча обдумывал свою думу. В прошлую зиму, когда Ньолгун после удачной осенней охоты привез богатые дары, Эмрайн сказал: "До времени, когда дочь сможет покинуть стойбище отца-матери, ползимы, весна, лето, осень и еще ползимы". Ньолгун счел его слова обещанием. Верным и надежным. Теперь только и живет тем, что собирает выкуп. И вот, когда подготовился к главной зиме, когда у него уже и меха были Что сейчас делить, как дальше быть? Ланьгук заберут другие, уведут из-под носа -- Не убивайся, -- сказал Чочуна, твердо глядя в глаза. -- Сколько тебе лет? -- Не знаю. -- Потом задумался. -- Мне было столько, сколько вон тому мальчику, сыну погибшего моего дяди. -- Ньолгун показал рукой на мальчишку в рваной одежде. Стесняясь взрослых, тот делал вид, что играет с огромной, похожей на медведя, нартовой собакой, а сам то и дело бросал исподлобья то ли любопытствующий, то ли голодный взгляд. -- Тогда осенью в шторм выбросило кита. Нивхи радовались: Тол-ызнг, хозяин моря, милостью своей дал им и собакам их пищу. Через одно лето я узнал: в роду старого Эмрайна родилась девочка Ланьгук. На третью весну она тяжело заболела -- вся кожа покрылась красной сыпью. Через четыре зимы весной мой отец и его братья вместе с меньшим братом Тимоши погибли на воде -- перевозили груз Пупка. Два лета еще прошло. Наступила штормовая осень. У многих нивхов сети порвало. И зимой был голод. В осень Большого шторма я ушел в верховья нерестовой речки и нашел там удачу, заготовил юколу из нерестовой кеты. Юкола, правда, сухая, как палка, но в голод и она пища. Я имел силы и мог ставить ловушки. В ту зиму Тимоша совсем плохим человеком стал. Голодные отдавали ему за куль муки десять, а то и двенадцать соболей. Я подождал. И когда ни у кого не осталось соболей, показал своих. У Тимоши глаза на лоб полезли, аж подпрыгнул. Тут уже я цену называл. Хорошо торговал. Вот тогда-то я приехал в род Авонгов, чтобы посмотреть Ланьгук. Она уже была подросток. Очень красивая. Оставил им муки, риса, сахару, чаю и табаку -- месяца на два, не меньше. С той поры каждую зиму наезжаю в стойбище А-во. В прошлую зиму был четвертый раз. Ньолгун говорил негромко, почти не меняясь в лице, лишь иногда останавливаясь, чтобы вспомнить то или иное событие. И тогда на его гладком лбу обозначались две-три еле заметные бороздки. Закончив, он обратился к собеседнику: -- Ну так сколько же мне лет? Чочуна, не проронивший ни звука, словно очнулся. Ну и счет у этих гиляков! Любопытный счет. Теперь Чочуна почти все знал о Ньолгуне. Шустрый парень. Далеко пойдет. А Пупки -- живодеры, хуже волков. -- Сколько мне лет, спрашиваю? -- повторил Ньолгун. -- Ты так долго говорил, что я сбился со счета. -- Вот видишь! -- с важностью сказал Ньолгун. -- Ты сбился со счета, потому что я долго говорил. А долго я говорил, потому что мне немало лет. -- Около тридцати есть? -- Не знаю, -- ответил нивх. Потом возмутился. -- Зачем "около", когда можно точно! Ты же умеешь считать? Тогда загибай пальцы, а я буду говорить. Значит так, выбросило кита -- мне было столько, сколько вон тому мальчику, который уже не трогает собаку, а копается в пепелище, на второе лето родилась Ланьгук, на третью весну Ланьгук болела тяжелой болезнью; через четыре зимы весной погиб мой род; в то лето родился мальчик. Прошло еще два лета, и зимой наступил большой голод, и в ту зиму я ездил смотреть Ланьгук. С той поры я каждую зиму езжу в А-во. В прошлую зиму был четвертый раз. Сосчитал? Сколько получилось? -- Шестнадцать или пятнадцать без мальчика, -- сказал неуверенно якут. -- А мальчику? -- А мальчику семь лет. -- Сколько же мне? -- нетерпеливо требовал Ньолгун. -- Тебе тебе двадцать три года. -- А тебе сколько? -- Двадцать. -- Вот видишь! -- торжествовал нивх. -- Я старше тебя! -- Ньолгун смотрел вызывающе. Чочуне не понравилось это. "Голодранец, а еще так смотрит!" -- с неприязнью подумал он. Но и на этот раз Чочуна овладел собой и сказал только: -- Не горюй, друг, человеком будешь. Твой дом сгорел -- новый будет. И выкуп соберешь. Богатый выкуп соберешь Тебя будут уважать. И бояться будут. Ньолгуну понравилась речь якута. Он заискивающе посмотрел ему в глаза и, не очень веря в услышанное, спросил: -- Ты правду говоришь? "Вот так! Всегда так будет!" -- в глазах якута мелькнул желтый огонь. Нивх встрепенулся, но Чочуна сказал мягко: -- Я помогу тебе. Я сделаю тебя богатым. Тебя никто больше пальцем не тронет. Тебя будут бояться. Чочуна вытащил из чехла поблескивающее воронью ружье, подал Ньолгуну: -- Возьми. Это ружье сделает тебя сильным. Ньолгун упал на колени, пытаясь поцеловать ноги якуту. "Вот так всегда и будет!" -- твердо сказал вполголоса якут. Ньолгун поднялся, схватил ружье, засуетился, не зная, куда девать бесценный подарок, который сделает его могущественным, возвысит над людьми. Он сунул ложе под мышку, крепко прижал локтем, огляделся. Стоящие поблизости нивхи и ороки молча наблюдали за происходящим. На их глазах большое несчастье оборачивалось для потомка вымирающего рода Нгаксвонгов внезапным счастьем. Чочуна в это время скликал мальчишек, которые, словно пугливые щенки, то приближались, то прятались за спинами взрослых. -- Иди сюда. Иди сюда, -- звал Чочуна. Но ребятишки не понимали чужого языка. Маленький оборванец, который, сам того не зная, помог определить возраст Ньолгуна, стоял ближе всех. Ньолгун и сказал ему по-своему: -- Мылгун, подойди. К этому большому начальнику подойди. Он хороший, жалеет нивхов. Мальчик нерешительно топтался, звучно шмыгал носом, пытаясь скрыть страх и смущение. Но когда Чочуна вытащил из мешка крупный, с кулак, кусок сахара, вприпрыжку помчался к нему. Рваные штанины хлопали по грязным босым ногам. Мальчик торопливо вырвал белоснежное редкое лакомство, словно боялся, что кто-то другой овладеет им. Чо" чуна подозвал мальчишек, которые оказались рядом, дал по куску сахара. Заметил: больные с похмелья ороки смотрят на него со странным детским ожиданием. Неприязненно поджал губы, отвернулся. Чочуна размышлял некоторое время, как дальше поступить. Он знал, наступил случай, когда нужно действовать. Чочуна оглянулся через плечо -- оленпые люди с кислыми физиономиями мучились в нетерпеливом ожидании. У Луки на шее под расстегнутой серой грязной рубашкой виднелась тонкая веревочка. Еще вчера Чочуна обратил на это внимание, но не придал значения. Шпагатик охватывал шею и сходился на груди. Он был темный, пропитан жиром и потом. Чочуна осторожно протянул руку, двумя пальцами тихонько потянул шпагатик. Из-под рубашки, словно зверек из норы, выскочил маленький металлический крестик. -- Крест. Крест. Я Лука Афанасьев. Лука, -- со значением говорил Нгиндалай. Эвенк разговаривал с якутом на языке символов. А это означало: "У меня не эвенкийское имя, хотя я настоящий эвенк. Мы, эвенки, крещеные. Мы тоже дети великого русского царя". Чочуна оглядел щупленькую, неказистую фигурку хозяина маленького рода таежных бродяг, сказал: -- Все люди -- братья! -- Братья! Братья! -- охотно подтвердили ороки. -- Подойдите ко мне, братья! Якут выхватил из мешка красивые бутылки, поблескивавшие на солнце. -- Подходите все! Все подходите! -- Чочуна взмахивал руками, словно хотел обнять все стойбище. Сначала подошли степенные нивхские старики и полные достоинства мужчины-добытчики. Юноши почтительно держались поодаль. Степенности у нивхов хватило на глоток водки. Старики велели юношам принести низкие столики, рыбу в резной деревянной посуде, нарезанную юколу, топленый нерпичий жир, соленые рыбьи брюшки. Появились женщины, притащили лакомства -- сырую нерпичью печенку, сырую голову кеты, вареное нерпичье мясо. На середине столиков в фарфоровых чашечках -- соляной раствор, в который нивхи обмакивали хрящи кетовой головы и кровавые куски печенки. Мелконарезанная печенка с черемшой и без черемши -- отличная закуска. Она хорошо шла после водки. Чочуна это сразу оценил. После закуски подали вареное мясо -- большими кусками, на крупных костях. Нарезанную кетовую юколу нивхи брали щепотью, обмакивали в топленый золотистый нерпичий жир и, запрокинув голову, клали в рот. -- Все люди -- братья! -- повторил торжественно Чочуна. -- Вы гиляки, ороки. Я -- якут. Но мы братья, потому что мы все люди! Будем жить вместе, помогать друг другу. Нивхи слушали говорливого якута со смешанным чувством. "Все люди -- братья", это верно. Нивх всегда впустит к себе другого человека -- будь то нивх, орок, эвенк или русский. Накормит, согреет теплом своего очага. И человек будет жить у нивха до тех пор, пока не изволит продолжать путь. Добро не требует, чтобы о нем говорили. Люди говорят о необычном. Добро -- оно обычно у нивхов, как и окружающая их природа с ее обычными ветрами, дождями, снегопадами. А якут все твердит и твердит о вещах, которые известны даже краснозадым младенцам. Будто открыл что-то необыкновенное. Странный этот якут. Но, наверно, хороший, раз такой щедрый. Уже смеркалось. И Чочуна Аянов наделил гостинцами каждого, кто принимал участие в пире, дал по полплитки чая и горсти табака. Люди начали было расходиться, но их остановило пение полупьяного Ньолгуна. Он сидел на песке, поджав под себя скрещенные ноги, и раскачивался с закрытыми глазами. Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Мы, нивхи, сколько помним себя, -- жители этой земли. Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Курнг в своей доброте не забыл наши урочища: Реки в наших урочищах полны рыбой, В лесах наших урочищ всегда зверя много. Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Нам бы жить -- зверя добывать, Нам бы жить -- рыбу ловить. Но поселился среди нас злой человек. Только о себе ночами и днями думает. Только о том, как оильно разбогатеть, думает. Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Жадностью большой сам себя ослепил, Из-за этой жадности человечье лицо потерял. Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! У него -- свои духи, свои боги. Но Курнг -- наш бог -- нас услышал: На счастье нам с далекой земли якута прислал. Якута богатого и доброго прислал. Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!

|
----
----
Страницы: <<
< 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 >
>> |
|

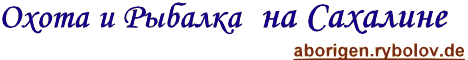 -
-
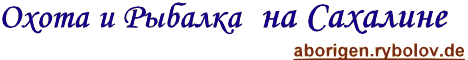 -
-