Григорий Федосеев родился 7 (19) января 1899 года в станице Кардоникской (в настоящее время Зеленчукского района Карачаево-Черкесии). В 1926 году окончил Кубанский политехнический институт. В 1930-х годах переезжает в Новосибирск, где работает инженером, участвует в полевых геодезических работах в Забайкалье и Восточных Саянах. В 1938 году он становится начальником отряда, а позднее — начальником экспедиции, руководит топографическими работами на реке Ангаре, на Средней и Нижней Тунгусках, исследует Яблоновый и Становой хребты, Охотское побережье, Джугджурский хребет. Кроме того, Федосеев принимал участие в создании карт районов Братской, Усть-Илимской, Богучанской и Зейской ГЭС, БАМа. В 1948 году окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.Во время экспедиций Григорий Анисимович собрал и передал в дар Академии наук большую коллекцию растений, птиц, шкур и рогов представителей фауны Сибири и Дальнего Востока.
В течение многих лет, находясь в условиях. первобытной природы, мы
испытывали на себе ее могущество, ее силу. Именно там, в неравном поединке с
ней, мы познали величие Человека.
«Смерть меня подождет» -- это невыдуманный рассказ о подвиге советских
людей, исследователей необжитых, малодоступных районов Сибири.
Это прощальное слово о тех, кто ценою жизни заплатил за крошечные
открытия на карте нашей Родины.
Материалом для книги послужили личные дневники, впечатления и
воспоминания моих спутников -- героев повествования. Описывая события, я
старался изобразить правдиво обстановку и условия наших работ. Мне не нужно
было фантазировать, придумывать ситуации -- действительность была слишком
насыщена событиями, чтобы что-нибудь еще добавлять или преувеличивать.
Это повествование о человеческой дружбе. Она связывала тугим узлом всех
нас, участников похода. В тяжелые минуты, когда, казалось, не оставалось
шансов на спасение, люди забывали о себе, во имя долга перед товарищами, и,
пожалуй, только это помогло нам, хотя и с большими жертвами, добиться
успехов.
«Смерть меня подождет» -- это книга и о суровой природе Приохотского
края, о ее обитателях. В походах я никогда не расставался с ружьем, но
страстный зверобой уживался во мне с терпеливым натуралистом. С детства
любил я таинственный мир растений, с увлечением наблюдал жизнь диких
животных и птиц.
Первая книга о моих путешествиях по Приохотскому краю называлась «В
тисках Джугдыра». Ее главными героями были беспризорник Трофим Королев и
старый эвенк-проводник Улукиткан. В процессе работы над второй книгой --
«Смерть меня подождет» явилась необходимость внести изменения и дополнения в
первую книгу. Теперь она называется «Тропою испытаний» и полностью посвящена
проводнику Улукиткану.
В книге «Смерть меня подождет» я рассказал о сложной, трудной жизни
беспризорника Трофима, воспитанника экспедиции, участника многих рисковых
походов. Эта книга, хотя и написана как самостоятельное произведение,
является как бы продолжением книги «Тропою испытаний». В ней, как и в первой
книге, показана борьба человека с дикой природой.
Пусть простят мне мои спутники, что я счел необходимым события,
накопившиеся за шесть лет наших непрерывных путешествий по Приохотскому краю
(1948-1954 гг.), вложить в два года. Только по этим причинам в книгах
«Тропою испытаний» и «Смерть меня подождет» смещены многие фактические даты
и некоторые места событий.
Григорий Анисимович Федосеев
*
СМЕРТЬ МЕНЯ ПОДОЖДЕТ
*I. СУДЬБА БЕСПРИЗОРНИКА
I. Проводы Королева. Незаконченный ночной разговор. Тревожная
радиограмма. Воспоминания.
СодержаниеFine HTMLPrinted versiontxt(Word,КПК)Lib.ru htmlГригорий Анисимович Федосеев. Смерть меня подождет
---------------------------------------------------------------
Изд: Новосибирское книжное издательство 1962
OCR&Spellcheck: Arch Stanton (mailarch@runbox.com), 2 jun 2001
---------------------------------------------------------------
ОТ АВТОРА
Труд исследователя всегда был тяжелым испытанием. Ему я посвятил всю
свою жизнь. Но я не подозревал, что написать книгу куда труднее. Порою меня
охватывало разочарование, я готов был бросить свою работу, и только долг
перед моими мужественными спутниками заставлял меня снова и снова браться за
перо.
В течение многих лет, находясь в условиях. первобытной природы, мы
испытывали на себе ее могущество, ее силу. Именно там, в неравном поединке с
ней, мы познали величие Человека.
«Смерть меня подождет» -- это невыдуманный рассказ о подвиге советских
людей, исследователей необжитых, малодоступных районов Сибири.
Это прощальное слово о тех, кто ценою жизни заплатил за крошечные
открытия на карте нашей Родины.
Материалом для книги послужили личные дневники, впечатления и
воспоминания моих спутников -- героев повествования. Описывая события, я
старался изобразить правдиво обстановку и условия наших работ. Мне не нужно
было фантазировать, придумывать ситуации -- действительность была слишком
насыщена событиями, чтобы что-нибудь еще добавлять или преувеличивать.
Это повествование о человеческой дружбе. Она связывала тугим узлом всех
нас, участников похода. В тяжелые минуты, когда, казалось, не оставалось
шансов на спасение, люди забывали о себе, во имя долга перед товарищами, и,
пожалуй, только это помогло нам, хотя и с большими жертвами, добиться
успехов.
«Смерть меня подождет» -- это книга и о суровой природе Приохотского
края, о ее обитателях. В походах я никогда не расставался с ружьем, но
страстный зверобой уживался во мне с терпеливым натуралистом. С детства
любил я таинственный мир растений, с увлечением наблюдал жизнь диких
животных и птиц.
Первая книга о моих путешествиях по Приохотскому краю называлась «В
тисках Джугдыра». Ее главными героями были беспризорник Трофим Королев и
старый эвенк-проводник Улукиткан. В процессе работы над второй книгой --
«Смерть меня подождет» явилась необходимость внести изменения и дополнения в
первую книгу. Теперь она называется «Тропою испытаний» и полностью посвящена
проводнику Улукиткану.
В книге «Смерть меня подождет» я рассказал о сложной, трудной жизни
беспризорника Трофима, воспитанника экспедиции, участника многих рисковых
походов. Эта книга, хотя и написана как самостоятельное произведение,
является как бы продолжением книги «Тропою испытаний». В ней, как и в первой
книге, показана борьба человека с дикой природой.
Пусть простят мне мои спутники, что я счел необходимым события,
накопившиеся за шесть лет наших непрерывных путешествий по Приохотскому краю
(1948-1954 гг.), вложить в два года. Только по этим причинам в книгах
«Тропою испытаний» и «Смерть меня подождет» смещены многие фактические даты
и некоторые места событий.
* СМЕРТЬ МЕНЯ ПОДОЖДЕТ *
I. СУДЬБА БЕСПРИЗОРНИКА
I. Проводы Королева. Незаконченный ночной разговор. Тревожная
радиограмма. Воспоминания.
В тайгу! Скорее в тайгу!
Не прошло и двух месяцев, как мы вернулись из очередной экспедиции, а
уже устали от беспечной, размеренной городской жизни.
Вечерами, все чаще и чаще, возникали «опасные» разговоры о кострах, о
походах, о гольцах. И тогда мечта уносила нас к безграничным просторам
тайги, к заснеженным вершинам гор, рисовала захватывающие сцены единоборства
с медведем.
Начались сборы...
Который раз так вот, с волнением и тревогой, я покидаю родной очаг,
чтобы один на один столкнуться с дикой природой, с препятствиями, которые
лежат на пути к достижению цели. Много разных мыслей возникает в голове,
когда ты надолго отрываешься от семьи, друзей, цивилизованного мира и
отдаешь себя во власть случайностей. И хотя предшествующие походы, не менее
трудные, убеждают тебя, что все обойдется хорошо и ты через год снова
окажешься в кругу друзей, все же каждый раз перед отъездом тебя охватывает
тревога, сомнения, болью наливается сердце, и ты вдруг, с поразительной
ясностью сознаешь, как дорог тебе дом и как жестоко ты обрекаешь своих
близких на долгое ожидание и вечную тревогу за твою судьбу.
Рано утром мы покинули заснеженный Новосибирск и в этот же день
высадились на восточной оконечности материка.
Много лет штаб экспедиции располагался в крохотном дальневосточном
городке Зея. В февральские дни здесь шумно Люди готовятся в поход, торопятся
скорее попасть в тайгу. Это слово в их устах теперь звучит необычно
торжественно. В нем и простор, и вольность, и что то неодолимо манящее. В
человеке, видимо, до сих пор живет дух далекого предка -- кочевника. С
детства тянет его в леса, в горы, к костру, к открытому небу, к бродяжьей
жизни.
Еще несколько беспокойных дней, и самолеты приступят к переброске
подразделений. Одни улетят на Шантарские острова, другие -- к Охотску,
многих забросят на Алданское нагорье, к Чагарским гольцам, к Джугджуру, на
Удские мари... И там, на огромной неведомой территории, подлежащей
обработке, будут вытоптаны первые тропки, загорятся ночные костры, люди
вступят в единоборство с дикой природой.
С первого дня меня полностью захватывают экспедиционные дела. Надо
торопиться, пока еще на реках и озерах лед и самолеты могут безбоязненно
идти на посадку.
Первым отлетает техник Трофим Николаевич Королев с кадровыми рабочими
Николаем Юшмановым, Михаилом Богдановым. Иваном Харитоновым и Филиппом
Деморчуком. Они должны попасть в одну из бухт на Охотском побережье и
пробраться в центральную часть Джугджура. Участок их работы самый отдаленный
и трудный, поэтому туда и назначен Королев, смелый и напористый человек.
Вылет подразделения Королева назначили на двенадцатое февраля. Накануне
я задержался в штабе экспедиции до полуночи. Вместе с главным инженером
Хетагуровым и помощником Плоткиным окончательно просмотрели маршрут
Королева, еще раз проверили списки полученного снаряжения, продовольствия,
условились о местах встреч.
Когда мы вышли из штаба, город спал, прикрытый черным крылом зимней
ночи. Две одинокие звезды перемигивались у горизонта. С окраины города
доносилась протяжная девичья песня.
-- У Пугачева огонь горит, сегодня проводы товарищей, может, зайдем? --
предложил Трофим, когда мы поравнялись с квартирой Пугачева.
Нужно было оторваться хотя бы на час от цифр, схем, канцелярщины. За
день так намотаешься, что теряешь даже ощущение усталости. Сон не берет, и,
кажется, все равно, как дожидаться утра -- на ногах или в постели. Зашли В
комнате накурено. На столе беспорядок, как это бывает после званого ужина.
Экспедиция за двадцать с лишним лет существований совершила немало
славных дел, и сегодня творцы ее маленькой истории собрались у Пугачева,
старейшего работника.
Давно еще, в 1930 году, будучи мальчишкой, Пугачев приехал на Кольский
полуостров из глухой пензенской деревушки с дерзкой мыслью -- увидеть своими
глазами северное сияние. Нас он нашел в Хибинской тундре. Мы тогда делали
первую карту апатитовых месторождений.
Мечтательному парнишке понравилась наша работа, да и скитальческая
жизнь, и он навсегда остался с нами. Трофим Васильевич побывал с экспедицией
в Закавказье, на Охотском побережье, в Тункинских Альпах, Забайкалье; дважды
посетил центральную часть Восточного Саяна, был на всех трех Тунгусках,
прошел маршрутом от Байкала почти до Амура. Жизнь научила его смотреть в
лицо опасностям и испытаниям. Правда, незнакомцу, повстречавшемуся с этим
маленьким человеком -- кротким и застенчивым, ни за что не угадать в нем
отважного путешественника.
Сегодня у Трофима Васильевича собрались такие же, как и он сам,
следопыты и неугомонные путешественники -- Лебедев, Мищенко, Коротков и
другие. Мне приятно видеть их вместе, я не раз попадал с ними в опасные
переплеты, делил и невзгоды и радости.
Едва мы уселись за стол, ввалилась молодежь.
-- Откуда бредете, полуночники?
-- Из кино. Увидели свет и зашли. Ведь завтра Королев открывает
навигацию. Вот и не спится. Охота в тайгу.
И вдруг чей-то молодой, нарочито простодушный голос:
-- Есть, товарищи, предложение: поскольку тут тепло и уютно и учитывая
настойчивую просьбу хозяина, давайте останемся за этим столом до рассвета. А
утром все проводим Королева.
У хозяина на лице растерянность. Он смотрит на опустошенный стол, потом
лезет в дорожный ящик за закуской. Гости раздеваются, гремит посуда, комната
наполняется свежими голосами...
Через час мы с Королевым идем по пустым улицам,
-- Что с тобою, Трофим, почему ты последние дни такой молчаливый? -- в
темноте я совершенно не различаю его лица. -- Или не хочешь отвечать?
-- А какой толк таиться? Вы ведь знаете, вот уже год, как я не получаю
писем от Нины...
-- Пора, Трофим, забыть Нину, как это ни тяжело. Ничего у тебя с ней не
получится, не обманывай себя пустой надеждой.
-- Это так. Но обидно: не сумел устроить свою жизнь. Все у меня
наперекос идет, не как у людей... Скорей бы в тайгу, там проще.
-- Не хочется мне отпускать тебя с таким настроением.
Я затащил его к себе ночевать. До утра оставалось часа три. Хозяйка
подала ужин.
-- Мое прошлое -- непоправимая ошибка, а настоящее кажется мне
случайностью. К моим ногам, вероятно, упала чужая звезда, -- говорил Трофим
Николаевич медленно, не отводя от меня темно-серых глаз. -- Если бы я мог
забыть трущобы, Ермака и все, что связывает меня с этим именем, я был бы
счастлив. Вы только не посчитайте меня неблагодарным и не подумайте, что я
не чувствую хорошего отношения к себе... Все это мне и близко, и дорого. Но
повсюду за собой я тащу поняжку с прошлым.
-- Удивляюсь тебе, Трофим, -- возразил я. -- Шестнадцать лет прошло с
тех пор, как ты ушел от преступного мира. Пора о нем забыть.
-- Легко сказать -- забыть! Это ведь не папироска: выбросил, как
выкурил. Прошлое присосалось, как пиявка. А слово «вор», кто бы его ни
произнес, бьет до сих пор. Но ведь я столько же виноват в своем прошлом,
сколько и в своем рождении. Семилетним мальчишкой подобрали чужие люди,
сделали из меня вора и вором толкнули в жизнь. Тогда, еще в трущобах, я
где-то в глубине сознавал, что не этого мне надо. Но разве просто уйти от
привычной среды, подавить в себе неравнодушие к чужим вещам, научиться иначе
думать? И все же я ушел. А вот забыть прошлое не смог. Так и кажется, иду я
сбоку жизни, спотыкаюсь на ухабах, как незрячий мерин. Знаю, меня никто не
упрекает, мне открыты все дороги. Чего же не жить спокойно? Так нет!
Скажите, кому, как не злой судьбе, нужна была наша встреча с Ниной? Она
напомнила мне о прошлом и надсмеялась. Нина оттолкнула меня потому, что я --
бывший вор и могу теперь скомпрометировать ее.
-- Ты не прав, -- перебил я его. -- Нина любит тебя, и ее не смущает ни
ее собственное, ни твое прошлое. Но ты знаешь, она не может стать твоей
женой. При всей моей привязанности к тебе, Трофим, я должен сказать: Нина
поступила правильно. Тебе нужно жениться на другой. Разве мало хороших
девушек у нас? А насчет того, что идешь сбоку жизни -- неверно. Подумай,
разберись и не греши на себя. Что с того, что твоя дорога вначале шла по
ухабам? Все это уже давно позади. Сейчас у тебя интересная работа. Ты любишь
жизнь и не во имя ли ее столько пережил? Я не узнаю тебя, Трофим! Может,
действительно, задержаться дня на два с вылетом?
-- Нет, полечу, мне нужно скорее в тайгу!
-- Боюсь, поедешь с таким настроением, рисковать начнешь и потеряешь
голову.
Трофим молчал, сдерживая волнение.
-- Ложись-ка ты лучше спать. Утро вечера мудренее!
-- Да, скорее бы рассвело... Знаете, чего мне хочется? -- вдруг сказал
он, повернувшись ко мне. -- В пороги, на скалы! Ломать, грызть зубами,
кричать, чтобы все заглушить! Вы же не знаете всего моего прошлого... -- Он
встал и бесшумными шагами отошел от кровати.
В комнате наступила тишина. Ветер хлопнул ставней, и отдыхавшая на
диване кошка поспешно убралась за перегородку. Я чувствовал, как тяжелыми
ударами пульсирует в голове кровь. Трофим стоял спиной ко мне, сцепив на
затылке руки и устало опустив голову.
На розовеющем востоке нарождалось солнце, и навстречу ему плыло по небу
свежее, как зимнее утро, облачко. Город просыпался медленно. Нехотя
перекликались петухи. У реки тяжело пыхтел локомобиль. Из труб высоко-высоко
тянулись белые столбы дыма.
...У самолета собралась толпа провожающих. Шум, смех. Чувствовалось,
что все живут одними мыслями, желаниями, одной целью. Приятно смотреть на
этих людей, связанных долголетней совместной работой и искренней дружбой.
Трофим повеселел, лицо, усеянное едва заметными рябинками, посвежело от
румянца. Отъезжая, он верил, что в тайге не будет одинок. Повстречайся он с
бедой, где бы она его ни захватила, мы придем да помощь.
До отлета остались минуты. Машина загружена. Экипаж на местах, но люди
еще прощаются. Все говорят одновременно, понять ничего нельзя. Королев
вырвал из толпы Пугачева, обнял и, не выпуская из своих объятий, сказал,
обращаясь ко всем:
-- Спасибо вам. Я счастлив, что имею таких друзей.
Вдруг чихнул один из моторов и загудел, бросая в нас клочья едкого
дыма. Тотчас заработал второй, и самолет забился в мелкой нетерпеливой
дрожи.
Я прощался с Трофимом последним.
-- Приедете ко мне в этом году? Легкая тень скользнула по его лицу,
вероятно, вспомнил наш ночной разговор.
-- Не обещаю. Скорее всего на инспекцию к тебе нагрянет Хетагуров. Ему
ближе.
Крепко жмем друг другу руки, обнимаемся.
Лучи поднявшегося солнца серебрят степь, узкой полоской прижавшуюся к
горе. В березовой роще жесткий ветер веет сыпучий снег.
Самолет, покачиваясь, вышел на дорожку. Моторы стихли в минутной
передышке, потом взревели, и машина, пробежав мимо нас, взлетела. Через
несколько минут она потерялась в синеве безоблачного неба...
В штабе остается все меньше народа. Мы торопимся до наступления
распутицы разбросать все подразделения по тайге. Главное -- не упустить
время, использовать лед на реках и озерах для посадки тяжелых самолетов.
Двадцать шестого марта пришел и наш черед. Я решаю весну провести у
топографов на Удских марях. Со мною Василий Николаевич Мищенко, с которым
вот уже четырнадцатый год мы не разлучаемся, и Геннадий Чернышев -- радист,
тоже не новичок в тайге. У нас давно все готово, проверено, упаковано.
Сознаюсь, с удовольствием покидаю штаб со всей его канцелярией, сводками,
телефонными звонками, озабоченными лицами штабных работников и
обормотом-котом, наблюдающим мир из окна бухгалтерии. Иное ждет нас там, в
глуши лесов, на нехоженых горных тропах.
...Мы летим над тайгой. Кругом зима -- ни единой проталины, пустынно.
Самолет набирает высоту, отклоняется, идет на юго-восток. За равниной --
вздыбленные горы. На каменных уступах, у их подножий клубятся облака, и лишь
пологие гребни, поднятые титанической силой земли к небу, облиты солнцем...
Облака движутся, меняют свои мягкие очертания, остаются позади. За горами
тайга, накинутая ворсистой шубой на холмы. И наконец широкая равнина, вся в
брызгах озер, в витиеватых прожилках рек, прикрытая щетиной сгоревшего леса.
В центре лежит ледяной плешиной озеро Лилимун, окольцованное темно-зеленой
хвоей. Мы еще далеко, а у противоположного берега уже потянулся вверх
сигнальный дымок.
Моих товарищей первая часть пути разочаровывает. Ну что особенного:
всего час назад поднялись в воздух, и вот уже посадка. Правда, не на
аэродром, а на озеро, но что от этого изменилось? Нас окружают знакомые
лица, звучат веселые голоса. Рядом с посадочной площадкой под охраной
береговой чащи стоят палатки, лежит груз, горит костер подразделения
топографа Михаила Закусина.
Мы быстро и весело разгружаемся. Но больше всех довольны собаки, Бойка
и Кучум. Они носятся по косе, лают и, наконец, исчезают в тайге.
Михаил Закусин приглашает экипаж самолета в палатку.
-- В городе вас таким обедом не угостят. Даже заправскому повару не
приготовить так вкусно! К тому же, учтите, у нас все в натуральном виде,
объемное. А какой воздух, обстановка, -- куда там вашему ресторану! Так что
не отказывайтесь!
-- Напрасно ты, Михаил, уговариваешь, мы ведь не из робких, -- отвечает
командир Булыгин. -- Знаем ваши таежные прейскуранты, умышленно сегодня не
завтракали.
В палатке просторно. Пахнет жареной дичью, свежей хвоей, устилающей
пол, и еще чем-то острым.
-- Откуда это у вас петрушка? Зеленая -- и так рано! -- удивляется
Булыгин, пробуя уху.
-- Это уж обращайтесь к Мищенко, он у нас мичуринец. Даже тропические
растения выращивает в походе, -- ответил Закусин.
-- Он наговорит -- на березе груши! -- отозвался Василий Николаевич. --
Ей-богу в жизни не видел тропического дерева. В прошлом году на Саяне был,
лимон в потке (*Потка -- оленья вьючная сумка) сгнил, а одно зернышко
проросло, жить, значит, захотело. Дай, думаю, посажу в баночку, пусть
растет. Ну и провозил лето в потке на олене, а теперь лимон дома, с четверть
метра поднялся. А насчет зелени -- тут я ни при чем. От прошлого года
осталось немного петрушки, вот я и бросил щепотку в ушицу. Травка хотя и
сухая, но запах держит куда с добром!
Через час самолет поднялся в воздух, махнул нам на прощанье крылом и
скрылся с глаз.
Вот мы и на пороге новой, давно желанной, жизни! До вечера успели
поставить еще одну палатку, заготовить дров и установить рацию.
День угасал. Скрылось солнце. Отблеск вечерней зари лег на лагерь, на
макушки тополей и вершины гор, но мало-помалу и этот свет исчез. Появилась
звезда, потом вторая, и плотная ночь окутала лагерь.
К нам в палатку пришел Закусин. Геннадий, забившись в угол, принимал
радиограммы.
-- Проводники наши прибыли? -- спросил я Закусина.
-- Тут где-то на марях живут с оленями, километрах в десяти от озера.
Давно ждут вас. Вчера приезжал за продуктами Улукиткан. Мы тут с ним
посидели с полчаса за чаем, и он уехал, а я все думаю: как может человек в
восемьдесят лет столько хранить в своей памяти. Посуди сам, он мне рассказал
подробно, как пробраться отсюда до Чагарских гольцов и к вершине Шевли. «Ты
недавно тут был?» -- спросил я его. «Что ты, -- говорит он, -- однако, лет
пятьдесят, больше». А рассказывал, будто. на карту смотрел. Есть же такие
люди!
Я ему ничего не ответил. Не могу равнодушно слышать имя Улукиткана. Не
дождусь момента, когда, наконец-то, после зимней разлуки обниму старика,
услышу его кроткий голос.
Мы молча пьем чай.
-- Есть неприятное сообщение от Плоткина. -- Геннадий, отрываясь от
аппарата, передает мне радиограмму, принятую из штаба.
-- Только что получили молнию от Виноградова с побережья Охотского
моря: «По пути на свой участок заезжал в подразделение Королева, к
Алгычанскому пику. Нашел только палатку, занесенную снегом. По всему видно,
люди ушли из лагеря ненадолго и заблудились или погибли. В течение двух дней
искали, но безрезультатно, никаких следов нет. Необходимо срочно
организовать поиски. В горах сейчас небывалый холод. Работа на пике
Королевым, вероятно, закончена, видел на вершине отстроенную пирамиду.
Молнируйте ваше решение. Виноградов».
Я еще и еще раз прочел радиограмму вслух и сразу вспомнил наш последний
разговор с Трофимом. Он так и остался незаконченным, и Королев увез с собой
тяжелые, угнетавшие его сомнения, в которых я не смог разобраться до конца.
Мысли, одна за другой, метелицей закружились в голове...
-- Не может быть, чтобы заблудились. Горы не тайга, а вот настроение у
него, -- Василий Николаевич не закончил фразы.
С минуту длилось молчание. Случайный ветер, ворвавшись в палатку,
погасил свечу. На реке глухо треснул лед.
-- В горах все может случиться! Долго ли оборваться, а то и замерзнуть.
Отправьте нас на розыски, ребята у меня надежные, -- заговорил Закусин.
Мищенко зажег свечу, и снова наступила тишина.
-- Плоткин ждет у аппарата, -- буркнул Геннадий.
-- Передай ему, пусть утром высылает за нами самолет, а тебе, Михаил,
придется ехать одному на мари. Коли случилось такое несчастье, то на розыски
полетим мы.
Я попросил Плоткина телеграфировать Виноградову: «Завтра вылетаю с
поисковой группой на побережье, далее пойдем на оленях маршрутом Королева к
Алгычанскому пику, будем искать затерявшихся в районе западного склона
гольца. Вам предлагаю не дожидаться нас, завтра выходить на розыски в район
восточных склонов гольца. Оставьте письмо о своем маршруте и планах. В
случае удачи вышлите к нам нарочного. Поиски не прекращать до получения
распоряжения».
Тревожная весть быстро облетела маленький лагерь. Все собрались в нашей
палатке. В долине темно, шальной ветер рыщет по дуплам старых елей, да
стонет рядом горбатый тополь.
Хотя жизнь и приучила нас ко всяким неожиданностям, случай на
Алгычанском пике глубоко встревожил всех. Конечно, Трофим в любом испытании
не сдастся до последнего удара сердца, и его товарищи -- люди стойкие. Они
не могли стать жертвами оплошности. Но надо спешить им на помощь!
Геннадий, закончив работу, держал в руках книгу, но не читал, а о
чем-то думал. Закусин беспрерывно курил. Про ужин забыли.
Наступила полночь. Лагерь уснул. Стих и ветер. Запоздалая луна осветила
палатку. Меня растревожили думы, одна за другой, как во сне, мелькали
картины, связанные с юношеской жизнью Трофима Королева.
...В 1931 году мы работали на юге Азербайджана. Я возвращался из
Тбилиси в Мильскую степь, в свою экспедицию. На станции Евлах меня поджидал
кучер Беюкши на пароконной подводе. Но в этот день уехать не удалось: где-то
на железной дороге задержался наш багаж.
Солнце палило немилосердно, нигде нельзя было найти прохлады.
-- Надо пить чай! -- советовал Беюкши. -- От горячего чая бывает
прохладно.
-- А если я не привык к чаю?
-- Тогда поедем ночевать за станцию, в степь, -- ответил он.
Пара изнуренных жарою лошадей протащила бричку по ухабам привокзального
поселка, свернула влево Прямо в степи натянули палатку. Беюкши ушел в
поселок ночевать к своим родственникам, а я расположился отдыхать.
Не помню, как долго продолжался сон, но пробудился я внезапно,
встревоженный каким-то необъяснимым предчувствием, а возможно, лунным
светом, проникавшим в палатку.
«Не Беюкши ли пришел?» -- мелькнуло в голове. Я приподнялся и тотчас
отшатнулся от подушки: к изголовью бесшумно спускалось лезвие бритвы,
разделяя на две части глухую стенку палатки. Пока я соображал, что
предпринять, в образовавшееся отверстие просунулась лохматая голова, затем
рука, в сжатых пальцах блеснула финка. Возле меня, кроме чернильницы, ничего
не было, и я, не задумываясь, выплеснул ее содержимое в лицо бродяги.
-- Зануда... еще и плюется! -- бросил тот, отскакивая от палатки.
Через минуту в тиши лунной ночи смолкли торопливые шаги.
Уснуть я больше не мог. Малейший шорох настораживал: то слышались шаги,
то топот. В действительности же возле палатки никто больше не появлялся.
Утром мы получили багаж, позавтракали в чайхане и тронулись в далекий
путь. Лошади легко бежали по пыльному шоссе. Над равниной возвышались
однообразные холмы. Кругом низкорослый ковыль, местами щебень. И только там,
куда арыки приносят свою драгоценную влагу, виднелись полоски яркой зелени.
Проехав километров пять по шоссе, мы неожиданно увидели возле кювета
группу беспризорников.
-- Стой! -- крикнул я кучеру и спрыгнул с брички.
-- Ты резал палатку? -- спросил я одного из них. Беспризорники вскочили
и скучились на краю дороги, словно сросшиеся дубки. Подбежал Беюкши.
-- Где морду вымазал в чернилах, говори? -- крикнул он, и в воздухе
взметнулся кнут.
-- Не смей! Убью! -- заорал старший из ребят, поднимая над головою
Беюкши костыль.
Кнут, описав в воздухе дугу, повис на поднятом кнутовище. Беспризорник
стоял на одной ноге, удерживая другую, больную, почти на весу. Он
выпрямился, повернулся лицом ко мне и уже с пренебрежительным спокойствием
добавил:
-- Я резал, а лезть должен был он, Хлюст, но трогать его не смей,
слышишь? -- И он гневно сверкнул глазами.
-- Что, выкусил? -- Хлюст ехидно улыбался, выглядывая из-за спины
защитника.
Лицо у него было маленькое, подвижное, нос тонкий, длинный, бекасиный,
глаза озорные. Чернила угодили ему в нос и полосами разукрасили щеки. На
груди широкой прорехой расползлась истлевшая от времени рубашка, обнажив
худое и грязное тело.
Я рассмеялся, и какую-то долю минуты мы молча рассматривали друг друга.
Это были совсем одичавшие мальчишки. Старшему едва ли можно было дать
шестнадцать лет. Он стоял сбоку от меня, заслоняя собою остальных и опираясь
на костыль. Вид его был жалок. Черное, как мазут, тело прикрывалось грязными
лохмотьями. Больная нога перевязана тряпкой, на голове лежат прядями
нечесаные волосы. Но в открытых глазах, в строгой линии сжатых губ, даже в
продолговатом вырезе ноздрей чувствовалась дерзкая сила.
-- Чего же ты не бьешь? -- спросил он меня с тем же пренебрежением.
-- Гайка слаба, ишь бельмы выкатил! -- засмеялся Хлюст, передразнивая
Беюкши.
-- Ты мне смотри, бродяга! -- заорал тот гневно и шагнул вперед.
-- Говорю, не смей! -- хромой, отбросив костыль, выхватил из рук Хлюста
финку и встал перед Беюкши.
Тот вдруг прыгнул к нему, свалил на землю и поволок на шоссе. Остальные
ребята, оробев, отскочили за кювет. Я подобрал упавший нож.
-- Вот сдадим тебя в сельсовет, будешь знать, как резать палатку. И за
нож ты мне ответишь, -- говорил Беюкши, затаскивая парня в бричку.
Мы поехали, а трое чумазых мальчишек остались у дороги.
Наш пассажир лежал ничком в задке брички, между тюками, поджав под себя
больную ногу. Из растревоженной раны сквозь перевязку сочилась мутная кровь
и по жесткой подстилке скатывалась на пыльную дорогу.
-- Тебе больно? Перевязку не делаешь, запах-то какой тяжелый. Подложи
вот... -- сказал я, доставая брезент.
Беспризорник вырвал его из моих рук и выбросил на дорогу. Беюкши
остановил лошадей.
-- Чего норовишь? Приедем в поселок, там живо усмирят. Мошенник! --
злился он.
Я поднял брезент, и мы поехали дальше. Беспризорник продолжал лежать на
спине, подставив горячему солнцу открытую голову. Трудно было догадаться, от
каких мыслей у него временами сдвигались брови и пальцы сжимались в кулаки.
Он тяжело дышал, глотая открытым ртом сухой и пыльный воздух. «А ведь в нем
бьется человеческое сердце, молодое, сильное», -- подумал я, и мне вдруг
стало больно за него. Почему этот юноша отшатнулся от большой, настоящей
жизни, связался с финкой, откуда у него столько ненависти к людям?
-- Тебя как звать?
-- Всяко, -- ответил он нехотя, -- кто сволочью, а другие к этому имени
еще и пинка прибавляют.
-- А мать как называла?
-- Матери не помню.
-- Под какой кличкой живешь?
Он не ответил.
В полдень мы подъехали к селению Барда. Беспризорник вдруг заволновался
и стал прятаться за тюки. В сельсовете никого не оказалось -- был выходной
лень.
-- Слезай, да больше не попадайся! -- скомандовал Беюкши.
-- Дяденька, что хотите делайте со мной, только не оставляйте тут! --
взмолился беспризорник.
-- Наверное, кого-нибудь ограбил? -- спросил я.
Он утвердительно кивнул головой. Что-то подкупающее было в этом
юношеском признании. Мне захотелось приласкать юношу, снять с него лохмотья,
смыть грязь, а может быть, вырвать его из преступного мира Но эти мысли тут
же показались наивными. Легко сказать, перевоспитать человека! Одного
желания слишком мало для этого. И все же, сам не знаю почему, я предложил
Беюкши ехать дальше.
-- А куда его?
-- Возьмем с собой в лагерь.
-- Что вы! -- завопил он. -- Еще ограбит кого-нибудь, а то и убьет. Ему
это ничего не стоит.
-- Куда же он пойдет больной, без костылей? Вылечим, а там видно будет.
Захочет работать -- останется, человеком сделаем.
Беюкши неодобрительно покачал головой, тронул лошадей. За поселком мы
свернули с шоссе влево и поехали проселочной дорогой, придерживаясь южного
направления.
Беспризорник забеспокоился. Разозленный собственной беспомощностью,
парень гнул шею, доставал зубами рукав рубашки и рвал его. На мои вопросы
отвечал враждебным молчанием.
А мне захотелось помириться с ним. И когда я посмотрел на него иначе,
без неприязненности, что-то необъяснимо привлекательное почудилось мне и в
округлом лице, обожженном солнцем, и в темно-серых, скорее вдумчивых, чем
злобных, глазах, прятавшихся под пушистыми бровями. Плотно сжатые губы и
прямо срезанный подбородок свидетельствовали о волевом характере парня.
Только на второй день он разрешил мне перевязать ногу. Сквозная пулевая
рана, ужасная по размерам, была запущена до крайности. Я не спросил, кто
стрелял в него и где он получил эту рану. И вообще решил не проявлять
любопытства к его жизни, будто она совсем не интересовала меня.
На четвертый день мы приехали в лагерь. Вокруг лежала безводная степь,
опаленная июльским солнцем. Ни деревца, ни тени.
В палатках душно. Местное население летом предпочитало уходить со
скотом в горы, и от этого равнина казалась пустынной.
Беспризорник дичился, отказывался от самых элементарных удобств. С нами
почти не разговаривал. Жил под бричкой с Казбеком -- злым и ворчливым
кобелем. Спал па голой земле, прикрывшись лохмотьями. По всему было видно,
что он не собирался расставаться с жизнью беспризорника и надеялся уйти от
нас, как только заживет рана.
Жители лагеря относились к беспризорнику, как к равному. Ему сделали
костыли, и он разгуливал между палатками или выходил на курган, под которым
стоял лагерь, и подолгу смотрел на север. О чем думал парнишка, всматриваясь
в мглистую степную даль? Он напоминал мне раненую птицу, отставшую от своей
стаи во время перелета. Возвратившись с кургана, он обычно ложился к Казбеку
и долго оставался грустным.
Однажды, перевязывая ему рану, я, как бы между прочим, сказал:
-- Нужно смыть грязь, видишь, рана не заживает, можешь остаться
калекой. Он ничего не ответил. Со мною в палатке жил техник Шалико
Цхомелидзе.
Мы согрели с ним воды и, когда лагерь уснул, искупали парня. Его спина
была исписана рубцами давно заживших ран. Но мы ни единым словом не выдали
своего любопытства, хотя очень хотели узнать, что это за шрамы. Утром
товарищи сделали балаган, и беспризорник переселился туда вместе с Казбеком.
Несколько позже, в минуту откровенности, он сказал мне свое имя: его
звали Трофимом. У юноши зарождалось ко мне доверие, очень пугливое и,
вероятно, бессознательное. Я же, оставаясь внешне безразличным к его прежней
жизни, осторожно, шаг за шагом, входил в его внутренний мир. Хотелось
сблизиться с этим огрубевшим парнем, зажечь в нем искорку любви к труду. Но
это оказалось очень сложным даже для нашего дружного коллектива.
Я много думал, чем соблазнить беспризорника, увлечь его и заглушить в
нем тоску по преступному миру. Вспомнилось, как в его возрасте мне страшно
хотелось иметь ружье, как я завидовал своим старшим товарищам, уже бегавшим
по воскресеньям на охоту. Я тогда считал за счастье, если они брали меня с
собой хотя бы в роли гончей. Может быть, и в натуре Трофима таится охотничья
страсть?
Придя вечером с работы, я достал патронташ, нарочито на глазах у
беспризорника зарядил патроны и выстрелил в цель.
-- Пойдем, Трофим, со мной на охоту? Тут недалеко я видел куропаток.
Он кивнул утвердительно головой и встал. Рана на ноге так затянулась,
что парень мог идти без костылей.
-- Бери ружье, а я возьму фотоаппарат, сделаем снимки.
Он настороженно покосился на меня, но ружье взял, и мы не торопясь
направились к арыку. Шли рядом. Я наблюдал за Трофимом. Парень будто забыл
про больную ногу, шагал по-мужски твердой поступью, в глазах нескрытый
восторг, но уста упрямо хранили молчание.
Скоро подошли к кустарнику, показались зеленые лужайки, протянувшиеся
вдоль арыка. Я взял у беспризорника ружье, зарядил его, отмерил тридцать
шагов и повесил бумажку.
-- Попадешь? -- спросил я. -- Ты когда-нибудь стрелял?
Трофим покачал головою.
-- Попробуй. Бери ружье двумя руками, взводи правый курок и плотнее
прижимай ложе к плечу. Теперь целься и нажимай спуск.
Глухой звук выстрела пополз по степи. Рядом с мишенью вздрогнул куст, и
Трофим, поняв, что промазал, смутился.
-- Для первого выстрела это хорошо. Стреляй еще раз, только теперь
целься не торопясь. Ружье нужно держать так, чтобы прицельной рамки не было
видно, а только мушку, ты и наводи ее на бумагу.
Трофим долго целился, тяжело дышал и, наконец, выстрелил. От удачи его
мрачное лицо слегка оживилось.
Мы пошли вдоль арыка.
-- Если понравится тебе охота, я подарю ружье, научу стрелять.
-- Зря беспокоитесь, к чему мне это? А ружье надо будет -- не такое
достану!
В это время, чуть ли не из-под ног, выскочил крупный заяц. Прижав уши,
он легкими прыжками стал улепетывать от нас через лужайку. Я выстрелил.
Косой в прыжке перевернулся через голову, упал, но справился и бросился к
арыку. А следом за ним мчался Трофим. В азарте он прыгал через кусты,
метался, как гончая за раненым зайцем, падал и все же поймал. Подняв добычу,
беспризорник побежал ко мне.
-- Поймал! -- кричал он, по-детски торжествуя.
Я пошел навстречу. Парнишка вдруг остановился, бросил зайца -- и словно
кто-то невидимой рукой смахнул с его лица радость. Он дико покосился на
меня. В сжатых губах, в раздутых учащенным дыханием ноздрях снова сквозила
непримиримость. Я ничего не сказал, поднял зайца, и мы направились в лагерь.
Трофим, прихрамывая, шел за мною. Иногда, оглядываясь, я ловил на себе его
взгляд.
В этот день Трофим отказался от ужина, до утра забился в угол балагана.
...Закончив работу, мы готовились переезжать на новое место. Рана у
Трофима зажила. Иногда, скучая, он собирал топливо по степи, носил из арыка
воду, но к нашим работам не проявлял сколько-нибудь заметного любопытства.
Утром, в день переезда, случилась неприятность. Ко мне в палатку с
криком ворвался техник Амбарцумянц.
-- У меня сейчас стащили часы. Я умывался, они были в карманчике брюк,
вместе с цепочкой, и пока я вытирал лицо, цепочка оказалась на земле, а часы
исчезли.
-- Кто же мог их взять?
-- Не заметил, но сделано с ловкостью профессионала!
-- Вы, конечно, подозреваете Трофима?
-- Больше некому.
-- Это возможно... -- принужден был согласиться я, -- Но как он мог
решиться на такую кражу, заранее зная, что именно его обвинят в ней?
Неприятное, отталкивающее чувство вдруг зародилось во мне к Трофиму.
-- Скажите Беюкши, пусть сейчас же отвезет его в Агдам. Когда они
отъедут, задержите подводу и обыщите его.
Амбарцумянц вышел. Против моей палатки у балагана сидел Трофим,
беззаботно отщипывая кусочки хлеба и бросая их Казбеку. Тот, неуклюже
подпрыгивая, ловил их на лету, и Трофим громко смеялся. В таком веселом
настроении я его видел впервые. «Не поторопился ли я с решением? --
мелькнуло в голове. -- А вдруг не он?» Мне стало неловко при одной мысли,
что мы могли ошибиться. Нет, я наверное знал, что часы украдены именно им,
что смеется он не над Казбеком, а над нашей доверчивостью. И все же, как ни
странно, желание разгадать этого человека, помочь ему стало еще сильнее. Я
вернул Амбарцумянца и отменил распоряжение.
-- Потерпим его у нас еще несколько дней, а часы найдутся на новой
стоянке. Не бросит же он их здесь, -- сказал я.
Лагерь свернули, и экспедиция ушла далеко в глубь степи. Впереди лениво
шагали верблюды, за ними ехал Беюкши на бричке, а затем шли и мы вперемежку
с завьюченными ишаками. Где-то позади плелся Трофим с Казбеком.
Новый лагерь принес нам много неприятностей. Началось с того, что
пропал бумажник с деньгами на следующий день были выкрадены еще одни часы.
Все это делалось с такой ловкостью, что никто из пострадавших не мог сказать
когда и при каких обстоятельствах случилась пропажа.
Наше терпение кончилось. Нужно было убрать беспризорника из лагеря.
Но прежде чем объявить ему об этом, мне хотелось поговорить с Трофимом
по душам. Я уже привязался к нему и был уверен, что в этом чумазом
беспризорнике живет смелый, сильный человек, и, возможно, бессознательно
искал оправдания его поступкам.
-- Ты украл часы и бумажник? -- спросил я его. Он утвердительно кивнул
головой и без смущения взглянул на меня ясными глазами.
-- Зачем ты это сделал?
-- Я иначе не могу, привык воровать. Но мне не нужны ваши деньги и
вещи, возьмите их у себя в изголовье, под спальным мешком. Я должен
тренироваться, а то загрубеют пальцы, и я не смогу... Это моя профессия. --
Он шагнул вперед и, вытянув худую руку, показал мне свои тонкие пальцы. -- Я
кольцом резал шелковую ткань на людях, не задевая тела, а теперь с трудом
вытаскиваю карманные часы. Мне нужно вернуться к своим. Тут мне делать
нечего. Да они и не простят мне... В палатке собрался почти весь наш отряд.
-- Если ты не оценил хорошего отношения к себе, не увидел в нас своих
настоящих друзей, то лучше уходи, -- сказал я решительно.
Трофим заколебался. Потом вдруг выпрямился и окинул всех независимым,
холодным взглядом. Нам все стало понятно.
Люди молча расступились, освобождая проход, и беспризорник не торопясь
вышел из палатки. Он не попрощался, даже не оглянулся. Так и ушел один, в
чужих стоптанных сапогах. Кто-то из рабочих догнал его и безуспешно пытался
дать кусок хлеба.
Как только фигура Трофима растворилась в степном мареве, люди разорили
его балаган, убрали постель и снова привязали Казбека к бричке. В лагере все
стало по-прежнему.
Теплая ночь окутала широкую степь. Дождевая туча лениво ползла на
запад. Над Курою пошептывал гром. В полночь хлестнул дождь. Вдруг послышался
отчаянный лай собаки.
-- Вы не спите? Трофим вернулся, -- таинственно прошептал дежурный,
заглянув в палатку.
Мы встали. Шалико зажег свечу. В полосе света, вырвавшегося из палатки,
мы увидели Трофима. Он стоял возле Казбека, лаская его худыми руками.
-- Не мокни на дожде, заходи, -- предложил я, готовый чуть ли не обнять
его.
-- Нет, я не пойду. Отдайте мне Казбека, -- произнес он усталым
голосом, но, повинуясь какому-то внутреннему зову, вошел в палатку.
С минуту длилось молчание. «Зачем он вернулся?» -- думал я, пытаясь
проникнуть в его мысли. Дежурный вскипятил чай, принес мяса и фруктов,
Трофима угощали табаком.
-- Оставайся с нами, хорошо будет, мы не обидим тебя, -- сказал Шалико.
-- Говорю -- не останусь! Нечего мне тут делать!
-- Пойдешь воровать, резать карманы? Долго ли проживешь с такой
профессией?
-- Я не собираюсь долго жить, -- ответил он, пряча свой взгляд.
Шалико вдруг схватил его за подбородок и повернул к свету.
-- А ведь не за Казбеком ты вернулся, по глазам вижу. Не хочется тебе
уходить от нас. Вот что, Трофим. Мы завтра собираемся в разведку, пойдем в
Куринские плавни на несколько дней. С собой берем ружье, удочки, будем там,
между делом, охотиться на диких кабанов, стрелять фазанов, куропаток, ловить
рыбу. Будем жарить шашлык и спать возле костра. Нам нужно взять с собою
Казбека, вот ты и поведешь его. Согласен?
Трофим не смотрел на Шалико, но слушал внимательно, даже забыл про еду.
-- А насчет пальцев, чтобы они у тебя не загрубели, проходи практику
тут, у нас, разрешаем. Тащи, что хочешь, упражняйся. Ну как, согласен?
Трофим молчал, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону.
-- А как вернемся, отдадите Казбека? -- неожиданно спросил он.
-- Да он твой и сейчас. Значит, договорились?
Утром Трофим не ушел из лагеря. Он сидел возле палатки мрачный,
подавленный какими-то мыслями. Это была не внутренняя борьба, а только
раздумье над чем-то неясным, еще не созревшим, но уже зародившимся в нем.
Помню, отряд Шалико Цхомелидзе уходил к Куре поздним утром. Над степью
висела мгла. Было жарко и душно. Трофим шел далеко позади, ведя на поводке
Казбека. Шел неохотно, вероятно не понимая, зачем все это ему нужно.
Из плавней Трофим вернулся повеселевшим. Он и внешне перестал походить
на беспризорника: с лица смылась мазутная грязь, и теперь по нему яснее
выступили рябинки, волосы распушились и побелели, глаза как бы посветлели.
Сатиновая рубашка была перехвачена вместо пояса веревочкой. За плечами висел
рюкзак. Мы тогда готовы были поздравить себя с успехом, пожать друг другу
руки. Но Трофим, как и раньше, не хотел поселиться в палатке.
Вечером рабочие долго играли в городки. Трофим отказался принять
участие в игре. Сидя возле балагана, старался оставаться совсем чужим,
безразличным ко всему окружающему. Но я заметил: когда среди играющих
завязывался спор, парень сразу настораживался, приподнимался, и тогда у него
было лицо настоящего болельщика.
Спустилась ночь, и лагерь наконец угомонился. В палатку заглянула
одинокая луна. Кругом было так светло, будто какой-то необыкновенный день
разлился по степи. Вдруг до слуха долетел странный звук, словно кто-то
ударил по рюшке. Я осторожно выглянул и замер от неожиданности: Трофим один
играл в городки несколько поодаль от палаток. Воровски оглядываясь, он
ловким взмахом бросал палку, и рюшки, кувыркаясь, разлетались по сторонам.
Я наблюдал за ним и с радостью и с болью. В Трофиме, как и в каждом
мальчишке, жило неугомонное желание поиграть, порезвиться. Но в той среде,
откуда пришел он, обыкновенные детские забавы считались недостойным
занятием, вся мальчишеская энергия тратилась на воровские дела.
Утром меня разбудил громкий разговор.
-- Ну и черт с ним! Волка сколько ни корми -- он все в лес смотрит.
-- Что, Трофим сбежал? -- спросил кто-то.
-- Ушел ночью и Казбека увел. Хитрая бестия! Чего ему было тут не жить?
Рану залечили, нянчились с ним больше месяца, чуть ли не из соски кормили, и
все бесплатно, а как дошло до работы, пружина ослабла. Ишь, на собаку
польстился!
В ноябре мы переехали в Муганскую степь и разбили свой лагерь возле
кургана Султан-Буд. Днем и ночью в степи не умолкал крик прилетающих на
зимовку птиц.
За работой время проходило незаметно. Мы совершали длительные походы в
самые глухие места равнины и все реже вспоминали Трофима.
Срочные дела заставили меня выехать в Баку. Перед возвращением в
экспедицию я пошел на Шайтан-базар -- один из самых старинных и популярных в
Баку. Каждый приезжий считал тогда своим долгом побывать здесь, отведать
пети (*Пети -- восточное кушанье из гороха и баранины) или купить восточных
сладостей. Базар поражал обилием фруктов и овощей, пестрой толпой,
заполняющей узкие проходы, криком торгашей, от которого долго шумело в ушах.
Подчиняясь людскому потоку, я попал в мясные ряды и случайно оказался в гуще
разъяренной толпы. Люди кричали, ругались, грозили кому-то расправой. Затем
я увидел, как женщины ворвались в лавчонку и буквально выбросили через
прилавок толстенного мясника. Его начали бить сумками, кулаками, бросали в
него куски мяса. Он стоял, прикрывая лицо руками, и вопил, вздрагивая
тяжелым телом. К нему прорвалась маленькая женщина. Она подняла руки и с
ужасом на лице стала просить у людей пощады мяснику.
Я кое-как выбрался из толпы, но у первого прохода увидел беспризорников
и остановился. Хватаясь за животы, они дружно и с такой откровенностью
смеялись, что могли заразить любого человека. «Что их так смешит? -- подумал
я и подошел ближе. -- Да ведь это Хлюст!..» Он тоже узнал меня с первого
взгляда. Гримаса смеха мгновенно слетела с его лица. Парнишка выпрямился и
предупредительно толкнул локтем соседа справа. Тот повернул голову.
-- Трофим! Здравствуй! -- воскликнул я, обрадованный неожиданной
встречей.
Он вскинул на меня темно-серые глаза, да так и замер.
-- Что ты здесь делаешь? -- вырвалось у меня. Он неловко улыбнулся и
покосился на стоявшую рядом девчонку.
-- Вчера мясник Любку побил, за это мы натравили на него людей, пусть
помнут немного.
Толпа расходилась. Я взглянул на Любку и вспомнил, что однажды Трофим
произносил ее имя. Любке было лет шестнадцать. Она дерзко смотрела на меня,
пронизывая черными глазами. Что-то приятное, даже чарующее, было в ее
бронзовом продолговатом лице. Тонкая и стройная фигурка девушки прикрывалась
старым латаным платьицем неопределенного цвета. Бусы из янтаря, цветного
стекла, монет и других безделушек еще более подчеркивали ее сходство с
цыганкой.
Беспризорница стояла, перекосив плечи, сцепив за спиной загорелые руки.
Она была юна, но в ее непринужденной позе, в миловидном лице и даже небрежно
расчесанных волосах сквозила самоуверенность девчонки, знающей себе цену.
Она внимательно рассматривала меня, небрежно разгребая песок пальцами босой
ноги.
-- За что же он вас побил? -- спросил я ее.
-- Хе! За что нас бьют? За то, что беспризорники, -- бойко ответил за
нее Хлюст и вдруг улыбнулся. -- А мы у него не в долгу.
И он кивнул головою на толпу.
-- Заступились за вас?
-- Ну да, заступятся! -- бросил он пренебрежительно. -- Сами придумали.
Украли у железнодорожника здоровенного кабана и продали по дешевке этому
мяснику -- он и рад. А хозяину мы сказали, что мясник его кабана зарезал.
Вот из него и выбивали барыши. Гляньте, гляньте, он даже слюни распустил! --
и Хлюст громко рассмеялся.
Все с интересом повернули головы к забытому зрелищу. Толпа успела уже
рассеяться. Толстый мясник сидел возле своей лавчонки и плакал навзрыд, а
маленькая женщина прикладывала к его голове мокрый платок.
-- Пусть не трогает наших, -- процедил Трофим. С минуту помолчали.
-- А где Казбек?
-- Он с нами живет в карьерах, растолстел... -- ответил Хлюст.
Мне хотелось о многом спросить Трофима, но разговор не клеился.
Он вдруг оживился:
-- Вы где живете?
-- Я сегодня вечером уеду тбилисским поездом. Приезжайте все к нам в
гости к Султан-Буду. И вы, Люба!
-- Трошка, пошли! -- повелительно бросила девчонка и, демонстративно
повернувшись, направилась к боковому проходу.
Ушел и Трофим.
Хлюст посмотрел на меня и, хитро щуря левый глаз, сказал:
-- Оставайся, дяденька, у нас, работать научим, жить будем во как!
Покажи-ка пальцы!
Он взглянул на мои руки и, пренебрежительно оттопырив нижнюю губу,
двинулся следом за своими. Мальчишка не шел, а чертил босыми ногами по
пыльной дороге и, скользя между прохожими, успевал на ходу всех рассмотреть.
За ним нельзя было наблюдать без смеха.
...Я уезжал из Баку, досадуя на себя, что не сумел поговорить с
Трофимом.
Поезд отходил. На перроне было безлюдно. Bдруг из-за багажного склада
вынырнула подозрительная фигура, осмотрелась и побежала вдоль вагонов,
заглядывая в окна. Я сразу узнал Трофима. У него в руках был небольшой
сверток. Видимо, он искал меня. Но поезд набирал скорость, я не успел
окликнуть Трофима, и он отстал.
В ту ночь я долго не мог заснуть. Перед глазами был Трофим на краю
перрона, со свертком в руках, с невысказанными мыслями. Я почувствовал
ответственность за его будущее. В той среде, где он жил, были свои законы,
свои понятия о честности и о людях. Душевная привязанность к тем, кто
находился за чертой заброшенных подвалов, карьеров, ям, считалась там
величайшим позором. Трофим перешагнул этот закон, пришел к поезду... Что же
делать? Вернуться, разыскать и забрать его с собой? Но тут же передо мною
вставали его спутники -- дерзкий Хлюст и красивая Любка, видимо, имевшая
большое влияние на Трофима.
Экспедиция, закончив работу в Муганской степи, перебазировалась в
Дашкесан -- горный армянский поселок. Мы жили на станции Евлах, ожидая
вагоны для погрузки имущества и лошадей. Как-то вечером сидели у костра.
-- Чья-то собака пришла, не поймать ли ее? -- сказал один из рабочих,
глядя в темноту.
Все повернулись. В тридцати метрах от нас стоял большой пес. Он
вытягивал к нам голову, нюхая воздух, и, видимо, уловив знакомый запах,
добродушно завилял хвостом.
-- Да ведь это Казбек!
Я подбросил в костер охапку мелкого сушника. Пламя вспыхнуло, и в
поредевшей темноте позади собаки показался Трофим. Он подошел к костру,
окинул всех усталым взглядом.
-- Здравствуйте! Хотел искать вас в степи, да вот палатки увидел и
пришел.
Мы молча осматривали друг друга. На лице Трофима лежала немая печать
пережитого несчастья. Он стоял перед нами доверчивый и близкий...
Была полночь. В палатке давно погасили свечи. Вдруг я почувствовал
чье-то прикосновение.
-- Вы спите?
-- Это ты, Трофим?
-- Я. У вас нет кокаина? Дайте немного, на кончик ножа, слышите?.. -- и
его голос дрогнул.
-- Что с тобой, Трофим?
-- Все кончено. Милиция всех половила. Я бежал к вам. Дайте мне
кокаина, мне бы только забыться...
Мы переехали в Дашкесан и полностью отдались работе. Трофим робко и
недоверчиво присматривался к новой жизни. Захваченный воспоминаниями или
внутренними противоречиями, парень обнимал Казбека и до боли тискал его или
молча сидел, с грустью глядя на всех.
Мы должны были противопоставить его прошлому что-то сильное, способное
увлечь юношу. Надо было отучить его нюхать кокаин, приучить умываться,
носить белье, разговаривать с товарищами и, самое главное, равнодушно
смотреть на чужие чемоданы, бумажники, часы. Хорошо, что экспедиция состояла
из молодежи, в основном из комсомольцев, чутких, волевых ребят. Они с
любовью взялись за воспитание этого взрослого ребенка.
Между мною и Трофимом завязалась дружба. Я по-прежнему не проявлял
любопытства к его прошлому, веря, что у каждого человека бывает такое
состояние, когда он сам ощущает потребность поделиться с близкими людьми.
Как-то я упаковывал посылку. В лагере никого не было, дежурил Трофим.
-- Кому это вы готовите? -- спросил он.
-- Хочу матери послать немного сладостей.
-- У вас есть мать?
-- Есть.
Он печально посмотрел мне в глаза.
-- А у меня умерла... Мы тогда переезжали жить к бабушке. Отца не
помню. Мать заболела в поезде и померла на станции Грозный. Нас с сестренкой
взяли чужие... Сестренка скоро умерла, а меня стали приучать к воровству.
Сначала я крал у мальчишек, с которыми играл. Если попадался на улице, били
прохожие, но больше доставалось дома. Били чем попало, до крови и снова
заставляли красть. Когда я приносил ворованные вещи, меня пытали, не скрыл
ли я чего, и снова били. Меня научили работать пальцами в чужих карманах,
выбирать в толпе жертву, притворяться... В школу не пустили. Я сошелся с
беспризорниками, убежал к ним и стал настоящим вором. Мне никогда не было
жалко людей, никогда! Вы посмотрите! -- и он вдруг, разорвав рубашку,
повернулся ко мне спиной. -- Видите шрамы? Так меня учили воровать!
...Шли дни, месяцы. Мы продолжали работать в Дашкесане и все больше
привязывались к Трофиму. Он платил нам искренней дружбой, но открывался
скупо, неохотно.
Спустя месяц, осенью, мы провожали на действительную службу Пугачева.
Все, кроме Трофима, подарили на память Пугачеву какую-нибудь безделушку. В
хозяйстве у Трофима еще ничего не было. Он увязался со мной на станцию
Ганжа, куда я отправился провожать призывника. Мы не поспели к очередному
поезду и вынуждены были сутки дожидаться следующего. На вокзале было душно,
и мы поставили близ станции палатку. Трофим весь день отсутствовал и
появился только вечером.
-- И я тебе принес подарок, -- сказал он взволнованно, подавая Пугачеву
карманные часы. -- Хороши? Нравятся? Вспоминать будешь?
-- Где ты их взял? -- спросил я, встревоженный догадкой.
-- На базаре, -- ответил он гордо, будто перед ним стояли его прежние
товарищи. -- Знаете, и бумажник был в моих руках, да отобрал, стервец, --
торопился он поделиться с нами. -- Стоят два армянина, разговаривают, будто
век не виделись, я и потянул у одного из кармана деньги. Откуда-то подошел
здоровенный мужик -- цап меня за руку. Ты, говорит, что делаешь, сукин сын?
Молчи, пополам, -- предложил я ему. Он отвел меня в сторону, отобрал деньги
и надавал подзатыльников. Я тут же сказал армянину, свалил все на мужика, ну
и пошла потеха...
-- Для чего ты это сделал, Трофим? -- спросил я, не на шутку
обеспокоенный. -- Бери часы и пойдем в милицию. Пора кончать с воровством.
-- Что вы, в милицию! -- испугался он. -- Лучше я найду хозяина и отдам
ему, только на базаре будут бить. Страшно ведь, уже отвык...
Я настоял, однако, на своем. В милиции пришлось подробно рассказать о
Трофиме. Впервые слушая свою биографию, он, сам того не заметив, по отрывал
на рубашке все пуговицы.
Следователь подробно записал мои показания, допросил Трофима. Случай
оказался необычным. Справедливость требовала оставить преступника на
свободе, и пока я писал поручительство за него, между следователем и
Трофимом произошел такой разговор:
-- Будешь еще воровством заниматься?
-- Не знаю... Хочу бросить, да трудно. С детства привык.
-- Ты где до экспедиции проживал?
-- В Баку.
-- Городской, значит. С кем там работал?
-- Жил с беспризорниками.
-- Ермака знаешь? Он ведь главарь у вас.
Трофим вдруг насторожился, выпрямился и, стиснув губы, упрямо посмотрел
поверх следователя куда-то в окно. Пришлось вмешаться в разговор.
-- Я ведь сказал вам, что парнишка уже год живет в экспедиции, поэтому
вряд ли он что-либо скажет о Ермаке.
-- Он знает. У них только допытаться нужно...
Следователь вышел из-за стола и, подойдя к Трофиму, испытующе заглянул
ему в глаза. Мелкие рябинки на лице Трофима от напряжения заметно побелели.
Видимо, невероятным усилием воли он сдерживал себя.
-- Молчишь, значит, знаешь! Говори, где скрывается Ермак, -- уже
разгневанно допытывался следователь.
Трофим невозмутимо смотрел в окно. Следователя явно бесило спокойствие
парня. Он бросил на пол окурок, размял его сапогом, но, поборов гнев, уже
спокойно сказал:
-- Все равно найдем Ермака. Он от нас не уйдет, а тобой надо бы
заняться: видимо, добрый гусь. Не зря ли вы ручаетесь за него, ведь
подведет, -- добавил он, обратившись ко мне.
-- Не подведу, коль в жизнь пошел, -- ответил за меня Трофим с
достоинством и покраснел, может, оттого, что еще не был уверен в своих
словах.
-- Ты только шкуру сменил, а воровать продолжаешь. Так далеко не
уйдешь, -- сказал следователь, принимая от меня письменное поручительство и
часы.
Мы распрощались, и я с Трофимом вышел на улицу. Над станционным
поселком плыло раскаленное солнце, затянутое прозрачной полумглой. Давила
духота. По пыльной улице сонно шагал караван верблюдов, груженных вьюками.
-- Разве я мог подумать, что мне придется раскаиваться в своих
поступках и просить прощения? -- вдруг заговорил Трофим надтреснутым
голосом. -- Ведь понимаю, что я уже не вор, но какая-то проклятая сила
толкает меня на это. Простите. Мне стыдно перед вами, а, с другой стороны,
трудно отделаться от привычки шарить по чужим карманам. Вы не рассказывайте
в лагере ребятам...
-- Когда же ты покончишь с воровскими делами? -- спросил я Трофима.
-- Я-то покончил, а вот руки не могут отвыкнуть. Мне стыдно перед вами.
-- Это хорошо, если стыдно. Скажи, кто такой Ермак, про которого
спрашивал следователь? Вожак?
-- Был такой беспризорник.
-- Где же он?
-- Не знаю.
Мы проводили Пугачева. Трофим весь этот день оставался замкнутым.
Какие-то думы или воспоминания растревожили его душу.
К сожалению, это был не последний случай воровства.
В 1932 году наша экспедиция вела геотопографические работы на курорте
Цхалтубо. Я с Трофимом возвращался в Тбилиси. На станции Кутаиси ждали
прихода поезда. Трофим дежурил у вещей, а я стоял у кассы. Необычно громко
распахнулась дверь, и в зал ожидания ввалился, пошатываясь, мужчина. Окинув
мутными глазами помещение, он небрежно кивнул головой носильщику и поставил
два тяжелых чемодана возле Трофима.
-- Билет... Батуми!.. -- пробурчал вошедший, не взглянув на
подбежавшего носильщика, и вытащил из левого кармана брюк толстую пачку
крупных ассигнаций.
Носильщик ушел, а мужчина, подозрительно взглянув на Трофима, уселся на
чемодан и стал всовывать деньги обратно в карман. Но это ему не удавалось.
Углы кредиток так и остались торчать из кармана. Мужчина был пьян. Он тер
пухлыми руками раскрасневшееся лицо, мотал усатой головой, отбиваясь от
наседающей дремоты, но не устоял и уснул. Вижу, Трофим заволновался, стал
подвигаться к спящему все ближе и ближе, а сам делает вид, что тоже дремлет.
Одно мгновенье, и я стоял между ним и деньгами.
-- Гражданин, слышите, гражданин, у вас выпадут деньги!
-- Что ты пристаешь, места тебе нет, что ли?! -- пробурчал спросонья
тот. -- Ну и люди!
-- Приберите деньги, -- настаивал я.
-- Ах, деньги... -- вдруг спохватился он, вскакивая и энергично
заталкивая кредитки в карман.
Я повернулся к Трофиму. Он сидел бледный, с искаженным лицом. Из
прикушенной губы сбегали на подбородок одна за другой капельки крови. Наши
взгляды сошлись. Мы так понимали друг друга, что не было необходимости в
словах. Но я не должен был вообще умолчать об этом случае. Уже в поезде,
оставшись наедине с ним, я сказал:
-- Зачем, Трофим, ты сделал мне сегодня больно?
-- Вы мне верите? -- вдруг спросил он, окинув меня искренним взглядом.
-- Я деньги вернул бы, они мне не нужны. Виновата привычка. Куда мне уйти с
таким грузом?..
Но Трофим никуда не ушел. Он окончательно прижился у нас, освоился с
лагерной обстановкой, с общежитием. Правда, ранее привыкнув к острым
ощущениям, к дерзостям, он долго не мирился с затишьем. Но время сделало
свое дело. Труд постепенно заполнил образовавшуюся в душе Трофима пустоту. В
характере парня было много доброты, отзывчивости, и он заслуженно стал
любимцем всего коллектива. Но прошлое еще напоминало Трофиму о себе.
Мы делали карту Ткварчельского каменноугольного Месторождения. Шел 1933
год. Я собирался ехать в отпуск, проведать мать. Все уже было готово к
отъезду. Ждали машину. Кто-то из провожавших сообщил, что видел Трофима с
беспризорниками. Меня всегда беспокоили такие встречи, и я немедленно
отправился на розыски. Трофим оказался возле подвесного моста через реку
Гализгу. С ним был молодой парень и Любка. Я остановился, не зная, что
предпринять. Любка заметно подросла, возмужала. Черты ее лица стали еще
выразительнее. Она в упор смотрела на Трофима, потом вдруг шагнула к нему и,
развернувшись, хлестнула рукой по щеке. Раз, второй, третий. И все звонче,
яростнее. Она была бесподобна в гневе! И вдруг все в ней погасло. Она отошла
от Трофима, упала на канатные перила и заплакала.
«Нет, это уже не дружба. Это настоящая любовь», -- подумал я, живо
представив себе, какая опасность грозит Трофиму.
Тот подошел к ней, положил руку на плечо, но не сказал ни слова.
-- Не хочешь вернуться? Уйди, продажная сволочь! -- крикнула Любка,
вскакивая и торопливо поправляя на голове косынку. Она хотела еще что-то
сказать, но захлебнулась от злости. Оттолкнув Трофима, девушка схватила за
руку парня, сидевшего рядом, и пошла с ним, легко скользя ногами по настилу.
Уходила гордая, красивая.
Трофим бросился догонять их. Он бежал по раскачивающемуся мостику,
хватался за канат и, наконец, остановился.
Я подошел к нему, загородив проход. Под нами пенистыми бурунами неслась
Гализга. Вдали виднелись заснеженные вершины Кавказского хребта. Это было
осенью. Леса пылали в золотом наряде.
-- Ты любишь ее? -- спросил я, прерывая молчание. Легкий румянец покрыл
лицо Трофима.
-- Я уговаривал ее остаться у нас. Да разве она бросит свое дело!
Грозит мне, если не вернусь...
-- Как она узнала, что ты здесь?
-- Через беспризорников. После бегства Ермака из Баку там теперь Любка
всеми руководит. Второй раз приехала.
-- Об этом ты мне не говорил, а ведь обещал ничего не скрывать. Чем же
Любка грозит?
-- Она все может сделать...
-- Ты хотел уйти с ней?
Трофим молчал. Видно, трудно ему было устоять против настойчивости
такой властной и красивой девчонки. Что же делать? Не ехать в отпуск я не
мог. Оставить Трофима одного рискованно. Решил взять его с собой.
Он запротестовал. Ему, несомненно, хотелось еще встретиться с Любкой.
Но я был настойчив, и вечером того же дня мы с ним плыли на теплоходе
«Украина».
Моя мать знала о Трофиме из писем, и он не был ей безразличен. Когда же
мы приехали и она познакомилась с ним ближе, то прониклась к этому юноше
настоящей материнской любовью, принесшей ей на склоне лет много радости. А
сколько заботы было! Трофиму за обедом лучший кусочек положит, и горбушку
припасет, и сливок холодных, и початок молодой сварит, все для него, как для
самого младшего сына. Парень, бывало, уснет, а она усядется у его изголовья,
наденет очки и начнет штопать носки, белье, да так и задремлет возле него.
Во время отпуска Трофим сдружился с моей маленькой дочкой Риммой и
племянницей Ирой. Странно было наблюдать за этим взрослым человеком, впервые
попавшим в общество детей. Рассказывать ему было нечего. Он не знал никаких
игр, никогда не строил домики, не играл в прятки. Дети необъяснимым чутьем
все это угадали с первой встречи. И чего они только не делали с ним! То он
был конем, на котором они путешествовали по двору, то петухом, и тогда его
«кукареку» раздавалось чуть ли не на всю улицу. Играл он с увлечением, будто
пытался наверстать утерянное в детстве.
Иногда, набегавшись, дети усаживались возле Трофима и рассказывали ему
о коньке-горбунке, о богатырях, красной шапочке. Перед ним открывался
сказочный мир, о котором он никогда не слышал...
Трофим впервые жил в семье, узнал материнскую любовь, видел, как
проходит у ребят детство.
О прошлом он и теперь не любил рассказывать и только в минуты
откровенности, когда мы оставались с ним наедине, вспоминал какой-нибудь
случай из беспризорной жизни. Иногда говорил и о Ермаке. Это имя, как мне
казалось, всегда для него являлось олицетворением мужества.
Мы переехали в Сибирь и включились в большую, интересную работу по
созданию карт малоисследованных районов. Трофим побывал с нами на Охотском
побережье, в Тункинских Альпах, в Саянах, на Севере. Трофим возмужал, но не
отличался хорошим здоровьем. Годы, прожитые в подвалах, и злоупотребление
кокаином не дали молодому организму как следует окрепнуть.
В 1941 году он ушел добровольцем на фронт. Война разлучила нас на пять
лет, но экспедиция осталась для него родным домом. Он присылал нам
проникновенные письма и всегда вспоминал в них, как самое светлое, первую
нашу встречу у дороги и лагерь в Мильской степи. Ко времени демобилизации
Трофим стал членом партии, имел звание капитана танковых войск. Нас он
разыскал на Нижней Тунгуске и с азартом, отдался работе. Армейская жизнь,
походы, победные бои влили в него большую жизнерадостность.
Как быстро пролетели годы! Ему, уже перевалило за тридцать...
Как-то мы вечером засиделись в палатке.
-- Не пора ли тебе, Трофим, жениться? Посмотри-ка, сколько у нас
хороших девушек, -- сказал я ему.
-- Это не мои невесты.
-- Неужели ты еще не забыл Любку?
-- Нет. Да и не хочу забывать.
Прошло несколько лет. Как-то осенью мы отдыхали с ним в Сочи. С
возрастом у него все больше росла любовь к детям. Стоило Трофиму появиться
на пляже, как ребятишки окружали его. Играя с детворой, он и сам превращался
в ребенка. «Дядю Трошу» знали даже на соседних пляжах.
Как-то к Трофиму подошел бойкий мальчонка лет четырех в новеньких
голубых трусиках и серьезно потребовал покатать его.
-- А у тебя проездной билет есть? -- спросил Трофим.
-- Есть, -- ответил тот уверенно и исчез среди загоравшей публики.
-- На, -- сказал он, возвратившись, и с гордостью подал фабричную
этикетку, видимо, от своих трусиков.
-- Билет-то, кажется, просроченный, -- пошутил Трофим. -- Как тебя
зовут?
-- Трошка, -- ответил мальчик бойко.
-- Трошка? -- удивился тот, и лицо его вдруг стало грустным. Овладев
собой, он сказал:
-- Садись! Тезку покатаю бесплатно!
Мальчик, довольный, влез на спину Трофиму, обнял пухлыми ручонками за
шею, и «конь», окруженный детворой, побежал по гальке вдоль берега. Только
скакал он вяло, словно отяжелел.
А следом бежала женщина и кричала:
-- Трошка... Трошка... Трофим вдруг остановился.
-- Это мама меня зовет, -- сказал мальчик, слезая с «коня» и
устремляясь к матери.
Женщина и Трофим встретились взглядами, да так и замерли.
-- Неужели... Любка?!
-- Трошка! -- воскликнула та, бросаясь к нему.
Море дохнуло прохладой. Ленивая волна пробежала по гальке. Над пляжем
беззаботно кружились крикливые чайки. Трофим и Любка стояли молча, держась
за руки. Они могли так много сказать друг другу, но слова словно выпали из
памяти. Какой безудержный прилив счастья должен испытать человек, когда он,
спустя много-много лет, после томительных страданий, встретил друга, к
которому так долго хранил чувство любви и во имя которого переживал
одиночество!..
Любка смотрела в открытые глаза Трофима. Она угадала все и смело
потянулась навстречу.
Над морем плыло раскаленное солнце. В потоке расплавленных лучей
серебрились крылья чаек. Жаркий ветерок нехотя скользил по пляжу. Детвора
расходилась.
-- Здравствуйте, Люба! -- сказал я, протягивая ей руку.
Она покосилась на меня и, всматриваясь, пыталась что-то вспомнить.
-- Ах, это вы! Неужели с тех пор вместе?
-- Да, с тех пор мы вместе.
-- Нина Георгиевна, -- отрекомендовалась она, и мы пожали друг другу
руки. -- Любка -- это было не мое имя.
...Мы с Трофимом занимали комнату в санатории
«Ривьера». Вечером в тот же день Нина Георгиевна пришла к нам, и сразу
завязался разговор о наших встречах, о прошлом.
Передо мною была женщина лет тридцати. Те же пылкие глаза, тонкие губы
и раздвоенный подбородок. На правой щеке -- чуть заметный шрам, а под
глазами уже наметилась сетка морщинок. Во взгляде не осталось прежней
девичьей дерзости. Нина Георгиевна была одета просто, но со вкусом. С прямых
плеч спадало шелковое платье, перехваченное в талии тоненьким пояском.
Обнаженные полные руки золотились от загара. Крупные локоны черных густых
волос спускались на смуглую шею. -- Могла ли я когда-нибудь поверить, что
дерзкая девчонка Любка, профессиональная преступница, полюбит людей и труд?
После бегства Ермака из Баку я стала заправилой. Мне нравилось командовать
мальчишками, меня боялись, слушались. Провинившихся я с наслаждением шлепала
по щекам. А теперь страшно подумать, какое терпение проявлял к нам народ и
чего он только не прощал нам. А сколько раз меня щадил закон! Но все
кончилось тюрьмой. Глупая была, и там задавала концерты, да еще с какими
вариациями! Позже люди надоумили бросить все и жить, как все живут. Из
тюрьмы вышла -- не знаю, куда идти. Одна. Ни к чему не приспособлена.
Поступила на табачную фабрику, и опять люди приласкали меня, определили в
школу для взрослых. И словно второй раз родилась. Скоро бригадиром стала,
замуж за нашего же инженера вышла. Теперь, когда на душе покой, а вокруг
большая интересная жизнь, жутко оглянуться на прошлое. Нет в нем ни
настоящего детства, ни радости юношеских дней. Смотрю я на своего маленького
Трошку и завидую...
Трофим все свободное от процедур время проводил с нею. Перед отъездом
он ходил мрачный. И вот однажды в нашей комнате я застал заплаканную Нину
Георгиевну и очень расстроенного Трофима.
-- Будьте вы моим судьею, -- сказал она, обращаясь ко мне, и в ее
голосе послышалось отчаяние. -- Я люблю Трофима, но я замужем, у меня сын и
больной туберкулезом муж. Могу ли я бросить человека, который так много
сделал для меня и для которого мой уход равносилен смерти? Трофим не хочет
понять, что это было бы бесчеловечно.
-- Пойми и ты, Нина, -- перебил ее Трофим, -- не во имя ли большого
чувства к тебе я остался одиноким? Я пронес любовь через годы, бои,
бессонные ночи. Пятнадцать лет я берег надежду, что мы встретимся. И теперь
ты взываешь к человечности. Разве я не имею права хотя бы на маленькое
счастье? Впрочем, решай сама. Я не хочу выпрашивать, я ко многому привык в
жизни.
-- Ты достоин и счастья и хорошей семьи, и мне больно выслушивать эти
упреки, -- сказала Нина, с трудом сдерживая волнение. -- Жизнь оказалась
куда сложнее, чем мы ее представляли когда-то в подвалах. Я по-прежнему
люблю тебя, Трофим. Но я не могу, понимаешь, не могу разрушить семью... И ты
не зови меня к себе. Может быть, это по отношению к тебе и жестоко, но
знаешь ли ты, какими страданиями я заплачу за нашу встречу?! Она вдруг
отошла к раскрытому окну. Плакала молча. А за окном, как в день их первой
встречи, ленивая волна перебирала гальку и так же серебрились в лучах
раскаленного солнца крылья беззаботных чаек.
Мы с Трофимом уехали в Саяны, в экспедицию, а Нина Георгиевна вернулась
в Ростов к мужу.
Трофим загрустил. Ни горы, ни тайга не веселили его. Работой глушил он
свое чувство. Не в меру стал рисковать. А Нина, видимо, решила окончательно
порвать с ним. Вот уже год, как она перестала отвечать на письма. Даже на
мои.
...Все это вспомнилось мне в ту ночь на озере Лилимун, когда мы
получили тревожную радиограмму. Я не допускал мысли, что события на
Алгычанском пике как-то связаны с настроением Королева.
-- Нет, Трофим слишком любил жизнь, чтобы промахнуться. Но что-то
случилось в горах. Как неудачно начинается этот год...
Утром за нами прилетела машина. Снова загружаем в самолет свои вещи,
вталкиваем недоумевающих собак, Я передаю своим проводникам, Улукиткану и
Николаю Лиханову, распоряжение идти с оленями на базу партии к устью Шевли и
там ждать дальнейших указаний. Как жаль, что не пришлось повидаться с ними!
Прощаемся с Михаилом Закусиным и его спутниками. Сюда, на Лилимун, мы не
вернемся, -- так и не удалось мне побродить весною по Удским марям с
топографами. Надо спешить на помощь Трофиму.
II. К берегам Охотского моря. На подступах к седловине. «Джугджур
гневается». Какое счастье огонь! Эвенкийская легенда. У подножья
Алгычанского пика.
В штабе пришлось задержаться. Нужно было все до мелочи предусмотреть,
отобрать горнопоисковое снаряжение. А главное -- выслушать советы врачей,
что делать в том случае, если мы найдем своих товарищей обмороженными,
истощенными от голода или изувеченными при какой-то катастрофе. Сборы отняли
у нас полдня.
Алгычанский пик, который занимал теперь все наши мысли, расположен в
центральной части Джугджура, близ Охотского моря. В описании геодезиста Е.
Васюткина, побывавшего у этой части хребта на год раньше нас, сказано:
«...Пик не является господствующей вершиной, но он очень скалистый и
труднодоступный. Его окружают глубокие цирки, кручи и пропасти. Нам удалось
подняться на пик только с западной стороны. Этот путь идет по единственной
лощине, очень крутой, и требует при подъеме большой осторожности. В других
местах не подняться. Лес для постройки пирамиды на вершине Алгычана можно
вынести только в марте, когда лощина забита снегом».
После полдня двадцать седьмого марта мы уже летели над Охотским морем,
вернее над разрозненными полями льдов. Под нами изредка проплывали скалистые
островки да иногда слева обозначался мрачный контур материка. Открытое же
море виднелось строгой чертой справа, далеко за льдами.
-- Машина на подходе, -- неожиданно предупредил нас командир.
Самолет, словно гигантская птица, ворвался в бухту и, пробежав по
ледяной дорожке, остановился. Мы начали выгружаться. Слева по широкому
распадку и по склонам сопок раскинулся поселок. На берегу расположились
склады, судоремонтные мастерские и здания рыбозаводов. За поселком
поднимались горы. Вклинившись далеко в море, они образовали бухту и надежно
защищают ее от штормов.
К Алгычанскому пику нам предстояло добираться на оленях. Но прежде чем
тронуться в этот незнакомый путь, необходимо было получить все возможные
сведения о местности, которую придется пересечь.
Вечером я зашел к председателю райисполкома. Меня встретил высокий
мужчина с крупными чертами лица и проницательным взглядом.
-- Мы всегда рады новому человеку, не часто нас балуют гости, -- сказал
он, убирая со стола бумаги. -- Я получил телеграмму о затерявшихся людях с
просьбой выделить проводников для вас. Раздевайтесь, садитесь сюда вот,
поближе к печке, и рассказывайте, что случилось, только прошу поподробнее.
Я изложил ему все, что было мне известно о подразделении Королева и о
планах поисков.
-- Зимою в глубину Джугджурского хребта местные жители почти не ходят.
Это ведь мертвые горы: камень да мхи, кажется, больше ничего там не растет,
-- говорил председатель, изредка поглядывая на стену, где висела карта
побережья. -- Но я, признаться, не верю, чтобы там могли заблудиться
геодезисты, да еще опытные таежники... Случай, конечно, загадочный. Нет ли
тут чего-нибудь другого? Не сорвались ли они со скалы? И не хорошо, что все
это случилось именно на Джугджуре, далеко от населенных пунктов и в зимнее
время.
-- Где бы человек ни потерялся, в горах или тайге, одинаково плохо, --
заметил я.
-- Но хуже на Джугджуре, -- перебил меня председатель, -- недоброй
славой пользуется он у наших эвенков, неохотно посещают они эти горы и,
видимо, не без основания. Впрочем, пусть это вас не смущает. Страшного
ничего нет, поедете, сами увидите. Мы выделили надежных проводников, хороших
оленей. Надо торопиться. Кто знает, какое несчастье постигло людей...
-- Вы уж договаривайте до конца. Почему о Джугджуре сложилась плохая
слава?
-- Джугджур -- это район неукротимых ветров.
-- Кажется, все тут у вас подвластно неукротимым силам стихии?
-- Да, ветру, -- уточнил председатель. -- Здесь длительная пурга --
обычное явление. Суровый облик побережья создан главным образом им, ветром.
То он приносит сюда слишком много влаги, тумана, то продолжительный холод.
-- А море со своими штормами, бурями, подводными скалами разве меньше
причиняет неприятностей?
Председатель громко рассмеялся и, заметив мое смущение, предложил
папироску. Мы закурили.
-- Извините, но я должен разочаровать вас. Нелестное мнение о нашем
море сложилось еще во времена первых мореплавателей. Для парусных судов, на
которых они предпринимали свои рискованные путешествия, море действительно
было опасным. Оно приносило им много бедствий. Но ведь это было давно.
Теперь на смену неуклюжим парусникам пришли суда с мощными двигателями, и
хотя море по-прежнему шалит, моряки давно уже перестали его страшиться.
Человек ведь ко всему быстро привыкает, сживается. Да и не в этом дело.
Главное -- что дает море человеку? Ради чего он пришел сюда? Море -- наше
богатство, его сокровища неизмеримы. Вы только подумайте, сколько тут работы
для ученого, натуралиста, просто для человека, любящего природу! Мы еще мало
изучили морские пастбища рыб, жизнь нерпы, птиц, вообще мало знаем морскую
флору и фауну. Пользуемся пока что только скупыми подачками моря. А оно ждет
смелых разведчиков. И не из глубины материка нам, северянам, нужно ожидать
изобилия. Надо добывать его из недр нашего моря и посылать туда, на
материк...
Мы расстались в полночь.
Я возвращался берегом, огибая бухту. Было тихо, пустынно, и только
струйка дыма возле нашей палатки, словно живой ручеек, устремлялась в
глубину потемневшего неба.
Море дышало предутренней прохладой. Румянился восток, и береговые скалы
медленно выползали из темноты уже поредевшей ночи. В палатке на раскаленной
печке выстреливал паром кипящий чайник. Пахло распаренным мясом.
-- Люди есть? -- послышался внезапно громкий голос, и в палатку
заглянуло скуластое лицо. -- Мы проводники, приехали за вами. Куда кочевать
будем? -- спросил молодой эвенк, просовываясь внутрь. Следом за ним влез и
второй проводник.
-- Садитесь. Сейчас завтрак будет готов, за чаем и поговорим, --
ответил Василий Николаевич -- Звать-то вас как?
-- Меня Николай, а его Афанасий. Мы из колхоза «Рассвет».
Афанасий утвердительно кивнул и стал стягивать с себя старенькую дошку.
Затем сбил рукавицами снег с унтов и, подойдя к печке, протянул к ней ладони
со скрюченными пальцами. Ему было за пятьдесят. Николай продолжал стоять у
входа. Лихо сбив на затылок пыжиковую ушанку, он с любопытством осматривал
внутренность палатки.
-- Какое место кочевать будем? -- снова спросил он.
-- Пойдем через Джугджурский перевал, а там видно будет, -- ответил я.
-- Хо... Джугджур?! -- вдруг воскликнул Афанасий. Слово прозвучало в
его устах как нечто грозное. -- Гнать это время оленей через перевал?
И Афанасий, повернувшись к Николаю, перебросился с ним несколькими
фразами на родном языке. Наш маршрут явно встревожил проводников.
-- Что вас пугает? -- спросил я.
-- Ничего, переедем, только обязательно торопиться надо, пока небо не
замутило, -- ответил уже спокойно Афанасий.
Позавтракав, мы свернули лагерь.
По заснеженной дороге дружно бежали оленьи упряжки. На передней сидел
Афанасий. Он нет-нет, да и подстегнет поводным ремнем праворучного быка.
Упряжка рванется вперед и взбудоражит обоз, но через минуту олени сбавляют
ход и снова бегут спокойно, размашистой рысью.
Скоро дорога потянулась в гору. Я шел впереди обоза и чем выше
поднимался, тем шире разворачивалась передо мною береговая панорама.
Прибрежные склоны гор подвержены влиянию ветров и одеты бедно. Деревья --
горбатые и полузасохшие кусты -- лежат, прижавшись к земле, а мох растет
только под защитой камней.
К часу дня мы добрались до последнего перевала Прибрежного хребта.
Впереди видно Алдоминское ущелье, а дальше показался Джугджур. Высоко в небо
поднимаются его скалистые вершины. Широкой полосой тянутся на север его
многочисленные отроги. Именно там, в глуши скал и нагромождений, может быть,
борется за жизнь горсточка дорогих нам людей.
Дальше путь идет по реке Алдоме, берущей свое начало в центральной
части Джугджурского хребта. Тут совсем другая растительность. Прибрежные
горы прикрывают долины от холодных и губительных морских ветров, и это
создало деревьям нормальные условия для роста. Мы видели здесь настоящую
высокоствольную тайгу. Огромные лиственницы, достигающие
тридцатипятиметровой высоты, толстенные ели, березы, тополя украшают долину.
Они жмутся к реке и растут только на пологих склонах, защищенных от ветра.
Сам же Джугджурский хребет голый. На нем ни кустика, ни деревца. На сотни
километров лишь безжизненные курумы (*Курумы -- каменная россыпь). Трудно
себе представить более печальный пейзаж. Ни суровое побережье Ледовитого
океана, ни тундра, ни море не оставляли во мне такого впечатления
безнадежности и уныния, как Джугджурский хребет. Хотелось скорее пройти, не
видеть его. «Не поэтому ли у эвенков и живет недобрая молва про Джугджур?»
-- размышлял я, вспоминая разговор в райисполкоме.
Дорога, по которой мы ехали, местами терялась в кривунах реки, но
Афанасий с удивительной точностью помнил все свороты. Мы ехали наверняка.
Над нами все выше поднимались туполобые горные вершины, отбеленные
убежавшим к горизонту солнцем. Долина постепенно сужалась и у высоких гор
раздвоилась глубокими ущельями. Караван свернул влево. День кончился. Все
чаще доносился окрик Афанасия, подбадривающего уставших оленей.
Уже стемнело, когда упряжки с ходу выскочили на высокий борт реки.
Здесь, на поляне, предполагалась ночевка. До перевала оставалось недалеко, а
до Алгычанского пика день езды. Мы сразу принялись за устройство лагеря.
На поляне всюду виднелись следы давнишних таборов и множество пней от
срубленных деревьев.
Проводники наготовили бересты, сушника, дров, все сложили рядом с
палаткой, как нужно для костра, но не подожгли.
-- Для чего это вам? -- спросил я Афанасия.
-- Хо... Джугджур -- дорога лешего, худой. Может, завтра назад придем,
костер зажигать сразу будем. Эвенки постоянно так делают.
-- Что ты, что ты! Назад не вернемся -- пешком, но уйдем дальше, --
вмешался в разговор Василий Николаевич.
Афанасий бросил на него спокойный взгляд.
-- Люди глаза большой, а что завтра будет -- не видят, -- отвечал он
эвенкийской поговоркой.
За скалой давно погасла заря. Темно-синим пологом растянулось над
лагерем звездное небо. Уже давно ночь. Мы не спим. Олени бесшумно бродят по
склону горы, откапывая из-под снега ягель.
-- Завтра надо непременно добраться до палатки, -- проговорил Василий
Николаевич, выбрасывая ложкой из котла пену мясного навара.
-- Славно было бы застать их у себя, только не верится, чтобы Трофим
заблудился. Это ведь горы, тут поднимись "а любую вершину -- и все как на
ладони. Видно, другое с ними случилось.
Мы уже знали, что зимою на вершинах Джугджурского хребта, в цирках, по
склонам и даже на дне узких ущелий не собрать и беремени дров, чтобы
отогреться, и если у заблудившегося человека не хватит сил вернуться своим
следом к палатке или спуститься в долину к лесу, он погибнет.
Перед сном я вышел из палатки. Все молчало. Дремали скалы.
...Еще не рассвело, а мы уже пробирались к перевалу. На небе ни единого
облачка. Утро этого столь памятного всем нам дня было такое, что лучшего,
кажется, и не придумаешь.
Извилистое ущелье, по которому караван поднимался к перевалу, глубоко
врезается в хребет. Оленям приходится то огибать глыбы скал, скатившихся в
ущелье, то спускаться на дно заледенелого ручья, то взбираться на каменистые
террасы.
-- Скоро перевал? -- спросил я у Афанасия, когда мы выбрались с ним на
борт глубокой промоины.
Он взглянул на хребет, и что-то вдруг встревожило его.
-- Хо... Однако, дальше не пойдем. Джугджур гневается... -- сказал он,
показывая на вершину, над которой вилась длинная струйка снежной пыли. Она
то вспыхивала, то гасла.
-- Это же ветер, -- попытался я успокоить Афанасия. Он ничего не
ответил. Нас догнали остальные. Проводники о чем-то стали совещаться.
-- Худо будет, надо скорее назад ходить, -- решительно заявил Николай.
-- Давы с ума сошли, ей-богу! Ведь рукой подать до перевала. Чего
испугались? -- запротестовал Василий Николаевич.
-- Видишь, пурга будет, говорю, назад идти нужно. Джугджур не пустит,
пропасть можем, -- настаивал Николай.
-- Выдумали какую-то пургу, а на небе и облачка нет, -- удивился радист
Геннадий.
И пока мы убеждали друг друга, снежная пыль на вершине хребта исчезла.
Вокруг, как утром, стало спокойно, и солнце щедро обливало нас потоками
яркого света. Решили идти на перевал.
Дальше дорога пошла еще тяжелее. Зажатое скалами ущелье становилось все
уже, все чаще путь преграждали обнаженные россыпи и рубцы твердых надувов.
Необъяснимым чутьем, присущим только жителям гор, наши проводники угадывали
проход между обломками скал. Олени выбивались из сил.
Но вот впереди показалась узкая щель, разделившая хребет на две части.
Это перевал! До него оставалось всего каких-нибудь полтора километра крутого
подъема. Взбирались по дну ручья. На гладком льду олени падали, раздирали до
крови ноги, путались в упряжных ремнях и все чаще и чаще ложились,
отказываясь идти. За час мы кое-как поднялись на полкилометра.
Дальше путь перерезали небольшие водопады, замерзшие буграми. Пришлось
взяться за топоры, чтобы вырубить во льду дорогу для оленей.
Еще сотня метров подъема, и мы будем на перевале. Над нами высоко
прошумел прилетевший вдруг откуда-то ветер. Мимо пронесся вихрь, бросая в
лицо заледеневшие крупинки снега. И сразу закурились вершины гор, понеслись
от них в голубое пространство волны белесоватой пыли.
-- Не послушались, видишь, пурга!.. -- крикнул Афанасий, бросаясь с
Николаем к оленям, которых мы оставили внизу.
В одно мгновенье все изменилось. Из глубины долины надвигалась мутная
завеса непогоды. По ущелью метался густой колючий ветер, то и дело меняя
направление. Ожили безмолвные скалы, завыли щели, снизу хлестнуло холодом.
Природа будто нарочно поджидала, когда мы окажемся под перевалом, чтобы
обрушиться на нас со всей яростью.
Что делать? Как быть с нашими товарищами? Неужели им не суждено
дождаться нас? Все это мгновенно пронеслось в голове. А пурга
свирепствовала. Холод сковывал дыхание, заползал под одежду и ледяной струей
окатывал вспотевшее тело. Сопротивляться не было сил, и мы не сговариваясь
бросились вниз, вслед за проводниками.
Афанасий и Николай торопливо развязывали упряжные ремни и отпускали на
свободу оленей. Геннадий чертыхался, проклиная Джугджур. Только теперь мы
поняли, какой опасности подвергали себя, не послушав Афанасия. Ветер срывал
с гор затвердевший снег, нее неведомо куда песок, мелкую гальку. Разве
только ураган в пустыне мог поспорить с этой пургой.
Вокруг потемнело. Задерживаться нельзя ни на минуту. Где-то справа от
нас с грохотом сползал обвал.
Захватив с собою две нарты с палаткой, печью, постелями, продуктами, мы
бросаемся вниз навстречу ветру. Глаза засыпает песок, лицо до крови иссечено
колючим снегом. Мы ползем, катимся, проваливаемся в щели и непрерывно
окликаем друг друга, чтобы не затеряться.
-- Гооп... гооп... -- доносится сверху встревоженный голос Василия
Николаевича, отставшего с оленями и нартами. Я останавливаюсь. Но
задерживаться нельзя ни на минуту: жгучая стужа пронизывает насквозь, глаза
слипаются, дышать становится все труднее.
Знаю, что с Василием Николаевичем стряслась беда. Возвращаюсь к нему,
кричу, но предательский ветер глушит голос. Проводники где-то впереди.
Следом за мною нехотя плетется Кучум, его морда в густом инее. Собака,
вероятно, инстинктивно понимает, что только в густом лесу, возле костра,
можно спастись в такую непогодь. Она часто приседает, визжит, как бы пытаясь
остановить меня. Иногда далеко отстает и жалобно воет. И все-таки снова и
снова идет за мною.
Я продолжаю подниматься выше. А в голове клубок нераспутанных мыслей.
Может, мы разминулись, и Мищенко уже далеко внизу? Найду ли я их там? Трудно
спастись одному без топора, если даже и доберусь до леса. Нужно
возвращаться, тут пропадешь... А если Василий не пришел и ждет помощи? Что
будет тогда с ним? И, не раздумывая больше, я карабкаюсь вверх.
-- У-юю... у-юю!.. -- кричу я, задерживаясь на снежном бугре.
Кучум вдруг бросается вперед, взбирается на таррасу и исчезает меж
огромных камней. Я еле поспеваю за ним.
Василий Николаевич вместе с оленями и нартами провалился в щель. Сам
вылез наверх, а оленей и груз вытащить не может.
-- Братко, замерзаю, не могу согреться, -- хрипло шепчет он, и я вижу,
как трясется его тело, как стучат зубы.
Следом за мной на крик поднялся и Геннадий. Прежде всего мы отогреваем
Василия, затем вытаскивает оленей. А пурга кружится над нами, воет голодным
басом, и как бы в доказательство ее могущества снова где-то затяжно грохочет
обвал.
Через час мы уже далеко внизу, догоняем своих.
Передвигаемся молча. Заледеневшие ресницы мешают смотреть. Вначале я
оттирал щеки рукавицей, но теперь лицо уже не ощущает холода. Гаснет свет,
скоро ночь, сопротивляться буре нет сил. Все меньше остается надежды
выбраться. Решаем свернуть вправо и косогором пробираться к скалам. Снег там
должен быть тверже. По-прежнему через двадцать-тридцать метров олени и нарты
проваливаются. Мы купаемся в снегу. Я чувствую, как он тает за воротником, и
вода, просачиваясь, медленно расползается по телу, отбирая остатки
драгоценного тепла. Хочу затянуть потуже шарф на шее, но пальцы одеревенели,
не шевелятся.
-- Стойте, отстал Геннадий! -- кричит где-то позади Василий Николаевич.
Остановились. Мокрая одежда заледенела коробом. Больше всего хочется
просто привалиться к сугробу, но внутренний голос предупреждает: это смерть!
-- У-люю... у-люю... -- хрипло кричит Мищенко, и из мутных сумерек
показывается Геннадий. Он шатается, с трудом передвигает ноги, ветер силится
свалить его в снег. Мы бросаемся к нему, тормошим, трясем, и сами немного
отогреваемся.
-- Надо петь, бегать, немного играть, мороз будет пугаться, -- советует
Афанасий, кутаясь в старенькую дошку и выбивая зубами мелкую дробь.
Наконец-то нам удается выбраться к скалам. Тут действительно снег
тверже и идти легче. Мы немного повеселели. Все кричим какими-то дикими
голосами, пытаемся подпрыгивать, но ноги не сгибаются, и мы беспомощны, как
тюлени на суше. К ночи пурга усилилась, стало еще холоднее. Мы уже не можем
отогреться движениями. А тут, как на беду, сломались обе нарты. Мы едва
дотащили их до поляны.
Густая тьма сковала ущелье. Уныло шумит тайга, исхлестанная ветром. Мы
в таком состоянии, что дальше не в силах продолжать борьбу. Только огонь
вернет нам жизнь. Но как его добыть, если пальцы окончательно застыли, не
шевелятся и не держат спичку?
Афанасий стиснутыми ладонями достает из-за пояса нож, пытается
перерезать им упряжные ремни, чтобы отпустить оленей, но ремни закостенели,
нож падает на снег. Я с трудом запускаю руку в карман, пытаюсь омертвевшими
пальцами захватить спичечную коробку -- и не могу.
Василий Николаевич ногой очищает от снега сушник, приготовленный вчера
проводниками для костра, и ложится вплотную к нему. Мы заслоняем его от
ветра. Он, зажимая между рукавицами спичечную коробку, выталкивает языком
спички, а сам дрожит. Затем подбирает губами с земли спичку и, держа ее
зубами, чиркает головкой по черной грани коробки. Вспыхнувшую спичку
торопливо сует под бересту, но предательский ветер гасит огонь. Снова
вспыхивает спичка, вторая, третья... и все безуспешно.
-- Проклятье! -- цедит Мищенко сквозь обожженные губы и выпускает из
рук коробок.
Первым сдается Николай. Подойдя к нартам, он пытается достать постель,
но не может развязать веревку, топчется на месте, шепчет, как помешанный,
невнятные слова и медленно опускается на снег. Его тело сжимается в комочек,
руки по локоть прячутся между скрюченными ногами, голова уходит глубоко в
дошку. Он ворочается, как бы стараясь поудобнее устроить свое последнее
ложе. Ветер бросает на него хлопья снега, сглаживает рубцы одежды.
-- Встань, Николай, пропадешь! -- кричит властным голосом Геннадий,
пытаясь поднять его.
Мы бросаемся на помощь, но Николай отказывается встать. Его ноги, как
корни сгнившего дерева. Руки ослабли, по обмороженному лицу хлещет ветер.
-- Пустите... мне холодно... бу-ми (*Бу-ми -- пропадаю)... -- шепчет
он.
Афанасий, с трудом удерживая топор, подходит к упряжному оленю. Пинком
ноги заставляет животное повернуть к нему голову. Удар обуха приходится по
затылку. Олень падает. Эвенк острием топора вспарывает ему живот и, припав к
окровавленной туше, запускает замерзшие руки глубоко в брюшную полость. Лицо
Афанасия скоро оживает, теплеют глаза, обветренные губы шевелятся.
-- Хо... Хорошо, идите, грейте руки, потом огонь сделаем! -- кричит
эвенк, прижимаясь лицом к упругой шерсти животного.
А пурга не унимается. Частые обвалы потрясают стены ущелья. Афанасию
удается зажечь спичку. Вспыхивает береста, и огонь длинным языком скользит
по сушнику. Вздрогнула сгустившаяся над нами темнота. Задрожали отброшенные
светом тени деревьев. Огонь, разгораясь, с треском обнимает горячим пламенем
дрова...
Какое счастье огонь! Только не торопись! Берегись его прикосновения,
если тело замерзло и кровь плохо пульсирует. Огонь жестоко наказывает
неосторожных. Мы это знаем и не решаемся протянуть к нему скованные стужей
руки, держимся поодаль. В такие минуты достаточно глотнуть теплого воздуха,
чтобы к человеку вернулась способность сопротивляться. К костру на
четвереньках подползает Николай, лезет в огонь. Его вдруг взмокшие скулы
зарумянились, зашевелились собранные в кулаки пальцы.
Василий Николаевич и Геннадий стаскивают с Николая унты, растирают
снегом ноги, руки, лицо. Потом поднимают его и заставляют бегать вокруг
костра. Афанасий ревет зверем, у него зашлись пальцы.
А костер, взбудораженный ветром, хлещет пламенем по темноте.
Только через час нам удается организовать привал: поставить палатку,
наколоть дров, затопить печь. Мы долго не можем прийти в себя. Острой болью
стучит пульс в ознобленных местах, кисти рук пухнут, болит спина. Лицо, руки
у всех обморожены. У Николая на ступнях вздулись белые пузыри. Сон
наваливается непосильной тяжестью. Ложимся без ужина. В последние минуты я
думаю о Трофиме и его товарищах. Трудно поверить, что, заблудившись в этих
горах, да еще без палатки, можно спастись от такой стужи. Неужели непогода
надолго задержит нас под перевалом?
В пургу спишь чутко. Тело отдыхает, а слух сторожит, глаза закрыты, но
будто видят. Тихо зевнул Кучум, и я проснулся, расшевелил в печке угли,
подбросил щепок, дров. Мутным рассветом заползает к нам утро. В горах бушует
ветер, трещит, горбатясь, лес, с настывших скал осыпаются камни.
В палатке снова накапливается тепло. Все встают. Закипает чайник,
пахнет пригоревшим хлебом.
-- С другой стороны от перевала близко, да ни один палка для костра
нету, только камень там, в пургу сразу пропадешь, -- говорит Афанасий,
наливая в чашку горячий чай.
-- Пурга здесь часто бывает? -- спрашиваю я.
-- Хо... Когда человек сюда приходит, Джугджур шибко сердится. --
Афанасий оставляет чай, калачом складывает босые ноги и достает кисет. Долго
набивает трубку.
-- Старики так говорят: когда близко море люди не жили и никто не знал
про него, пришел аргишем к горам охотник. Долго он ходил, искал перевал, но
нигде не нашел проход, все кругом скалы, камень, стланик. «Однако, это край
земли, нечего тут делать, вернусь в тайгу», -- думал он, и стал вьючить
оленей.
-- Зачем, охотник, приходил сюда? -- вдруг слышит он голос.
-- Хо... Ты кто такой, что спрашиваешь?
-- Я Джугджур.
-- Не понимаю, лучше скажи, что ты тут делаешь?
-- Море караулю, ветру дорогу перегораживаю.
-- А я куту (*Куту -- счастье) ищу -- густую тайгу, зверя, рыбу. Но не
знаю, где найду.
-- Я покажу, -- сказал Джугджур, -- а за это ты направишь ветер на
восход солнца, видишь, он сделал меня голым.
-- Хорошо, -- сказал охотник. Андиган (*Андиган -- клятва) дал
Джугджуру.
Вдруг впереди перевал получился, за ним глаз видит большое море и
дорогу к нему. Повернул охотник оленей и пошел к морю. Чум поставил на
берегу, рыбу ловил жирную, птицу стрелял разную, много-много добывал
морского зверя. Куту нашел охотник, а про андиган совсем забыл. Вот и мстит
Джугджур человеку за обман, не хочет за перевал пускать, пургу на людей
посылает. Слышишь, как сердится?
...Медленно тянутся скучные дни. Мы безвылазно сидим в палатке. Я
стараюсь гнать от себя мрачные мысли о затерявшихся людях: после такой пурги
мало надежды разыскать их в живых. А над Джугджуром гуляет ветер. Снежный
смерч властвует над ущельем.
На третий день после полудня Бойка и Кучум оживились, стали
потягиваться, зевать. У Афанасия развязался язык.
-- Собака погоду слышит. Его нос маленький, а хватает далеко. Надо идти
олень смотреть. Где копанину найдем, не знаю.
Одевшись потеплее, они с Василием Николаевичем вышли из палатки и
вернулись с хорошими вестями.
-- За горами небо видно, скоро пурга кончится.
В полночь, действительно, ветер стих. После непродолжительного
снегопада унеслись куда-то и тучи. Все успокоилось и, казалось, погрузилось
в длительный сон. Только изредка слух ловил скрипучие шаги оленей, да
потрескивали старые лиственницы, как бы выпрямляясь после бури.
Не дождавшись утра, забарабанил голодный дятел. Угораздило его начать
день у нашего жилья -- всех разбудил! Когда я вышел из палатки, за
скалистыми вершинами разгоралась заря. На реке весело перекликались
куропатки. Напятнала по свежей перенове (*Перенова -- только что выпавший
снег) белка, настрочили мелкими стежками мыши. А здесь недавно пробежал,
горбя спину, соболь. Лиса надавила пятаков возле зарезанного оленя. Под
скалою пересвистывались рябчики. Наголодавшиеся за три дня обитатели тайги
чуть свет на кормежке. Каким испытаниям подвергается их жизнь в этих
холодных и неприветливых горах!
Пока готовили завтрак, проводники собрали оленей. Через час мы покинули
спасшую нас стоянку.
Джугджурский хребет сияет белизной только что выпавшего снега. Кругом
тишина. Улеглись обвалы. На дне ущелья не всколыхнутся заиндевевшие деревья.
Кажется, стужа сковала даже звуки.
Поднимаемся мы быстро. Вот и брошенные на подъеме нарты. Пока их
откапывают и приводят в порядок упряжь, я ухожу вперед, на перевал,
осматриваюсь.
Позади легло глубокое ущелье, обставленное с боков исполинскими
скалами. А дальше и ниже, в узкой рамке заснеженных гор, темнеет тайга,
покрывающая дно Алдоминской долины.
На юго-запад от перевала открывалась неширокая панорама удивительно
однообразных горных вершин -- пологих, пустынных. Только слева из-за
ближнего откоса седловины виднелись мощные нагромождения черных скал
главного Джугджурского хребта. Там и Алгычанский пик.
На перевале я увидел небольшое сооружение, сложенное из камней. Это
была урна, полузасыпанная снегом. Четыре плиты, установленные на широком
постаменте, служили чашей. Чего только не было в этой чаше! Пуговицы, куски
ремней, гвозди, спички, металлические безделушки, цветные лоскутки, гильзы,
кости птиц, стланиковые шишки и много всякой мелочи.
Пока я рассматривал содержимое чаши, подошел обоз. Возле урны караван
остановили. Афанасий вырвал из головы несколько волосков и бросил их в чашу.
Николай достал из кармана с десяток мелкокалиберных патрончиков и, выбрав из
них один, тоже опустил в чашу.
-- Для чего это? -- спросил его Василий Николаевич.
-- Так с давних пор заведено. Каждый человек, который идет через
перевал и хочет вернуться обратно, должен что-нибудь положить, иначе
Джугджур назад не пропустит.
-- Ты хитер, парень! Почему же положил негодный патрончик с осечкой?
Николай добродушно рассмеялся.
-- Джугджур не видит, немножечко обмануть можно, -- ответил он,
доставая из ниши, сделанной в постаменте, ржавую железную коробку.
-- Тут много всяких писем. Кто, куда, зачем ходил, кого обидел Джугджур
-- все написано.
Коробка была старинного образца, из-под чая, наполненная доверху
разными бумажками.
Я развернул одну из самых пожелтевших. Она была исписана неразборчивым
детским почерком и читалась с трудом: «Джугджур, зачем угнал наших оленей,
теперь мы должны вернуться домой пешком, сами тащить нарты, может, в школу
скоро не попадем. Сыновья Егора Колесова». В другой записке было написано:
«Не годится, Джугджур, так делать, ты десять дней не пускал нас через
перевал, холод посылал на нас, и мы выпили много спирта, который везли
Рыбкоопу. Как рассчитываться будем? Нехорошо!» Под текстом было четыре
неразборчивых подписи. Датирована 1939 годом.
Среди многочисленных записок я увидел знакомую бумагу, которой
пользуются геодезисты для вычислительных целей. Это оказалась записка наших
товарищей, работавших в прошлом году на Джугджурском хребте. «Перестань
дурить, Джугджур! Взгляни на свою недоступную вершину, на ней мы выложили
каменный тур. Ты побежден! Васюткин, Зуев, Харченко, Евтушенко».
Пока мы читали записки, Николай достал из другой ниши круглую банку, в
которую проезжие складывали монеты. Он высыпал их себе на полу дохи и,
присев на снег, стал считать.
-- Двадцать... сорок... пять... рубль...
К нему подошел Афанасий, лукавым взглядом стал следить за счетом. А
Николай сиял. Шутка ли, горсть денег! Он высыпал обратно в банку щербатые и
потертые монеты, остальные зажал в кулаке и потряс ими в воздухе.
-- Спасибо, Джугджур! На пол-литру есть! Дай бог тебе еще сто лет
прожить!
Видимо, издавна стоит здесь, на Джугджурском перевале, эта урна. Кто ее
установил, кто вынес сюда плиты? Афанасий, будто угадав мои мысли, стал
рассказывать:
-- У того охотника, который первый кочевал к морю, родились сын и дочь,
-- так говорят наши старики. Когда сын вырос, отец навьючил много добра --
тэри (*Тэри -- калым) -- и послал сына за хребет в тайгу жену себе искать.
Дорогу рассказал ему правильно, но сын не вернулся. Однако, беда случилась,
решил отец и послал на розыски дочь. Много ездила она, долго искала, пока не
попала на перевал. Видит, кости оленей лежат, пропавший тэри, от брата
никаких следов. Стала звать, много ходила по горам, плакала. Вдруг слышит
голос Джугджура:
-- Суликичан, -- так звали ее, -- не ищи брата. Человек обещал
направить ветер на восход солнца и обманул меня, за это я превратил его сына
в скалу. Видишь, она стоит всегда в тумане, выше и чернее остальных.
Взглянула Суликичан и узнала брата.
-- Джугджур, -- сказала она, -- верни брата в его чум. Что хочешь
возьми за это.
Джугджур молчал, все думал, потом сказал:
-- Хорошо. Сделай из тяжелых камней чашу, положи в нее самое дорогое
для тебя, и пусть все люди, которые идут через перевал, тоже кладут часть
своего богатства. Когда чаша наполнится, я верну человеку его сына.
Согласилась Суликичан, вынесла на перевал тяжелые камни, сложила чашу и
бросила в нее самое дорогое -- свою косу. С тех пор каждый охотник, который
идет через перевал к морю и обратно, что-нибудь кладет в чашу. Много времени
уже утекло, однако люди все не могут ее наполнить. Ждет Джугджур, сердится,
а Алгычан все спит.
-- Как ты сказал, Афанасий! Алгычан? -- переспросил его Василий
Николаевич.
-- Да. Идите сюда все. -- И старик повел нас на склон седловины. --
Видите большую скалу? Смотрите хорошо. У нее есть лоб, нос, губы. Это
Алгычан, сын охотника. Джугджур сделал его скалой.
-- Да ведь мы же идем к Алгычану! -- сказал я.
-- Хо... Как люди могли ходить наверх, гора шибко крутой, -- удивился
Афанасий.
Не задерживаясь больше, мы спустились к оленям.
На дне перевальной седловины находится большое озеро продолговатой
формы. Возле него ни единого деревца, ни кустика. Только груды россыпей,
сползающих с крутых гольцов.
Миновав седловину, караван свернул влево. Наш путь вился крутыми
зигзагами по отрогам все ближе к Алгычану.
У последнего спуска задержались. Перед нами возвышался Алгычанский пик
-- нагромождение колючих скал, собранных в одну вершину. На его крутых
откосах ни россыпей, ни снега. Видны только следы недавних обвалов да у
подножия какие-то руины, которые делали подход к пику недоступным. Голец
издали действительно напоминал мертвого великана.
-- А где же пирамида? -- удивился Василий Николаевич. -- Виноградов,
кажется, сообщал, что она построена?
-- Пирамиды нет, но тур стоит, -- ответил я, рассматривая в бинокль
вершину Алгычанского пика. -- В самом деле, куда же девалась пирамида?
У кромки леса люди задержались с оленями, чтобы заготовить дров, а я
ушел вперед.
Вот, наконец, и палатка наших товарищей. Она погребена под снегом, и,
если бы не шест, установленный Виноградовым, трудно было бы отыскать ее
среди многочисленных снежных бугров. Я с трудом прорыл проход и влез внутрь.
Палатка имела жилой вид: всюду разбросаны вещи, которыми, казалось, только
что пользовались, в кастрюле даже нарезано мясо для супа. Все это
подтверждало вывод Виноградова, что люди ушли ненадолго и какое-то несчастье
не позволило им вернуться в свой лагерь.
Когда прибыл обоз, на вершины гор уже лег пурпурный отблеск вечерней
зари. Медленно надвигалась ночь, окутывая прозрачными сумерками ущелье. Мы с
проводниками взялись за устройство лагеря, а Василий Николаевич и Геннадий
решили полностью откопать палатку Королева. Когда ужин сварился, я пошел за
ними.
-- Кажется, мы напали на след, -- сказал Василий Николаевич. -- Тут
вот, под снегом, веревки нашли, кайла, гвозди, цемент, к тому же и вся
посуда здесь, даже ложки. Думаю, они работу закончили, спустили сюда часть
груза с гольца и пошли за остальным.
-- Тогда куда же девалась пирамида? -- спросил я. Он в недоумении пожал
плечами.
-- Не знаю, но искать их надо только на подъеме к пику. Место тут
узкое, никуда не свернешь, да и заблудиться негде.
Длинной показалась ночь у Алгычана. В палатке тепло. Тихо кипит вода в
чайнике. Из темноты доносятся сонные звуки, шорох, случайного ветра.
-- Слышите, гром, что ли? -- сказал вдруг Василий Николаевич,
приподнявшись.
До слуха долетел грохот отдаленного взрыва, на вершине что-то
откололось и, дробясь, покатилось вниз.
-- Обвал... -- прошептал Геннадий.
Мы вышли из палатки. Казалось, лопались скалы, рушились утесы и
сползали с вершины целые потоки камней. Можно было поверить, что проснулся
легендарный Алгычан и сбрасывает с себя гранитные оковы.
Через несколько минут гул стих, но где-то еще скатывались одинокие
глыбы, сотрясая ударами скалы. Мы теряли последнюю надежду спасти наших
товарищей...
Время подкрадывалось к полумочи. В печке потрескивали гаснущие угли.
Палатку сторожил холод. Василий Николаевич лежал на шкуре с закрытыми
глазами, плотно сжав губы. В его руке не угасала трубка. Геннадий, забившись
в угол, сидел, ссутуля спину, над кружкой давно уже остывшего чая. Что-то
нужно сказать, отвлечь всех от мрачных мыслей. Но язык будто онемел, слова
вылетели из памяти. А от тишины еще тяжелей на душе...
III. Поиски затерявшихся людей. Догадка проводников. Встреча с
обреченными. Снова вместе. Возвращение в бухту. Расставание с Королевым.
Прежде всего нужно было обследовать подножие Алгычана. Василий
Николаевич идет влево от нашей стоянки, намереваясь проникнуть в недоступную
северную часть гольца, где скалы отвесными стенами поднимаются к главной
вершине. Там, вероятно, скопилось много лавинного снега, в нем, быть может,
ему удастся обнаружить обломки упавшей с пика пирамиды. Я иду направо. Хочу
по гребню подняться как можно выше и обследовать цирки, врезающиеся в голец
в юго-западной стороне. В лагере остается Геннадий. Он установит рацию. Нас
давно ждут в эфире и, конечно, беспокоятся.
В котомку кладу бинокль, теплое белье, меховые чулки, свиток бересты
для разжигания костра и дневной запас продуктов для себя и Кучума.
От лагеря сразу поднимаюсь на гребень. Хорошо, что у меня лыжи подшиты
сохатиным камусом, они легко скользят по затвердевшему снегу и совершенно не
сдают даже на очень крутом подъеме. Кучум идет на длинном поводке. Он
горячится, рвется вперед и почти выносит меня на первый взлобок.
Достаю бинокль и внимательно рассматриваю склоны гор, но нигде не видно
ни следа, ни каких-либо иных признаков присутствия людей.
Иду дальше. Гребень щетинится торчащими из-под снега острыми камнями.
Впереди громоздятся высокие террасы склонов Алгычана. Всюду россыпи, местами
лежат глыбы упавших скал. Подбираюсь к каменным столбам, торчащим, словно
истуканы, по краю гребня, и, не найдя здесь прохода, останавливаюсь.
Справа подо мной небольшой цирк с миниатюрным озерком у самого края.
Стенки цирка довольно крутые, и их снежная поверхность исчерчена постоянно
скатывающимися камнями. За противоположной стеною, судя по рельефу, должно
быть обширное углубление, но мне его не видно.
Кучум, усевшись возле меня, смотрит куда-то в пространство и длинными
глотками втягивает воздух. Видимо, что-то доносит еле уловимый ветерок,
изредка налетающий снизу. Я просматриваю склоны Алгычана. Солнечный свет
широким потоком ворвался в цирк. На снежной поверхности обозначились
морщинки, бугры, рубцы передувов, и совершенно неожиданно среди них я увидел
следы. Они вошли в цирк снизу, обогнули озерко и исчезли неровной стежкой за
соседним гребнем. «Кто мог бродить здесь?» -- подумал я, надеясь открыть
причину загадочного исчезновения людей.
Нужно было спуститься к следу, но как? По стенке цирка -- круто, к тому
же снег там заледеневший, местами торчат острые камни. На лыжах -- опасно.
Лучше вернуться назад и пойти в цирк снизу.
Пока я размышлял, Кучум вдруг заволновался, выпрямился и, бросив
беспокойный взгляд на соседний гребень, замер. Хотя человек и обладает
зрением лучшим, чем у собаки, все же я ничего там не заметил. Но Кучум
взбудоражен, он громко втягивает в себя воздух и, наконец, бросается в
сторону гряды. С трудом сдерживаю разгорячившуюся собаку, та упорствует,
запускает глубоко в снег когти и делает отчаянную попытку сорваться с
поводка.
Мне тоже хочется скорее попасть на соседний гребень и заглянуть в
скрытую за ним чащину. Может быть, собака улавливает запах человека или
дыма?
Я пытаюсь преодолеть упрямство Кучума, но тот продолжает рваться
вперед. Он здоровый, сильный, и мне на лыжах нелегко справиться с ним.
Единственный выход -- рискнуть спуститься по стенке на дно цирка. Связываю
лыжи и пускаю их вниз. Они, скользя, несутся по снежному откосу, то взлетая,
то прячась, наконец скрываются где-то в глубине.
Теперь наш с Кучумом черед. Как же затормозить бег, чтобы не разбиться
на этой стене? Вспомнилось детство и ледянка, на которой часто катался с
гор. Снимаю телогрейку, усаживаюсь на нее, пропустив рукава между ног, и
отталкиваюсь. Вначале Кучум бежит впереди, но скорость нарастает. Собака уже
не поспевает за мною, падает, летит кувырком. Я работаю руками и ногами,
удерживаю равновесие. Спускаемся с невероятной быстротой. Снизу, сквозь
телогрейку, начинает холодить. Но вот, наконец, и дно цирка. Кучум
встряхивает шубу и садится, а я смеюсь: от телогрейки остались только рукава
да ворот, на брюках -- большая дыра. Хорошо, что в шапке всегда имеется
иголка с ниткой.
Пересекаю чашу и поднимаюсь на гребень. Кучум торопится. Над нами яркое
солнце. Воздух потеплел. Ни одной птицы не видно, и ничто не напоминает о
близости живых существ. Только шорох лыж да тяжелое дыхание собаки нарушают
покой гор.
Едва мы преодолели подъем, как Кучум снова взбудоражился.
Спускаюсь ниже. До слуха вдруг доносится стук камней. Кто-то удаляется
от нас косогором. Собака вытягивается в струнку, готовая броситься на звук.
Вот что-то мелькнуло, из-за крутизны вырывается стадо снежных баранов и на
наших глазах уходит влево, к скалам. Я приседаю. Кучум не шевелится, следит,
как они прыгают с камня на камень. Затем, оглянувшись, смотрит на меня, как
бы спрашивая, почему я не стреляю. А бараны, отбежав метров двести, вдруг
остановились и, повернув головы в нашу сторону, замерли.
Их семь. Все рогачи, толстые, длинные, на коротких ногах. На фоне серых
камней они кажутся почти белыми. Мгновение -- и животные пугливо бросаются
дальше. До слуха снова долетает стук камней. Через сто метров бараны опять
останавливаются, потом бегут дальше, и так, небольшими рывками с
остановками, они уходят от нас. Добравшись до скал, звери вытягиваются в
одну линию, скачут с карниза на карниз, по уступам и, забираясь все выше и
выше, исчезают в щелях.
«Вот они, красавцы, обитатели бесплодных гор», -- думаю я, долго
находясь под впечатлением неожиданной встречи.
Продолжая поиски, внимательно осматриваю дно цирка, склоны хребта,
хорошо видимые с того места, где мы стоим. Нигде никаких признаков людей.
Обследовав дно впадины и соседнюю долину, собирающую ручейки с
юго-западных склонов Алгычана, я ни с чем вернулся в лагерь. Василия
Николаевича еще не было. Меня встретил Геннадий.
-- Сколько беспокойства наделала пурга! Трое суток все наши станции
дежурят, ищут нас, а мы только сегодня вылезли в эфир, -- говорит он.
-- Что нового?
-- Ничего. Все ждут от нас сообщения.
-- Сообщать-то пока нечего...
Василий Николаевич вернулся поздно вечером, усталый и тоже без
результатов.
-- Ну и пропасть же с той стороны гольца! А какие высокие скалы! Разве
там что найдешь, все завалено снегом и камнями...
На следующий день решили обследовать единственный проход к пику,
взобраться на вершину и выяснить, куда же исчезла пирамида. А проводники
перекочуют ближе к лесу. Там, где мы стоим лагерем, очень крепкий снег,
олени не могут копытить и уходят далеко вниз.
На этот раз идем все трое. День обещает быть хорошим. Восход солнца
застает нас в пути.
От лагеря лощина сразу сужается и узкой бороздою въедается в голец.
Передвигаемся медленно, присматриваясь к волнистой поверхности снега. Но и
тут не видно даже признаков недавнего пребывания людей, все сглажено или
запорошено выпавшим позавчера снегом.
За последним поворотом лощина неожиданно раздваивается, и мы видим гору
грязного снега, смешанного с камнями, -- это остатки обвала. Его следы лежат
широкой полосой по ребристым террасам Алгычана. Но главная масса сдернутого
снега и камней слетела в развилку лощины, часть даже перемахнула ее и
наростом прилипла к противоположному откосу. Мы молча стоим у застывшей
лавины, которая, быть может, стала могильным курганом над близкими нам
людьми. Потом тщательно осматриваем снежные глыбы, сжатые гармошкой,
поднимаемся на верх обвала и, наконец, в щели находим рюкзак. В нем гвозди и
веревка. Больше ничего... Сомнений не осталось: товарищи погибли, Видимо, их
захватила лавина. Не могу примириться с мыслью, что никогда не увижу
Трофима. С минуту длится скорбное молчание.
-- Там вон вроде площадки... Надо бы тур выложить и имена высечь на
камне, -- говорит Василий Николаевич, кивнув головой в сторону левой скалы.
Мы собираем плиты для могильного тура.
Вдруг снизу долетел выстрел. Нашим следом быстро поднимался человек,
таща за собой какой-то груз.
-- Никак Афанасий! -- первым угадал Геннадий. -- Не случилось ли еще
какой беды?
Афанасий, заметив нас, остановился, снова выстрелил и стал махать
руками, кричать.
-- Люди там... Люди... -- наконец разобрали мы.
-- Где? Какие люди? -- кричал, в свою очередь, Василий Николаевич.
-- На Алгычане, на самом верху. Мы побежали вниз, падали, кувыркались.
-- Я же говорил, не такие ребята, чтобы погибнуть! -- ликовал Геннадий.
Афанасий передохнул и стал рассказывать:
-- Как только мы палатку поставили, Николай и говорит: «Смотри, однако,
на Алгычане дым!» Я посмотрел -- и верно, дым. Вот и побежал сюда. На таборе
захватил ящик с продуктами, взял веревок, может, нужно будет.
-- Не перед пургой ли курятся сопки? -- перебил я его.
-- Хо... Я что, дым не знаю? Говорю, люди живут на Алгычане. Надо идти
туда, стрелять, пусть услышат. -- И, перезарядив ружье, он выстрелил.
Сверху послышался протяжный гул. Меньше чем через минуту он повторился
еще и еще.
Геннадий схватил за плечо Василия Николаевича.
-- Слышишь, камни бросают, значит, верно, живы...
Теперь, как никогда, нужно было торопиться к ним, к нашим попавшим в
беду товарищам. Никакие препятствия или преграды не могли уже задержать нас.
Мы кинулись вверх. Какая крутизна! Нам бы ни за что не взобраться без
специального снаряжения, если бы под ногами не было свежего, еще не
заледеневшего снега.
День принес тепло. Василий Николаевич шел впереди, отмеряя крутизну
мелкими шагами. За ним мы тянули на веревке лыжи с грузом.
-- Доберемся вон до того выступа и отдохнем, -- подбадривал Василий
Николаевич.
Чем выше, тем чаще попадаются затвердевшие передувы. Ноги скользят,
рукам не за что ухватиться.
Наконец мы у выступа; но Василий Николаевич, забыв про обещанный отдых,
продолжает карабкаться дальше, торопится, местами ползет на животе, оставляя
на снегу отпечатки вдавленных пальцев.
-- Вон на плиту взберемся, там легче будет... А ну, вперед...
Так, не отдыхая, мы лезли все выше и выше. До пика уже совсем немного.
Но путь неожиданно преградила совершенно отвесная стена снежного надува.
Тут только мы догадались, что произошло с людьми Алгычана.
Обвал, следы которого мы видели на дне лощины, зародился именно здесь.
Он оставил отвесную стену надува и отрезал наших товарищей, находящихся на
пике. Ни по снежной стене, ни по скалистым бортам щели, ни в других местах
нельзя было спуститься. Они оказались пленниками Алгычана, обреченными на
медленную смерть.
-- У-у-гу!.. -- закричал Геннадий.
Эхо оттолкнулось от ворчливых скал, скользнуло по откосам в ущелье и,
не вернувшись, заглохло.
Через минуту сверху загрохотали камни. Затем донеслись ответные крики.
Люди спустили нам камень с запиской, привязанной к тонкой, сплетенной из
лоскутков трикотажного белья, веревочке.
«Кто вы? -- писали они. -- Мы геодезисты, нас пятеро, попали в беду, не
можем спуститься. Сегодня дожгли последние остатки пирамиды. Помогите,
подайте веревку, мы седьмой день голодные, совсем обессилели, есть
тяжелобольной. Юшманов».
«Не волнуйтесь, -- ответил им я. -- Мы приехали разыскивать вас. Рады,
что все живы. Вяжем лестницу, через час подадим конец, закрепите его, и мы
поднимемся к вам».
Веревочная лестница без палок оказалась очень неудобной для подъема, но
все же нам удалось взобраться наверх. Четверо товарищей поджидали нас у края
надува.
Какое страшное зрелище я увидел! Предо мною стояли люди, вконец
истощенные, все странно скуластые и до того черные, будто обугленные. Глаза
у всех ввалились и потускнели, губы высохли, тело прикрывали лохмотья
полусгоревшей одежды. Никого из них распознать было невозможно.
-- На кого же вы, братцы, похожи! -- кричал Василий Николаевич,
загребая в свои объятия первого попавшегося и прижимая к губам закопченную
голову.
Говорили все разом, каждый торопился излить свои чувства. К обреченным
вернулась жизнь, и вершина Алгычана огласилась радостными человеческими
голосами.
-- А где же Трофим? -- спросил я, заметив сразу отсутствие Королева.
Все вдруг смолкли.
-- Он плохой... Лежит. Думали, сегодняшней ночью умрет, -- тихо ответил
кто-то из товарищей.
Почему-то казалось, что у Трофима не хватит сил пережить радость, и,
стараясь опередить время, я бегу по россыпи меж крупных камней, прилипших к
крутому склону пика. Долго ищу жилье. Наверх выходят остальные.
-- Вот и наша нора, -- сказал Юшманов, показывая на отверстие в
сугробе.
Я пролез на четвереньках внутрь. Узкий вход шел глубоко под скалу.
Помещение было низкое, темное, изолированное от внешнего мира каменным
сводом и двухметровым слоем заледеневшего снега. Через маленькую дыру в
своде просачивался слабый свет. Дыра, видимо, служила и дымоходом. Вскоре
глаза привыкли к темноте.
В углу на каменной плите, выстланной мхом, лежал Трофим. Его ноги были
завернуты в лохмотья, шея перехвачена ватным лоскутом, на голове шапка.
Скрюченное тело жалось к маленькому огоньку, поддерживаемому лучниками. Он
приподнялся на локти, хотел что-то сказать, но хриплый кашель заглушил
голос.
-- Я узнал вас по шагам, только вы что-то долго поднимались. Думал, не
дождусь...
Трофим протянул мне костлявые руки, обтянутые черной морщинистой кожей.
Сухими губами он беззвучно хватал воздух. В широко открытых глазах сомнение:
он все еще не верил в наш приход.
Я прижал Трофима к себе.
-- Ты успокойся, мы сейчас унесем тебя отсюда, и все будет хорошо.
Его подбородок судорожно задрожал от беззвучных рыданий.
В нору влез Василий Николаевич.
-- Сядьте ко мне ближе, согрейте немножко, у меня все заледенело...
Хорошо, что поспели, думал, не увидимся... -- И Трофим в изнеможении
опустился на холодную плиту.
Василий Николаевич стащил с него обгоревшие лохмотья и надел свою
телогрейку. Я подбросил в огонь пучок лучинок. Геннадий и Афанасий принесли
продукты. Но Трофим отказался есть. Огнем горело его тело, было слышно, как
хрипит у него в легких.
-- Пока работали, тепло стояло, бетон в туре хорошо схватился,
заканчивали постройку. А оно не тут-то было, случись обвал, да захвати нас
на пике, когда тут, наверху, не осталось ни веревки, ни топора, ни
палатки... -- рассказывал он тихо, часто проводя языком по высохшим губам.
-- Бросились к надуву, но где же там -- отвесная скала. А снег твердый как
камень, голыми руками не взять. В одном месте увидели старые следы диких
баранов. Обрадовались. Ничего не оставалось, как рискнуть спуститься их
следом, думали, все одно погибать... Ведь ни одежонки на нас, ни куска
хлеба, а помощи ждать неоткуда! Разобрали пирамиду, проложили одно бревно к
карнизу, где прошли бараны, по бревну сполз туда я. А дальше -- пропасть.
Звери прошли по выступу, им привычно... А нам нечего и думать. Стал
подниматься с карниза -- и не могу. Не то оробел, или уж очень скользким
было бревно... Часа два мучились ребята. Пришлось снять с себя белье,
привязаться к бревну, только так и вытащили меня. А пока стоял на карнизе,
-- место там продувное, холодно -- меня и прошило ветром.
Хриплый грудной кашель то и дело прерывал его рассказ. Трофим стонал от
боли, поворачивался лицом к стене и подолгу трясся от непрерывного кашля. Мы
укрыли его потеплее своей одеждой.
-- Что-то надо было делать. Не хотелось сдаваться, хотя и не на что
было надеяться, -- продолжал свой рассказ Трофим, отдышавшись. -- Стали
убежище ладить, решили закопаться поглубже в россыпь, под обломки, тут все
же затишье, не так берет холод. Работали всю ночь, ребята не растерялись,
молодцы, к утру закончили. Лес с пирамиды изломали и камнями раскрошили на
лучинки. Развели огонек, и ребята уснули. Меня жаром охватило, как-то
нехорошо стало. А наверху ветер разыгрался. Чувствую, дует из угла, где-то
щель осталась. Вылез и, пока забивал снегом дыры, ослаб, земля из-под ног
выскользнула, перед глазами, почудилось, не снег, а сажа. Упал, но все же
как-то добрался сюда и вот с тех пор не встаю... Страшной кажется смерть,
когда о ней долго думаешь и когда она не берет тебя, а только дразнит.
Ребята сжевали все, что подсильно было зубам. Ели ягель, обманывали желудок.
Огонь берегли, спали вповалку друг на друге, чего только не передумали.
Обидно было, что пропадаем без пользы, глупо. -- Трофим вдруг стал
задыхаться. -- Тяжело дышать, колет... в груди колет. Неужели конец?
-- Ты что, Трофим, с чего это ты помирать собрался?! Выпей-ка горячего
чая, погрей нутро, легче будет. Я сухарик размочил, пей, -- хлопотал возле
больного Василий Николаевич.
Трофим приподнялся, взял чашку. Но руки тряслись, чай проливался.
Пришлось поить его.
-- Хорошо, спасибо, только сухарь как хина... И от чая совсем ослаб.
Видно, не жить, -- сказал, сжимая холодными руками грудь.
Его губы дрожали, в глазах боль. Он говорил тем же тихим голосом:
-- Если конец, скажите друзьям спасибо... Душно мне, отвалите камни,
дайте воздуха...
Через полчаса мы одели Трофима и помогли выбраться из норы.
Горы были политы щедрым светом солнца, уже миновавшего полдень. Из-за
прибрежного хребта краешком улыбалось нам светлое облачко.
Трофим попросил вынести его на пик. Это было всего полсотни метров.
Опираясь на тур, он долго всматривался в синеющую даль необозримого
пространства. О чем он думал? О том, что эти горбатые хребты, кручи, долины
вскоре лягут на карту? Что "побегут по ней голубые стежки рек, ручейков,
зелеными пятнами обозначится тайга? Только никому не узнать, что перенес туг
с товарищами он, Трофим Королев, во имя этой карты.
Вниз, к стоянке, спустились быстро. В палатке тепло. Василий Николаевич
вскипятил воду. Мы обмыли Трофима и уложили в спальный мешок. После всего
пережитого он впал в забытье, метался в жару, бредил и бился в затяжном
кашле.
Геннадий настойчиво стучал ключом, вызывая свои станции, хотя до
назначенного времени оставалось более двух часов. Его упорство закончилось
удачей, и в эфир полетела радиограмма:
«Все затерявшиеся живы, находимся лагере под Алгычаном. Королев тяжелом
состоянии, срочно вызовите аппарату врача, нужна консультация, оказание
помощи больному».
Остальные из пострадавших нуждались лишь в нормальном питании.
Почувствовав тепло и присутствие близких им людей, они понемногу стали
приходить в себя.
Врачи по признакам болезни определили у Королева воспаление легких.
Болезнь протекала тяжело. Трофим лишь изредка, и то ненадолго, приходил в
себя.
Через несколько дней мы снова вынесли на голец строительный лес и
воздвигли на пике пирамиду. Стоит она и сейчас на зубчатой громаде
Джугджурского хребта, как символ победы советского человека.
Болезнь Трофима очень тревожила нас. У него не прекращались кашель и
одышка. Температура упорно держалась выше тридцати девяти градусов. Утром и
вечером у аппарата появлялся врач и давал советы по уходу за больным.
Восьмого апреля мы, наконец, тронулись в обратный путь, к бухте. Теперь
дорога нам была знакома, а дни стояли солнечные, теплые. Для Трофима были
сделаны специальные нарты с капюшоном. Упряжку всю дорогу вел Василий
Николаевич, а на крутых спусках и в опасных местах оленей выпрягали и нарты
тащили вручную.
В бухте Трофима Николаевича положили в больницу: у него действительно
оказалось воспаление легких. Хотя теперь он находился под непосредственным
наблюдением врачей и в хорошей обстановке, жизнь его все еще была в
опасности. Ожидался кризис.
На второй день утром за нами прилетел самолет. На смену Королеву прибыл
техник Григорий Титович Коротков. Среди привезенных журналов и газет я нашел
два письма, адресованных мне и Трофиму. Их прислала Нина Георгиевна. «Я вам
не отвечаю более года, -- писала она мне. -- Нехорошо, знаю. Вы меня
ругаете, конечно, плохо думаете. У меня умер муж, человек, которого я тоже
любила. Теперь, когда прошло много времени, я смирилась со своим горем и
могу подумать о будущем. Я написала подробное письмо Трофиму, не скрывая
ничего, пусть он решает. Я согласна ехать к нему. Если его нет близко возле
вас, перешлите ему мое письмо. Остальное у меня все хорошо. Трошка здоров,
пошел в школу. Ваша Нина».
Наконец-то можно было порадоваться за Трофима, если... если это письмо
вообще не запоздало. Жизнь Королева по-прежнему в опасности. Но я верил, что
письмо Нины ободрит больного, поможет побороть недуг.
Пока загружали машину, мы с Василием Николаевичем и Геннадием пошли в
больницу. Дежурный врач предупредил, что в палате мы не должны
задерживаться, что больной, услышав гул моторов, догадался о нашем отлете и
очень расстроился.
Трофим лежал на койке, прикрытый простыней, длинный, худой. Редкая
бородка опушила лицо. Щеки горели болезненным румянцем, видимо, наступил
кризис.
Больной ни единым словом, ни движением не выдал своего волнения, хотя
ему было тяжело расставаться с нами.
-- Нина Георгиевна письмо прислала, хочет приехать совсем к тебе, --
сказал я, подавая ему письмо.
-- Нина?.. Что же она молчала так долго? -- прошептал он, скосив на
меня глаза.
-- Она обо всем пишет подробно... Почему ты не радуешься?
Он молча протянул горячую руку. Я почувствовал, как слабо бьется у него
пульс, увидел, как трудно вздымается грудь, и догадался, какие мысли
тревожат его.
-- Не беспокойся, все кончится хорошо. Скорее выздоравливай и поедешь в
отпуск к Нине.
Трофим лежал с закрытыми глазами. Собрав всю свою волю, он сдерживал в
себе внутреннюю бурю. На сжатых ресницах копилась прозрачная влага и,
свернувшись в крошечную слезинку, пробороздила худое лицо.
-- Мне очень тяжело... Трудно дышать... Он хотел еще что-то сказать и
не смог.
-- Крепись, Трофим, и скорее поправляйся.
Он открыл влажные глаза и устало посмотрел за окно. Там виднелись трубы
зимующих катеров, скалистый край бухты, затянутый сверху густой порослью
елового леса, и кусочек голубого неба. До нас доносился гул моторов.
-- Вам пора... -- и он сжал мою руку.
Тяжело было расстаться с ним, оставить одного на берегу холодного моря.
Трофим уже давно стал неотъемлемой частью моей жизни. Но я должен был
немедленно возвратиться в район работ.
Мы распрощались.
-- Подождите минутку, -- прошептал Трофим и попросил позвать врача.
Когда пришел врач, Трофим приподнялся, сунул руку под подушку и достал
небольшую кожаную сумочку квадратной формы с прикрепленной к ней тонкой
цепочкой.
-- Это я храню уже семнадцать лет. С тех пор, как ушел от
беспризорников. Здесь зашито то, что я скрыл от вас из своего прошлого. Не
обижайтесь... Было страшно говорить об этом, думал, отвернетесь... А после
стыдно было сознаться в обмане. Евгений Степанович, -- обратился он к врачу,
-- если я не поправлюсь, отошлите эту сумочку в экспедицию. А Нине пока не
лишите о моей болезни... -- И Трофим опустился на подушку,
Врач проверил пульс, поручил сестре срочно сделать укол.
-- У него стойкий организм. Думаю, что это решит исход болезни. Но для
полного восстановления здоровья потребуется длительное время.
Выйдя из больницы, я медленно побрел по льду к самолету. Я думал о
Трофиме, об удивительном постоянстве его натуры, проявившемся в глубоком
чувстве к Нине, о сильной воле, которая не изменила ему и сейчас, в
смертельно трудные минуты. Горько думалось и о том, что, может, ему не
придется вкусить того счастья, к которому он стремился всю жизнь и которое
стало близким только сейчас, когда жизнь его висит на волоске. Не выходили у
меня из головы и слова Трофима о таинственной кожаной сумочке. Мне казалось,
что я знал все более или менее значительное о его прошлом, знал и о
преступлениях, совершенных им вместе с Ермаком, возглавлявшим группу
беспризорников. Что же Трофим мог скрыть от меня?
Коротков со своим подразделением должен будет еще с неделю задержаться
в бухте, пока окончательно не придут в себя спутники Трофима Николаевича --
Юшманов, Богданов, Харитонов и Деморчук. К ним уже вернулась прежняя
жизнерадостность. В молодости горе не задерживается.
Через час самолет поднялся в воздух, сделал прощальный круг над бухтой
и взял курс на юг. Тринадцатого апреля в полдень мы были дома, в штабе
экспедиции.
IV. Колхозный смолокур. Знакомство с Пашкой. Голубая лента. Избушка на
краю бора. Пашка-болельщик.
В штабе затишье. Все подразделения уже далеко в тайге, и странно видеть
опустевший двор, скучающего от безделья кладовщика и разгуливающих возле
склада соседских кур. Необычно тихо и в помещении. На стене висит карта,
усеянная флажками, показывающими места стоянок подразделений. Самую южную
часть территории к востоку от Сектантского хребта до Охотского моря занимает
топографическая партия Ивана Васильевича Нагорных. Севернее ее до Станового
расположилась геодезическая партия Василия Прохоровича Лемеша, на восточном
крае Алданского нагорья -- Владимира Афанасьевича Сипотенко. Как только
наступит тепло, все флажки придут в движение, до глубокой осени будут
путешествовать по карте, отмечая путь каждого подразделения.
Южные ветры все настойчивее бросают на тайгу тепло. В полуденные часы
темнеют тополя, наполняя воздух еле уловимым запахом оживающих почек. С
прозрачных сосулек падают со стеклянным звоном первые капли. На крышах
сараев, по частоколам, на проталинах дорог уже затевают драки черные, как
трубочисты, воробьи. Только и слышен их крик: «Жив, жив, жив!» Подумаешь,
какое счастье! Неужели тепло опередит нас? В горах начнется таяние снегов,
проснутся ключи, но рекам поползут наледи, и нам никуда не улететь.
Апрель и часть мая пришлось провести в штабе. Этого требовала
обстановка, да мне и трудно было уехать в тайгу до полного выздоровления
Трофима.
Из Аяна приходили скупые вести, и я все время жил в тревоге.
Время тянулось страшно медленно и скучно. Василий Николаевич
истосковался по лесу, по палатке, по костру, по тяжелой котомке, по собакам,
держащим зверя, -- ходит как тень. Бойка и Кучум встречают меня хмуро, как
чужого. Надоело им сидеть на привязи, расчесывать когтями слежавшуюся шерсть
на боках, скорее бы к медведям, к свеженине!
Как-то ко мне зашел Василий Николаевич.
-- Когда же поедем? -- спросил он меня хриплым, как после долгого
молчания, голосом.
-- Подождем еще немного.
-- Сколько же можно? -- с болью произнес он. В комнату хозяйка внесла
кипящий самовар.
-- К вам дедушка пришел, войти стесняется, может, выглянете, -- сказала
она, заваривая чай.
В сенях стоял дородный старик, приземистый, лет шестидесяти пяти, в
дубленом полушубке, перевязанном кумачовым кушаком, в лисьей шапке-ушанке,
глубоко надвинутой на брови.
-- У нас промежду промышленников слушок прошел, будто вы охотой
занимаетесь, вот я и прибежал из зимовья, может, поедете до меня, дюже коза
пошла! -- проговорил он застенчиво, переступая с ноги на ногу.
-- Вы что же, охотник?
-- Балуюсь, -- замялся он, -- с малолетства маюсь этой забавой. Еще
махонький был, на выстрел бегал, как собачонка, так и затянуло. Должно, до
смерти.
-- Заходите!
Старик потоптался, поцарапал унтами порожек и неловко ввалился в
комнату.
-- Здравствуйте!
Он уселся на краешек табуретки, сбросил с себя на пол шапку-ушанку,
меховые рукавицы и стал сдирать с бороды прилипшие сосульки, а сам нет-нет,
да и окинет пытливым взглядом помещение.
-- Раздевайтесь!
-- Благодарю. Ежели уважите приехать, то я побегу. А коза, не сбрехать
бы, вон как пошла, табунами, к хребту жмется, должно, ее со степи волки
турнули.
Василий Николаевич так и засиял, так и заерзал на стуле.
-- Да раздевайтесь же, договориться надо, где это и куда ехать, --
сказал он.
-- Спасибо, а ехать недалече, за реку. Я ведь колхозный смолокур, с
детства в тайге пропадаю. Так уж приезжайте, два-три ложка прогоним и с
охотой будем...
-- Где же мы вас найдем?
-- Сам найдусь, не беспокойтесь. Пашка, внучек, вас дождется и отсюда
на Кудряшке к седловине подвезет. Он, шельма, насчет коз во как разбирается,
мое почтенье! Весь в меня, негодник, будет, -- и его толстые добродушные
губы под усами растянулись в улыбке. -- В зыбке еще был, только на ноги
становился, и что бы вы думали? Бывало, ружье в руки возьму, так он весь
задрожит, ручонками вцепится в меня, хоть бери его с собой на охоту. А
способный какой! Малость подрос -- ружье себе смастерил из трубки, порохом
начинил его, камешков наложил... Вот уж и грешно смеяться, да не утерпишь.
Бабка белье в это время стирала. Он подобрался к ней, подпалил порох да как
чесанул ее, она, голубушка, и полетела в корыто, чуть не захлебнулась с
перепугу... Так что не беспокойтесь, он насчет охоты разбирается... Где
умишком не дотянет, хитростью возьмет...
-- По случаю нашего знакомства, думаю, не откажетесь от рюмки водки.
Пьете? -- спросил я старика.
Тот смешно прищелкнул языком и, разглаживая влажную от мороза бороду,
откровенно взглянул на меня.
-- Случается грех... Не то, чтобы часто, а приманывает. Пора бы
бросить, да силен в ней бес, ой, как силен!
Старик выпил, вытер губы, а бутерброд есть не стал, переломил его
пополам и всунул в рукавицу.
Василий Николаевич вышел вместе со стариком.
Я стал переодеваться. Слышу, приоткрылась дверь, и в комнату
просунулась взлохмаченная голова с птичьим носом, густо окропленным мелкими
веснушками. Парнишка боком просунулся в дверь, снял с себя козью доху,
бросил ее у входа. Это был Пашка -- в ватной паре с чужого плеча и больших
унтах, вероятно, дедушкиных обносках. Из этого костюма, напоминающего
водолазный скафандр, торчала на тоненькой шее большая верткая голова. Серые
ястребиные глаза мгновенно пробежали по всем предметам комнаты, но во
взгляде не мелькнуло ни тени удивления или любопытства.
-- Здравствуйте! -- сказал он застенчиво. -- У вас тепло... Вы не
торопитесь. Пока дедушка добежит до лога, мы лучше тут подождем, в тайге
враз продует.
-- Куда же он побежал?
-- Мы-то поедем прямиком до седловины, а он по Ясненскому логу пугнет
на нас коз.
-- Пешком и побежал?
Пашка улыбнулся, широко растягивая рот.
-- Он у нас чудной, дед, сроду такой! До зимовья двенадцать километров,
а за тридцать лет, что живет в тайге, он на лошади ни разу туда не ездил.
Когда Кудряшка была молодой, следом за ней бегал. А теперь она задыхается в
хомуте, спотыкается. Так дед пустит ее по дороге, а сам вперед рысцой до
зимовья. Она не поспевает за ним.
-- А как же зовут твоего дедушку?
-- Не могу выговорить правильно, сами спросите. Его все Гурьянычем, по
отчеству, величают. Сказывают, он будто был одиннадцатым сыном, родители все
имена использовали, ему и досталось самое что ни есть крайнее. Ниподест, что
ли!
-- Анемподист?
-- Во, во... Он у вас ничего не просил?
-- Нет.
-- А ведь ехал с намерением. Значит, помешкал. У нас на смолокурке все
к краю подходит: зимовье на подпорках, бабушка старенькая, да и Кудряшка
тоже. А Жучка совсем на исходе, даже не лает, так мы с дедушкой хотели щенка
раздобыть. Говорят, у вас собаки настоящей породы, -- и паренек испытующе
посмотрел мне в глаза.
-- Собаки-то есть, только когда будут щенки, не знаю, да и будут ли.
-- Бу-у-дут, -- убежденно ответил Пашка. -- К примеру, наша Жучка
каждый год выводит щенят, да нам хотелось породистого. Мы уже и будку ему
сделали и имя придумали -- Смелый... Значит, еще не известно?
Пока он рассказывал семейные секреты, я переоделся.
-- Чаю со мной выпьешь?
-- С сахаром? А что это у вас, дядя, за коробка нарядная?
-- С монпансье.
-- Знаю, это такие кисленькие леденцы, -- и он громко прищелкнул
языком.
-- Могу тебе подарить.
-- С коробкой?
-- Да.
-- Что вы, ни-ни!.. -- вдруг спохватился он. -- Дедушка постоянно
говорит, что я за конфетку и портки продам, брать не велит. А чай с момпасье
выпью... Какие у вас маленькие чашки.
Пил Пашка долго, вольготно, даже вспотел, и все время шмыгал носом. А
беспокойные глаза продолжали шарить по комнате.
-- У вас, видно, настоящая дробовка? Наверно, тыщу стоит? -- и Пашка,
покосившись на мое ружье, затяжно вздохнул. -- А дедушка с пистонкой
промышляет. Старая она у нас, к тому же ее еще и грозой чесануло: ствол
сбоку продырявило и ложу расщепило. И стреляет смешно: вначале пистон
треснет, потом захарчит, тут уж держись покрепче и голову нужно
отворачивать: может глаза огнем вышибить. Дедушка говорит, нашей пистонке
трудно запалиться, а уж как стрелит -- любую зверушку сразу сшибет.
-- Стаким ружьем не долго беды нажить. Новое нужно.
-- Край, как нужно, да что поделаешь с бабушкой, она с нами не согласна
насчет покупки ружья, денег не дает, а то бы мы с дедушкой давно купили. В
магазин сколько раз заходили, дедушка все ружья пересмотрит, выберет и
скажет: «Ну и хороша же, Пашка, дробовка!»
С тем и уйдем из магазина.
-- Почему же бабушка против покупки?
-- Говорит, что я тогда из тайги вылезать не буду, школу брошу.
-- Ты тайгу любишь?
-- Люблю. Эх, ружье бы! Вот если бы ружье! -- и Пашка задумался. Он
смотрел в угол, где стояла моя двустволка, а воображение, наверное, рисовало
заманчивую картину, как он с настоящим ружьем бродит по тайге, стреляет
зайцев, косачей и как, нагрузившись дичью, возвращается к бабушке в зимовье.
Пришел Василий Николаевич, и мы, не задерживаясь, покинули избу.
Заворотами дремала тощая грязно-серой масти лошаденка, запряженная в
розвальни.
-- Ну-ка, Кудряшка, прокати! -- ласково крикнул Пашка, отвязывая вожжи.
Лошадь качнулась, махнула облезлым хвостом и лениво потащила нас по
незнакомым переулкам.
-- Надо бы торопиться, солнце низко, -- посоветовал Василий Николаевич.
-- Ее не раскачать, а собаки попадутся -- совсем станет. Только уж не
беспокойтесь, я дедушку не подведу, вовремя приедем. Ну, ты, Кудряшка,
шевелись!
За поселком Кудряшка будто пробудилась и побежала мелкой рысцой, грузно
встряхивая тяжелым животом.
-- Она у нас подслеповатая, думает, впереди дед бежит, вот и торопится.
Иной раз даже заржет, только от голоса у нее осталась одна нотка, да и та
тоненькая. Колхоз давно другого коня давал, а дедушка говорит: нам
торопиться некуда. У нас с ним все ведь распланировано: в это лето зимовье
новое сложим, осенью ловушки в тайге подновим, а Кудряшка включена в наш
план до ее смерти...
-- А как твои дела в школе? -- спросил его вдруг Василий Николаевич.
-- Со школой? -- Пашкино лицо помрачнело. -- С арифметикой не в ладах,
-- процедил он чуть слышно. -- Пока примеры были, понимал что к чему, а как
пошли задачи -- вот тут-то и прижало меня. Дедушка сказывает, у нас во всем
роду считать сроду не умели, вся надежда, мол, на тебя! Ежели, дескать,
арифметику не одолеешь, то нашему роду каюк. Сам, говорит, видишь, что
делается на этом свете, без арифметики теперь жить нельзя, сзади окажешься.
Вишь, куда он клонит! Значит, я должен за весь род ответ держать!
-- Дед правильно говорит. А ты как думаешь?
-- Конечно, жалко мне свой род, -- снисходительным тоном ответил Пашка.
-- Придется бороться с арифметикой, а то, и верно, затолкают нас под низ.
За рекою дорога свернула влево, прорезала степь и глубокой бороздою
завиляла по березовым перелескам. По синеющему небу плыли легкие облака,
облитые лучами заходящего солнца. Навстречу нам лениво летели вереницы
ворон. Вечерело...
У холмов Пашка подъехал к стогу сена, остановился.
-- Дедушка теперь на месте. До заката солнца стукнет. Коза сразу
пойдет, не задержится, чуткая она, далеко хватает.
Мы с Василием Николаевичем помогли Пашке распрячь лошадь, развести
костер. Я поднялся на левую седловину и осмотрелся. За ней лежал старый
лиственничный лес, и дальше -- серебристая степь, прочерченная темными
полосками ельников.
У толстого пня я утоптал снег и замер в ожидании. Василий Николаевич
затаился справа, на соседней седловине.
Тихо догорал холодный февральский день. Солнце, вырвавшись из-под
нависших туч, на какое-то мгновение осветило лежащую позади широкую равнину
и потухло, разлив по небу багряный свет.
Все тише становилось в лесу. Вдруг далеко-далеко, где-то в глубине
лога, точно вскрикнул кто-то. «Кажется, гонит», -- мелькнуло в голове. Я
смотрю вниз, прислушиваюсь. Слабой волной дохнул ветерок, освежая лицо.
Сердце стучит напряженно, но тишина по-прежнему нерушима. Ничего не видно.
Меркнет у горизонта заря. Темнеет лог, и где-то на холме стукнул
последний раз дятел. Вдруг словно в пустую бочку кто-то ухнул -- заревел
козел. Далеко внизу мелькнул табун коз и остановился, как бы выбирая
направление. Гляжу, идут на меня. С какой легкостью они несутся по лесу,
перепрыгивая через кусты, валежник! Но на бегу козы забирают левее и
проходят мимо, к соседней седловине.
Еще не смолк шелест пробежавшего по снегу табуна, вижу, оттуда же, из
глубины лога, невероятно большими прыжками несется одинокий козел. Быстро
мелькает он по лесу, приближаясь ко мне. Мои руки сжимают ружье. Трудно,
почти невозможно убить козла на таком бешеном скаку. Вот он уже рядом. Три
прыжка -- и мы столкнемся. Палец касается спуска, еще одно мгновенье... Но
козел неожиданно замер возле меня.
Выстрел задержался. Козел стоял боком, смело повернув ко мне голову,
показывая всего себя: дескать, посмотри, каков вблизи! Я не мог оторвать
глаз. Какая точность линий, какие изящные ножки, мордочка, какая стройная
фигура! Кажется, ни одной шерстинки на нем нет лишней, и ничего нельзя
добавить, чтобы не испортить красоты. Большие черные глаза светились детской
доверчивостью.
Он осматривал меня спокойно, как знакомца. Потом поднял голову и, не
трогаясь с места, уставился в глубину лога, медленно шевеля настороженными
ушами. Тревога оказалась напрасной. Козел, не обращая на меня внимания,
принялся срывать листья сухой травы... Что это?! Тут только я заметил на его
вытянутой шее голубую ленту. Да, настоящую голубую ленту!
-- У-ю-ю-ю... -- с края лога донесся голос Гурьяныча,
Козел сделал прыжок, второй, мелькнул белым фартучком и исчез, как
видение. А я все еще был под впечатлением этой необычной встречи. Кто
привязал козлу голубую ленту? Чья рука касалась его пышного наряда?
Вдруг справа и ниже седловины щелкнуло два выстрела. Неужели убит?
Может быть, он только ранен и его удастся спасти... Я, не задерживаясь,
зашагал по следу.
Тучи, проводив солнце, сгустились, нахмурились. Все темнее становилось
в тайге. Шел я медленно, с трудом различая след, который привел меня не на
седловину, к Василию Николаевичу, а к глубокому ключу. Стало совсем темно.
На небе ни единой звездочки. И холмы на горизонте точно исчезли. Вскоре я
потерял след. Куда же теперь идти? Пожалуй, лучше ключом, по нему скорее
выйду на седловину.
Скоро ключ раздвоился, затем еще и еще, а седловины все не было. Стало
ясно, что я заблудился. Далеко-далеко послышался выстрел -- это наши
подавали сигналы. Я иду на звук, иду страшно долго. Знаю, что меня ищут, мне
кричат, но я брожу где-то по кочковатой равнине, по-прежнему тороплюсь и в
этой спешке больше запутываюсь. Ко всему прибавилась еще и усталость.
Когда перевалило за полночь, пошел снег. Я уже решил было развести
костер и бросить бесполезные мытарства в темноте, но неожиданно набрел на
дорогу. Куда же идти: вправо или влево? Любое направление должно привести к
жилью, с той только разницей, что с одной стороны должна быть колхозная
заимка, как мне казалось, километрах в шести, а с другой -- прииск, до
которого и сотню километров насчитаешь. Сам не знаю, почему я пошел вправо.
Иду долго, все увалами да кочковатым болотом. Наконец во тьме блеснул
долгожданный огонек. Как я ему обрадовался!
Огонек светил в лесу. Там стояло старенькое зимовье, маленькое, низкое,
вросшее в землю и сильно наклонившееся к косогору. Я с трудом разыскал дверь
и постучал.
-- Заходи, чего стучишь, -- ответил женский голос. -- Нездешний, что
ли?
-- Угадали, -- сказал я, с трудом пролезая в узкую дверь. Свет
керосиновой лампы освещал внутренность избушки. Слева стоял стол, Заваленный
посудой, возле него две сосновые чурки вместо табуреток. У порога лежала
убитая рысь, прикрытая полой суконной однорядки, и несколько беличьих свежих
тушек. На бревенчатой стене висели капканы, ремни, ружья, веники и связки
пушнины. В углу на оленьих шкурах лежала женщина с ребенком.
-- Однако, замерз? Клади в печку дров, грейся! -- сказала она спокойно,
будто мое появление не вызвало в ней любопытства.
Это была эвенка лет тридцати пяти с плоским скуластым и дочерна смуглым
лицом.
-- Вы одна не боитесь в тайге? -- спросил я ее, немного отогревшись.
-- Привычные! Постоянно охотой живем... Какое у тебя дело, что ты ночью
ходишь? -- вдруг спросила она, пронизывая меня взглядом.
-- Я заблудился, увидел огонек, вот и пришел.
-- А-а, это хорошо, мог бы замерзнуть. В кастрюле бери чай... Сахар и
чашка на столе, -- сказала она, отвернувшись к ребенку, но вдруг
приподнялась: -- Еще кто-то идет!
До слуха донесся скрип лыж. Дверь приоткрылась, и снаружи просунулась
заиндевевшая голова Гурьяныча. Старик беспокойно оглядел помещение, широко
улыбнулся и вывалился всей своей мощной фигурой на середину зимовья.
-- Здравствуй, Марфа. Ты чего это мужиков стала приманивать к себе?
-- Сам идет. Окошко сделали нарочно к дороге, огонь ночью не гасим, кто
заблудится, тот скорее зимовье найдет.
-- Вот они и лезут к тебе, как мухи на свет, -- перебил ее Гурьяныч. --
Тешка где? Увижу, непременно заболтаю на тебя.
-- Ушел ловушки закрывать, скоро промысел кончается.
-- Борьки тоже нет? Зря его пускаешь, -- продолжал старик уже серьезно.
-- Он большой, сам как хочет живет. Гурьяныч откинул ногой полу
однорядки, прикрывавшую рысь.
-- Эко здоровенная зверушка! В капкан попалась?
-- Нет, собака на дерево загнала, а я убила. Раздевайся!
-- Спасибо, Марфа, побегу, чай даже пить не стану, -- ответил он и,
повернувшись ко мне, добавил: -- Ну и покружили же вы, во как, дай бог
здоровья, да и все петлями, то взад, то вперед. Еле распутал!
-- А где наши?
-- Пашка в обход пошел к заимке, я -- вашим следом. А Василий
Николаевич на сопке костер держит, кричит да стреляет, знак подает.
-- Сколько беспокойства наделал, -- произнес я вслух, досадуя на себя.
-- Ничего, бывает. Я вот сколько лет живу в зимовье на смолокурке, а
иной раз встанешь ночью, выйти надо, и дверь не найдешь -- блудишь в четырех
стенах за мое почтенье! А тут ведь тайга. Так что спите себе спокойно, утром
раненько Пашка на Кудряшке прибежит за вами.
-- А вы куда?
-- К ребятам, мы ведь договорились сойтись у стога. Побегу!
-- Я пойду с вами.
-- Без лыж, упаси бог, не пройти, снегу навалило во! -- И он ладонью
прочертил возле коленки. -- К тому же я напрямик срежу. Места знакомые.
Скрипнула дверь, и в темной, растревоженной ветром тайге смолкли шаги
Гурьяныча.
Вот они, наши старики сибиряки! Ведь Гурьянычу шестьдесят пять лет. Что
же гонит его в такую непогодь из теплой избы, зачем старик бродит по темному
лесу? Пожалуй, он и сам не ответит.
В зимовье стало жарко. Я прилег на шкуру и крепко уснул. А снег все шел
и шел...
Утром меня разбудил детский плач. Хозяйка уже встала и возилась возле
печки, готовя завтрак. Пахло распаренной сохатиной и луком.
-- Чем это он недоволен? -- спросил я.
-- Петро-то? Должен был Борька прийти, да чего-то задержался, вот он и
ревет. Да и я беспокоюсь тоже, чего доброго заплачу.
-- У вас сколько же детей?
-- Двое: Петро да Борька.
Снаружи послышался легкий стук. Петро вдруг смолк и, вытирая рукавом
слезы, заулыбался, а Марфа открыла дверь. Вместе со струей холодного воздуха
в зимовье ворвался тот самый козел с голубой лентой. Радостный, веселый, он,
как весенний день, был полон энергии.
-- Пришел, Боренька, хороший мой, -- сказала ласково, нараспев, Марфа,
приседая.
Тот бросился к ней, лизал лицо, руки, а Петька гоготал от радости,
обнимал, виснул на Борьке.
Я встаю, невольно взволнованный этой трогательной картиной. Меня
поражает не красота молодого козла, а настоящая любовь, которой связаны эти
три существа, живущие в ветхом зимовье, на краю старого бора. Мне делается
страшно при одной мысли, что я мог убить Борьку.
Ласкаясь, Борька косит свои черные глаза на стол. Марфа ревниво
отворачивает его голову, но козел вырывается. В дальний угол кувырком летит
Петька и, стиснув от боли пухлые губы, молчит, а слезы вот-вот брызнут из
глаз.
-- Любит дьяволенка, не плачет, а ведь ушибся, -- говорит Марфа,
поднимая сына.
На столе Борьку ожидает завтрак -- хлебные крошки. Он поднимает голову
и, ловко работая языком, собирает их в рот. А Марфа что-то ворожит в углу,
нагнувшись над деревянной чашкой. Борька слышит, как там булькает вода, это
его раздражает, он начинает торопиться и нервно стучит крошечными копытцами
о пол. Петька подбегает к матери, явно намереваясь преградить Борьке путь к
чашке. Мальчишка разбрасывает ручонки, упирается ножонками в пол, надувая
покрасневшие щеки. Но Борька смело налетает на него, отталкивает грудью и
лезет к чашке, а Петька доволен, хохочет, заражая смехом и меня.
Припав к чашке, Борька с жадностью пьет соленую воду, фыркает, обдавая
брызгами мальчишку.
-- Иссе... Иссе... -- кричит тот, захлебываясь от смеха.
С Петькой Борька расправляется, как с надоедливым братишкой. Да и есть
за что. Мать то и дело кричит сыну: «Петька, не приставай, не висни!» Но
какой мальчишка утерпит не дотронуться до такой замечательной живой игрушки?
После завтрака Борька становится вялым, им начинает овладевать какое-то
безразличие.
-- Хватит смеяться! -- повелительно кричит Марфа. Она ловит сына,
одевает в меховую дошку и выталкивает за дверь.
-- Иначе не даст уснуть Борьке, -- говорит она, подбрасывая в печку
дров.
А козел крутится посреди зимовья. Он ищет место для отдыха, бьет по
полу копытцами, отгребает ногами воображаемый снег и падает. Ему кажется,
что он лег в лунку, сделанную им на земле.
Мы вышли из зимовья. Неведомо куда исчезли тучи. Над заснеженной тайгою
появилось солнце, и тотчас словно брызнул кто-то алмазным блеском на вершины
сосен.
-- Он прибежал к нам прошлой весною, -- рассказывала Марфа спокойным
голосом. -- Слышу, кто-то кричит, совсем как ребенок. Потом увидела, бежит
ко мне козленок, маленький, только что родившийся, мать зовет. Проклятые
волки тут на увале ее разорвали. Поймала я козленка и оставила у себя. Так
он и прижился. А вот теперь, если не придет утром из тайги, сердце болит,
нехорошие мысли в голову лезут. Борька ласковый, мимо человека не пройдет, а
не понимает, что опасность, -- могут по ошибке, а то и со зла убить... Люди
разные, иной хуже зверя, так и норовит нашкодить.
-- А вы не пускайте его из зимовья, -- посоветовал я, вспомнив свою
встречу с ним.
-- Что ты! Без тайги зверю неволя. Нельзя не пускать. Вечерами Борька
уходит в лес и там живет с дикими козами, кормится, играет, а утром
обязательно прибежит. Хороший он у нас, даром что зверь. Смотри сюда.
Видишь, дыра в обшивке двери, это он копытом пробил, когда стучался. Утром
постоянно ждешь этот стук, Петька ревет, и сама думаю: придет ли?
-- Надо бы ему пошире ленту на шею привязать, чтобы дальше было видно.
-- Скручивается она на нем в лесу. Понимаю, что нужно...
-- Тпру... -- вдруг послышался голос Пашки. -- Здравствуйте, тетя
Марфа.
-- Ты что так рано, мы еще не завтракали, -- сказала она.
-- За дядей приехал, -- ответил он, подходя к Петьке. -- Здорово,
мужик! Где твой Борька? Убежал?
-- Тише, спит... -- прошептал мальчишка, пригрозив пальчиком.
Я поблагодарил хозяйку за гостеприимство, распрощался с толстопузым
Петькой, и мы уехали.
Кудряшка лениво шагала по занесенной снегом дороге. Точно зачарованная,
стояла старая тайга, принарядившаяся, посвежевшая.
-- Василий Николаевич здоровенного козла сшиб, еле стащили с седловины.
А вы, значит, того? Дедушка промажет, начинает хитрить, дескать, мелкая
дробь попалась или веточка не дала выцелить... -- говорил Пашка, явно
вызывая меня на разговор.
Но я все не мог оторваться мыслями от лесной избушки. Так и
запечатлелся козел, ласкающийся к Марфе, с повисшим на нем Петькой...
Снова потянулись скучные дни ожиданий. Уже взбунтовались реки, прошел
ледоход. Забурела тайга. Молодые березки, тальнички, осинник стоят еще
голые, но почки уже набухли, и какой-то нежный, едва уловимый, розоватый
налет, -- след пробудившейся жизни, -- растекается по веткам. Чувствуется,
что вот-вот, как только по-настоящему пригреет солнце, все доверчиво
раскроется, зазеленеет, расцветет яркими красками, и могучая тайга зашумит
по-весеннему. И тогда в лесу все станет понятным, доступным, прекрасным.
Только птицы не ждут, торопятся. День и ночь в воздухе шелест упругих
крыльев и радостный крик возвращения. Он выворачивает всю мою душу. Ах, если
бы они взяли меня с собою на север!
Обстоятельства складываются так, что мы должны будем отправиться вверх
по реке Зее и обследовать Становой к западу от Ивакского перевала. Эти горы
не посещались людьми, никто не знает, что встретит там путешественник. В
прошлом году, когда искали перевал, мы с Улукитканом видели их издали с
вершины, и теперь они представляются мне в виде беспорядочного нагромождения
хребтов, изъеденных ущельями, покрытых курумами, с глубокими цирками,
врезанными в каменные корпуса. Мы, вероятно, попадем туда раньше других. Нам
придется сказать первое слово об этих горах и там пережить то, что
невозможно даже заранее представить.
Мысленно мы давно уже бродим по Становому, и порой, точно в яви, заноют
на плечах старые натертости от лямок тяжелой котомки или вдруг послышится
грохот камней под ногами удирающего стада снежных баранов. Невольно
вздрогнешь и с болью поймешь, что ты еще далеко от гор, от заманчивых мест.
Двадцать шестого мая мы получили телеграмму из Аянской бухты, что
Трофим поправляется и дней через десять будет выписан из больницы. Я оформил
приказ о предоставлении ему двухмесячного отпуска, и мы стали собираться в
путь. Как-то вдруг полегчало на душе. Трофим уедет к Нине, отдохнет, и оба
вернутся к нам. Я рад за них, они достойны счастья.
...Машину загрузили с вечера. Вылет назначен на восемь часов утра.
Закончив с делами в штабе, я еще засветло пришел домой и только разделся,
как послышался стук в дверь.
-- Заходите!
Дверь тихо скрипнула, и в образовавшуюся щель просунулась нога, обутая
в унт. Затем показались два косача, заткнутые за пояс головами. Я сразу
догадался, кто это пожаловал.
-- Проходи, что остановился?!
-- За гвоздь, однако, зацепился, -- слышится за стеной ломкий
мальчишеский голос, но сам Пашка не показывается, трясет косачами, явно
дразнит. Я хотел было втащить его, но парень опередил меня, уже стоял на
пороге в позе гордого охотника: дескать, взгляни, каков я и на что способен!
-- Где же это тебя угораздило, да еще двух? -- говорю я, с напускной
завистью рассматривая птиц и заранее зная, что этого-то от меня и добивается
парнишка.
Стараясь держать косачей впереди, Пашка боком высунулся на середину
комнаты, стащил с головы ушанку и вытер ею грязный пот на лице.
-- Там же, по Ясненскому, где коз гоняли. Поедете? Страсть как играют.
Иной такие фигуры выписывать начнет, -- и, склонив набок голову, растопырив
полудугою руки, он задергал плечами, пытаясь изобразить разыгравшегося на
току косача. -- В которых местах много слетится, как зачуфыкают да
замурлыкают, аж дух забирает. Другие обзарятся -- по-кошачьему кричат... Эх,
и хорошо сейчас в тайге!
-- Не соблазняй, не поеду. Завтра улетаем и до осени не увидимся.
-- Значит, не поедете...
И парнишка вдруг охладел. На лице потухло оживление. Неловко переступая
с ноги на ногу, Пашка выдернул из-за пояса косачей и равнодушно бросил к
порогу.
-- Еще и не здоровался, а уж обиделся. Раздевайся, -- предложил я ему.
-- Значит, зря я вам скрадки налаживал на токах, -- буркнул он,
отворачивая голову. -- Думал, поедете, заночевали бы у костра, похлебку
сварили из косача -- ну и вкусная же!
В кухне зашумел самовар, и хозяйка загремела посудой.
-- Пить охота, -- сказал Пашка. -- Я нынче со своей кружкой пришел. У
вас чашечки маленькие, из них не напьешься.
Он достал из кармана эмалированную кружку и уселся за стол.
-- Я хочу что-то у вас спросить, только дедушке не сказывайте,
рассердится, а мне обижать его неохота. Можно мне в экспедицию поступить
работать? -- И, не дожидаясь ответа, заторопился: -- Я в тайге не хуже
большого, любую птицу поймаю. А рыбу на обманку -- за мое почтение! Петли на
зайцев умею ставить. В прошлое воскресенье водил в тайгу городских ребят.
Смешно, -- они, как телята, след глухариный с беличьим путают, ель от пихты
отличить не могут. Я даже дедушку на днях пикулькой подманул вместо рябчика.
Ох, уж он обиделся! Говорит, ежели ты, Пашка, кому-нибудь об этом
расскажешь, портки спущу и по-праздничному высеку!
-- Ну, это уж привираешь... Как это ты мог дедушку-таежника обмануть?
-- перебил я его, раззадоривая.
-- Вам расскажу, только чтоб дедушка не узнал, -- предупредил он
серьезно, пододвигая ко мне табуретку и опасливо покосившись на дверь. --
Вчера прибежал ночевать в зимовье к дедушке, да запоздал. Ушел он в лес
косачей караулить. Ну и я туда же, его следом. Места ведь знакомые. Подхожу
к перелеску, где ток косачиный, и думаю: дай-ка пошучу над дедом. Подкрался
незаметно к валежине, достал пикульку и пропел рябчиком, а сам выглядываю.
Ухо у дедушки острое -- далеко берет. Вижу: он выползает из шалаша, шомполку
в мою сторону налаживает, торопится, в рот пикульку засовывает. И поет:
«Тии-и-ти-тии». Я ему в ответ потихоньку: «тии-и-ти-тии». Он припал к снегу,
ползком подкрадывается ко мне, а сам ружье-то, ружье толкает вперед, глаза
варежкой протирает, смотрит вверх. Это он на ветках рябчика ищет. Ему и
невдомек, что Пашка свистит. Я опять: «Тии-ти-тии». Метров на тридцать
подполз он ко мне и вдруг ружье приподнял да как бухнет по сучку. Я и
рассмеялся. Вот уж он осердился, с лица сменился, думал, подерет. Для этого,
говорит, я тебя, негодник, учил пикать, чтобы ты деда обманывал? И пошел, и
пошел... Возьмите с собою! -- вдруг взмолился Пашка, меняя тон.
-- Хорошо, что ты любишь природу, но чтобы стать путешественником,
нужно учиться и учиться. А у тебя вон с арифметикой нелады...
У Пашки сразу на лбу выступил пот. Парень повернулся на стуле и
торопливо допил чай.
-- Что же ты молчишь? Или неправда?
-- Вчера с дедушкой вместе решали задачу насчет автомашин с хлебом. Он
говорит: я умом тут не соображу, мне нужно натурально, а пальцев-то на руках
не хватает для счета -- машин много. Он спички разложил и гоняет их по столу
взад-вперед. Вспотел даже, разгорячился. Бабушка и говорит ему: «Ты бы,
Гурьяныч, огурешного рассольцу хлебнул, может, легче будет, к автомашинам ты
же не привышный». Даже богу стала молиться, чтобы задача у нас с дедушкой
сошлась.
-- Ну и что же, решил он?
-- Нет, умаялся да так за столом и уснул. А бабушка поутру баню
затопила, говорит, еще чего доброго от твоих задач дед захворает. Всю ночь
бредил машинами.
-- Это уж ты выдумываешь.
-- Не верите? -- и Пашка засмеялся.
-- А сам-то ты решил?
-- Решил. Только неверно... Вы когда полетите? -- вдруг спросил он,
явно отвлекая меня от нежелательного разговора.
-- Завтра утром.
-- Я приду провожать. Охота взглянуть на самолет, а без вас не пустят.
В комнату вошел Плоткин, и наш разговор оборвался. Пашка засуетился,
стал собираться и исчез, забыв косачей.
-- Вот вам настоящий болельщик, -- сказал Рафаил Маркович. -- Нет дня,
чтобы он не забежал в штаб или к радистам узнать, есть ли какие новости.
Когда искали Королева, он часами просиживал у порога. Вы его не пускайте к
себе, ведь он совсем забросит школу.
-- Можно? -- вдруг послышался голос Пашки. -- Чуть не забыл!
Он схватил со стола свою кружку, за ним захлопнулась наружная дверь.
Мы рассмеялись: хитрец, ведь он подслушивал, что будем говорить про
него!
Пашка, пользуясь нашим покровительством, с утра уже был у самолета и с
любопытством осматривал его -- ощупывал руками, заглядывал внутрь,
удивлялся. Он, кажется, завидовал не только отлетающим, но даже тюкам и
ящикам, которые грузили в машину.
Я привел его в кабину управления самолета и представил командиру
корабля.
-- Михаил Булыгин, -- отрекомендовался тот, пожимая парнишке руку.
Пашкины глаза не знали, на чем остановиться: столько тут было
разноцветных рычажков, кнопок, приборов. Даже карта висела в большой
планшетке.
-- Садись на мое место, и мы сейчас с тобой полетим, -- шутливо
предложил пилот. Пашка недоверчиво покосился на него и осторожно подвинулся
вперед. На сиденье взбирался боязливо, будто на мыльный пузырь, готовый
лопнуть при малейшем прикосновении.
-- Ставь ноги на педали и бери в руки штурвал. Да смелее, не бойся, --
подбадривал его Михаил Андреевич.
Пашка прилип руками к штурвальной колонке. Вот посмотрел бы в этот
момент дедушка на своего внучка -- какой восторг пережил бы Гурьяныч!
-- Бери штурвал на себя... Так. Мы поднимаемся... А чтобы повернуть
самолет вправо или влево, нужно нажать ногою соответствующую педаль. Понял?
Парнишка утвердительно качнул головой, нажал педали, видимо живо
представляя, что послушная машина несется в воздухе и все ребята следят с
земли за ним, за Пашкой, который так ловко управляет самолетом.
Я спустился к провожающим. Вылет задерживался из-за каких-то
«неполадок» в атмосфере.
Только в одиннадцать часов мы поднялись в воздух. Летели высоко. Под
нами облака, словно волны разбушевавшегося моря, перегоняли друг друга,
мешались и, вздымаясь, надолго окутывали нас серой мглой. От напора
встречного ветра машину покачивало, и казалось, летит она не вперед, а
плывет вместе с облаками назад. Вдали, точно упавшая на облака глыба белого
мрамора, виднелся величественный Становой, облитый солнцем. К нему
устремляется наша машина. А под нами, в образовавшихся просветах, показалась
долина Зеи, багровая от весенних ветров и тепла. Еще через несколько минут
облака поредели, и я узнал устье Джегормы, куда в прошлом году привел меня
ослепший Улукиткан.
Ниже Джегормы, в двух километрах от слияния ее с Зеей, широкая коса --
посадочная площадка. Никого на ней нет. Летчик разворачивает машину, заходит
сверху, «падает» на галечную дорожку.
Пустынно и одиноко на берегу. Мы разгружаем машину.
-- Ты как сюда попал? -- вдруг послышался строгий голос Василия
Николаевича.
-- Дядя, не кричи, я тебе дедушкину пикульку для рябчиков подарю, --
ответил вкрадчиво детский голос, и из-под тюков показалась голова Пашки. --
Я не успел слезть, -- оправдывался он, стряхивая с ватника пыль и хитровато
всматриваясь в лицо Василия Николаевича.
-- Врешь, а как попал под тюки?
-- С испуга, хоть провалиться мне, с испуга. Как загудели моторы, я
хотел в дверь выскочить, а меня занесло вишь куда...
Василий Николаевич ощупал у него сумку и покачал головой.
-- Знал, что испугаешься, хлеба захватил?
Мальчишка заглядывал в лицо Василию Николаевичу, как бы пытаясь
разгадать, насколько серьезен разговор. А тот вывалил на тюк содержимое
сумки. Чего только в ней не было! Сухари, дробь, пистоны, селедка, столовый
нож, пикульки, крючки, обманки, пробки, -- словом, все, что Пашка успел
нажить за двенадцать лет жизни.
-- Ты, дядя, не сердись, -- сказал Пашка, уже разгадав покладистость
Василия Николаевича. -- Ведь никто даже не подумает, что Пашка Копейкин на
самолете улетел. Чудно получилось!
-- Слезай-ка! Кто разрешил тебе лететь? -- спросил я, стараясь придать
своему голосу строгий гон.
-- Вы же сами меня посадили! -- ощетинился Пашка.
-- Но я тебе не разрешал лететь. Ты что? Не хочешь учиться? Пашка
молчал.
-- Известное дело, не желает! -- рассердился вдруг Василий Николаевич.
-- Я вот сейчас спущу с тебя штаны да такую таблицу умножения разрисую,
надолго запомнишь. Ишь, чего вздумал -- кататься! -- Мищенко не выдержал и
рассмеялся.
А Пашка не сдавался.
-- Мне, дядя, только бы на оленей взглянуть. Я сбегаю за лес?
-- Ты никуда не пойдешь и не скроешься. Через пять минут улетишь
обратно.
Пашка обиделся, отвернулся от меня и стал рыться в своей сумке.
-- Ладно, не останусь... А вы напишите бумажку, что я летал на
самолете, без нее ребята не поверят, -- сказал он, а в озорных глазах
торжество: проделка удалась.
II. В СТРАНЕ БЕЗМОЛВИЯ
I. Встреча с проводниками. Яйца с рыбой хорошо! Баюткан, сын дикого
сокжоя. На долбленке по шиверам. Снегопад у астрономов.
Наши проводники Улукиткан и Николай Лиханов уже прибыли на Зею с озера
Лилимун. Они поселились на устье Джегормы. Там среди безмолвия тайги старики
чувствуют себя прекрасно. Им не надоедает одиночество, не томит скука. Но мы
знаем, они с нетерпением ждут нас, чтобы отправиться в далекий путь. Всех
нас манят дали.
Как только самолет с Пашкой скрылся из глаз, я отправился к Улукиткану,
на устье Джегормы, тут недалеко. Бойка и Кучум уже несутся туда, минуют
скальный прижим, скрываются в зарослях, и там вспыхивает дымок обновленного
костра.
Меня догоняет Василий Николаевич. Ему тоже не терпится. Но идем не
торопясь. Как далеко мы вдруг оказались от жилых мест, и как волнующе дорог
нам этот пейзаж, напоенный весною! Не могу надышаться воздухом. Чувствую,
как он будоражит всю кровь и каждый глоток его прибавляет здоровья. Глаз не
оторвать, не наглядеться на зеленые кружева гибких тальников, на лес,
обрызганный белым черемуховым цветом, на далекие холмы, прикрытые плотным
руном бескрайней тайги. Все живое ликует, дразнится, пищит, прославляя
весну. И над всей этой обновленной землею стынет голубовато-свинцовое небо.
Мы только миновали прижим, как из леса вышло стадо оленей. Животные
спустились по каменистой осыпи к реке, стали пить воду. Следом за стадом
выбежала молоденькая самочка. Увидев нас, она внезапно остановилась. Что-то
знакомое во всей ее изящной фигурке, в манере ставить размашисто ноги, в
черных озорных глазах. Не могу вспомнить, напрягаю память.
-- Майка! -- вырывается у Василия Николаевича. Теперь узнаю и я...
-- Майка, Майка! -- кричу обрадованно. Шагаю к ней, ищу в кармане
лакомство, хочу напомнить ей о себе.
Она, при слове «Майка», настораживается и неожиданно бежит к стаду.
Обидно, не узнала. А мы-то все помним. Родилась она прошлой весною в походе
на речке Кунь-Манье и первое свое путешествие совершила на нарте со
связанными ногами, завернутая в старенькую дошку Улукиткана. Она стала нашей
любимицей, но всегда недоверчиво относилась даже к ласкающим ее человеческим
рукам. В ней больше, чем в других оленях, передался гордый дух предка --
дикого сокжоя.
Улукиткан убежден, что новорожденный теленок приносит эвенку счастье. В
прошлом году он не расставался с Майкой, окружал ее трогательной заботой.
Даже когда врачи вернули старику, ослепшему в походе, зрение, он был
убежден, что это сделала Майка. Улукиткан и в этом году взял ее с собою,
надеясь, что она оградит его от бед.
Навстречу бегут собаки. За ними показываются старики. Я обнимаю
Улукиткана. Как дорог мне этот маленький, похожий на усохший пень, человек с
заиндевевшими от седины волосами на голове, с проницательными глазами,
одетый в старенькую дошку. Он прижимается ко мне, я слышу, как часто бьется
его сердце.
-- Я думаю, напрасно мы тут живем, пошто так долго не приезжали! --
говорит он с болью.
-- Задержались, Трофим тяжело болел. Теперь все уладилось, он
выздоравливает.
Я обнимаю Николая. На его плоском лице радость.
-- Куда след поведем? -- не терпится Улукиткану. Его явно беспокоит
этот вопрос.
-- К Становому, и от Ивакского перевала повернем на запад по хребту.
-- Э-э, -- удивляется старик, -- опять худой место выбрал. Туда люди
еще не ходи.
-- Поэтому мы туда и идем.
-- Какое дело у тебя там?
-- Надо посмотреть, что это за горы, какие вершины, можно ли пройти
туда с грузом на оленях и с какой стороны, где лучше организовать лабазы.
После нас туда пойдет много отрядов, наша задача сделать легче им путь.
-- Тогда пойдем. Ты только не забывай, что сказал старик: место там
худой, тропы нет, кругом пропасть.
Через два часа мы поставили свои пологи рядом с палаткой проводников,
разожгли костер, сварили обед... И с необыкновенной ясностью почувствовали,
что переступили границу, за которой нас ждет неизвестность.
Кажется, ничто не омрачает этот первый день нашего путешествия: небо
чистое, воздух прозрачный, дали доступны взгляду.
Когда мы заканчивали обед, собаки лежали на песчаном бугорке, рядом с
палаткой: Кучум, сытый, довольный, растянувшись во всю длину, грелся на
солнце, а Бойка заботливо искала в его лохматой шубе блох. Но вдруг обе
вскочили.
-- Кого они там увидели? -- Василий Николаевич отставил кружку с
недопитым чаем, встал.
Поднялся и я. Бойка и Кучум, насторожив уши, готовы были броситься вниз
по реке. Наконец оттуда долетел легкий всплеск волны и затяжной скрип.
-- Кто-то плывет, -- сказал Лиханов, и мы все четверо вышли к реке.
Из-за мыса показалась долбленка. Она свернула в нашу сторону и медленно
поползла вдоль каменистого бережка навстречу течению. Впереди, к нам спиной,
сидела женщина, натужно работая веслами. Вода под лодкой в лучах солнца
кипела плавленым серебром, и от каждого удара рассыпались далеко вокруг
каскады брызг. Кормовым веслом правил крупный мужчина.
-- Что за люди, куда они плывут? -- спросил я Лиханова.
-- Делать тут человеку нечего, зачем они идут -- не знаю.
Лодка, с трудом преодолевая течение, приближалась к нам. Теперь можно
было и по одежде и по плоскому лицу мужчины угадать в незнакомцах эвенков.
-- Это Гаврюшка Бомнакский, -- пояснил Лиханов, -- где-то у ваших
проводником работает.
Лодка развернулась и с ходу врезалась в берег, вспахав размочаленным
днищем гальку.
-- Здорово, Николай, смотри-ка, опять сошлись наши тропы с тобой, --
сказал кормовщик, растягивая зубастый рот.
-- Здорово, здорово, Гаврюшка, -- ответил Лиханов. -- Чего тут зря воду
мутишь?
-- Смотри хорошо, воду мутит жена, да что-то плохо, видно, весла малы,
надо бы уже на месте быть, а мы только до Джегормы дотянулись.
Мужчина с полным равнодушием извлек кисет и стал закуривать.
-- Вы что не сходите на берег, разве ночевать не будете? -- спросил
Василий Николаевич.
-- Нет, дальше пойдем. Надо добраться до места.
-- Далеко ли?
-- Однако, двадцать, а то и больше кривунок будет -- далеко...
-- Тогда чайку попейте, дня еще много, успеете.
-- Спасибо, близко за мысом, такое дело было... Мы у инженера работаем,
звезды смотрим. Он на оленях вперед ушел, а мы на лодке тащимся.
-- У астронома Новопольцева работаете? -- спросил я.
-- Во-от, Новопольцева. Ты знаешь? Ему помощница девка Нина.
-- Да, да, Нина.
Между ним и Лихановым завязался разговор на родном языке. И пока они
выпытывали друг у друга новости, я рассматривал гостей.
Женщина была маленькая, щупленькая и чуть-чуть сгорбленная. Она
повернулась к нам, но на ее обветренном до блеска лице не выразилось
сколько-нибудь заметного любопытства. Мы молча рассматривали друг друга.
Она, казалось, ни о чем не думала. В ее косо сжатых губах, уроненных на
колени руках, загрубевших от воды и весел, даже в складках поношенной одежды
чувствовалась чрезмерная усталость, маленькие черные глаза, выглядывающие
из-за густых ресниц, переполнены покорностью.
Женщина, не отрывая взгляда от нас, достала из-за пазухи трубку с
прямым длинным чубуком. Муж бросил ей кисет с махоркой. Не торопясь, все с
тем же спокойствием, она закурила. Затем, откинувшись спиной на груз, долго
смотрела в голубеющее небо. Ласковые лучи солнца скользили по ее плоскому
лицу, ветерок бесшумно шевелил черные волосы. В руке сиротливо дымилась
трубка. Зея, шутя, качала долбленку.
Мужчина сошел на берег и подал всем нам поочередно свою костлявую руку.
Это был на редкость среди эвенков высокий человек, с узкими скошенными
плечами. С шершавых щек сбегала жиденькая бороденка, примятая у подбородка.
Нос казался вдавленным в прямое, сильно скуластое лицо. Говорил он медленно,
с трудом выжимая слова. Они уселись с Лихановым на гальке и, как уж принято
при встрече, подложили в трубки свежего табаку. Николай стал рассказывать
первым. Гаврюшка слушал с полным равнодушием, изредка вставляя в
повествование Николая отдельные слова. Затем наступил его черед. Он
оживился, энергично жестикулировал руками, часто обращался за подтверждением
к жене, и та покорно кивала головою. Долго дымились трубки. Речная волна
лениво перебирала береговую гальку.
Солнце пошло на убыль. Стало прохладнее. С востока давила
распластавшаяся над лагерем туча. Гости забеспокоились.
-- Однако, торопиться надо, как бы дождь не упал.
Мы оттолкнули лодку. Женщина на прощанье молча кивнула нам головой, а
на лице так и осталась печаль. Она взяла весла и теперь казалась еще более
маленькой, еще более покорной.
От первого удара веслами долбленка вздрогнула, закачалась и, зарываясь
носом в быстрину, поползла вверх, вдоль берега. Дико было видеть на гребях
эту щупленькую безропотную женщину рядом со здоровым мужиком, сидящим в
корме почти без дела.
Василий Николаевич не выдержал:
-- Гаврюшка! -- крикнул он вдогонку. Как здорово липло к нему это имя!
Тот обернулся, и женщина перестала грести.
-- Чего же ты жену за весла посадил, а сам, такой здоровенный, сел в
корму?
-- Ей-то что, греби да греби, а мне думать надо, как жить, -- донеслось
из лодки.
С неба обрушились тяжелые раскаты грома и, дробясь, покатились к
горизонту. Долбленка уходила медленно. Мы стояли и смотрели, как под ней
мешалась, словно серебро, взбитая тяжелыми веслами вода,
Стоянку накрыл мелкий липкий дождь. Птицы, хотя и успели попрятаться в
своих незатейливых убежищах, не умолкали, продолжали весеннюю перекличку.
Значит, дождь ненадолго.
Действительно, побарабанил он по палатке, взбаламутил ручьи и, убегая
на запад, утащил за собой послушные тучи. На небе появились голубые
проталины. Все снова ожило, и день продолжался в песнях, суете, в любовных
играх таежных обитателей.
Скоро вечер. Мне не сидится в палатке. После дождя должна быть хорошая
видимость, ну как удержаться, не взойти на сопку и не взглянуть на
окружающую нас местность.
В лесу сыро. С веток гулко падают на землю тяжелые капли влаги. Под
ногами крутой подъем по мокрому ягелю, плешинами прикрывшему каменистый
склон сопки. А позади солнце уже коснулось нижним краем своей колыбели.
Вот и вершина. Я усаживаюсь поудобнее на камень и достаю бинокль.
Смотрю в сторону Станового, спрятанного за взлохмаченными грядами ближних
гольцов. Взору открылась широкой панорамой тайга. Куда ни посмотришь -- все
лес и лес. По нему разметались косы топких болот да мелкие россыпи холодных
озер. Из вечерней мути, через обожженные закатом мари, бугры, перелески,
ползет Джегорма, тайком подкрадываясь к Зее. И там, где она, выгибаясь в
последнем усилии, вырывается из объятий тайги, чтобы слиться с Зеей, дымится
лагерный костер -- единственное пристанище человека на всем видимом с сопки
пространстве.
Я поворачиваюсь к убежавшему солнцу. Гаснет закат. Лиловым сумраком
наполняются провалы. По дну широкой долины полноводьем беснуется Зея, ревет,
точит нависшие карнизы левобережных скал. В схватке с гранитом волны
дыбятся, хлещут друг друга и, отступая, уносятся гигантскими прыжками в
невидимую даль.
А за рекой, от каменного русла до далеких гор, распласталась ширь
лиственничной тайги, прошитая жилами студеных ручейков.
Неожиданный шорох привлек мое внимание. Неслышно поворачиваю голову.
Метрах в десяти вижу серый комочек. Он вдруг вытянулся, стал свечой. Это
заяц. Как же не обрадоваться! Значит, здесь я не один. Видимо, и он вышел
сюда, на вершину сопки, полюбоваться закатом. Зверек косит глазами на узкую
полоску дотлевающего горизонта и не торопясь прядет длинными ушками. «Тоже
что-то соображает!» -- подумал я и тихонько свистнул. Два прыжка, и заяц
возле меня. Сижу, не шевелюсь. Смотрю на него в упор. Чувствую, как губы мои
растягиваются в улыбке, давят смех. А косой замер свечой, на морде
недоумение: что, дескать, это такое -- пень или опасность? И сам носом тянет
воздух, шевелит жиденькими усами, присматривается, видимо, вспоминает, было
ли тут раньше такое чудо?
Вдруг прыжок, и заяц затаился между камней, прижав плотно к спинке свои
длинные уши. Я еще не разгадал, что с ним случилось, как снизу взвился
ястреб, пронизав посвистом настывший воздух. Замирая над нами, хищник
быстро-быстро трепыхал острыми крыльями. «И он перед сном сюда заглянул», --
подумалось мне.
Одно мгновение -- и ястреб, заметив меня, исчез во мраке, оставив
позади себя лишь шум упругих крыльев.
Уши у зайца зашевелились, приподнялись и в напряжении как-то смешно
растопырились. Осторожно приподнявшись, он осмотрелся и решил поскорее
убраться в чащу.
Я стою долго... Уже ночь. Далеко в потемневшей тайге бубнит филин. Со
скал к реке ползет туман, расстилаясь низко над водою. На пушистых
лишайниках лежит еще нежно-розовая пелена исчезнувшей зари, а уж тьма
затянула вершины.
Пора возвращаться в лагерь.
В этот вечер мы договорились идти дальше двумя группами. Я с Василием
Николаевичем отправлюсь на лодке вверх по Зее. Мы по пути посетим
астрономов, проверим их работу и узнаем, каким маршрутом они пойдут дальше.
Улукиткан же с Николаем и Геннадием захватят весь груз, уйдут кружным путем
вверх и дождутся нас на Зее.
Все следующее утро мы с Геннадием просидели у радиостанции. Мне надо
было связаться с полевыми подразделениями, разбросанными по этому безлюдному
краю, ответить на запросы и предупредить, что дней семь я не буду на связи.
Выбираюсь из палатки. Солнце высоко. Проводников все еще нет с оленями.
Собаки слоняются по берегу, не зная, куда девать себя. Дотлевает забытый
всеми костер, над ним раздается стенание одинокого комара. А из тайги,
разомлевшей от теплых южных ветров, от первых весенних дождей, от солнца,
несет пахучей прелью, слежавшимися мхами, запахом отогретой коры и еще
чем-то дразнящим, обещающим.
Из леса пришел Лиханов. За плечами у него ружье. В поводу связка
оленей. В руках он держит чем-то заполненную шапку, бережно прижимая ее к
животу.
-- Ягод принес?
-- Яйца, -- сказал он, привязывая к лесине оленей.
-- Яйца?.. Откуда ты их взял?
-- В тайге нашел, смотри... Они все свежие.
В шапке действительно лежало шесть яиц, величиною почти с куриные,
светло-пепельные, с мелкими крапинками на утолщенной стороне.
-- Что так смотришь, не узнаешь? Глухариные, -- пояснил Лиханов.
-- Узнаю и удивляюсь. Зачем разорил гнездо, отнеси обратно.
-- Что ты! -- запротестовал он. -- Они еще лучше домашних. Сейчас огонь
поправим, сварим их. Разве ты яйца не ешь?
-- Нехорошо, Николай! Разве ты не понимаешь, что из каждого яйца
вывелся бы глухарь.
-- Это меня Улукиткан научил.
-- Чему научил?
-- Яйца собирать.
-- Вот уж этому не поверю! Улукиткан без надобности веточку в тайге не
сломит, а ты говоришь -- учил гнезда разорять!
Николай хитровато щурил глаза.
-- Старик шибко мастер искать яйца, лучше лисы. А оттого, что он их
собирал, глухарей не меньше родилось.
-- Ты, я вижу, шутками хочешь отделаться. Верни яйца в гнездо.
-- Ты не серчай, Улукиткан говорит: каждая птица хорошо знает, сколько
должно быть в гнезде яиц, чтобы бросить нестись. Но она не умеет их считать.
Если ты понемногу начнешь таскать у нее яйца, не все сразу, а обязательно
оставлять одно-два, то птица не догадается о пропаже. Она будет нестись,
пока в гнезде не станет их столько, сколько нужно. Это правда.
-- Но ведь копалуха не может бесконечно нестись!
-- И то правда, нужно знать, когда брать. А за копалуху ты не горюй: ей
делать нечего, пусть маленько поработает на нас. Курица не умнее ее, а
сколько яиц дает, а?
С реки прибежали собаки. Следом за ними показался Василий Николаевич.
На горбу у него мокрая сеть, в правой руке на кукане бьются липкими хвостами
блестящие рыбины.
Он принес с собою в лагерь живой, дразнящий запах свежих огурцов -- так
пахнут только что пойманные сиги, это их природный запах.
Увидев яйца в шапке Николая, Василий Николаевич обрадовался:
-- Мы как сговорились с тобою, Николай, ты яиц принес, а я рыбы да еще
и зеленого луку для оформления, -- сказал Василий Николаевич и, повернувшись
к палатке, громко крикнул: -- Геннадий, быстро сюда!
Тот высунул стриженую голову в просвет и заулыбался во весь рот.
-- Вот это да-а-а! -- протянул он нараспев.
-- Очисть пару и на сковороду, только накали ее пожарче, чтобы сиги с
корочкой получились, да и зальешь их яйцами. Так, что ли, Николай?
-- Яйца с рыбой -- шибко хорошо! -- ответил тот.
Мы с Василием Николаевичем развесили на солнце сеть. Я стал выбирать из
нее мусор, а он занялся починкой. Сетка-одностенка старенькая, вся в
заплатках, второй год с нами путешествует. Пора бы выбросить, надоело
чинить, да уж больно липнет к ней рыба. Диву даешься -- смотреть не на что,
а в воду опустишь -- словно оживет. В других сетях пусто, а в ней непременно
добыча.
-- Рыба пошла, -- говорит Василий Николаевич, ловко работая челноком.
-- Валом прет, торопится, будто ее кто гонит... А подумаешь -- и у ней своя
забота. Хариусы да всякая мелюзга спешит к вершине ключей, там ей летовать
безопаснее, не каждый хищник туда по мелководью доберется. Какая покрупнее
рыба -- кормистее места хочет захватить. А ленок икру несет, к мелким
перекатам прибивается нереститься. Вот она что весна-то делает! Не зря
говорят, она и мертвого расшевелит.
-- Таймень в Зее есть? -- перебил я его.
-- Как же, есть. Тут его дом: ямы большущие и корму вдоволь. Утром
вышел я на реку, зорю проводить, а он, окаянный, с баловства, что ли, близ
берега вывернулся, здоровенный, что бревно, хвостом как мотанет, всю заводь,
дьявол, взбаламутил. Какая поблизости рыба была, веришь с перепугу поверх
воды дождем сыпанула. То-то, боится тайменя... На спиннинг бы этого жеребца
поддеть, не то запел бы он на быстрине, долго уговаривать пришлось бы...
-- Вода посветлее, попробуем, авось какого-нибудь и обманем.
А в это время Геннадий, красный, вспотевший, дожаривал рыбу. Густым,
сочным паром клубилась сковорода. Запах острой смеси перца, масла, лука и
крепко поджаренного сига расползался по лагерю. Кучум, примостившись рядом с
поваром, посиневшими глазами наблюдал, как на сковороде пузырилась подлива,
в изо рта его тянулась до земли двумя прозрачными нитками слюна.
-- Ты, Геннадий, долго будешь мучить нас? -- кричит Василий Николаевич.
-- Ишь, распустил запахи!
-- Готова, можно завтракать. -- И повар, смахнув рукавом с лица
крупинки пота, поставил дымящуюся сковороду на хвойную подстилку.
Улукиткан привел оленей, и мы сели за «стол».
После завтрака сворачиваем лагерь, распределяем груз. Мы с Василием
Николаевичем стаскиваем свои вещи к лодке. Улукиткан достает из потки
знакомую нам лосевую сумочку с рукавицу, наполненную солью и увешанную по
шву когтями рыси и белохвостого орлана. Он трясет ею в воздухе, и когти,
ударяясь друг о дружку, гремят, как побрякушки. Олени вскакивают, разом
бросаются на звук, окружают старика, тянутся черноглазыми мордами к сумочке.
Но старик продолжает трясти сумочкой, косит глаза на ельник. Вижу, там из
сумрака, из-за толстых стволов, осторожно вышагивает крупный олень с
огромной короной черных рогов на голове. Он выходит из леса, но вдруг
пугливо шарахается обратно в ельник. Однако далеко не убегает, желание
полакомиться солью заставляет его задержаться.
-- Баюткан (*Баюткан -- олень, рожденный от домашней самки и сокжоя) --
совсем дикий, как сокжой, -- не без гордости поясняет Улукиткан.
Он передает мне сумочку, сам вытаскивает из вьюка маут -- тонкий,
метров двенадцать длиною, ремень, употребляемый как аркан для ловли оленей.
Старик по привычке проверяет, насколько надежно прикреплено к концу ремня
металлическое кольцо, накидывает маут на правую руку небольшими кругами, а
по тому, как легко и ровно вьются кольца маута, можно наверняка сказать, что
арканом старик владеет в совершенстве. Глаза его приковывают Баюткана. Тот
все еще стоит в ельнике, но теперь его уже не соблазняет знакомый
дребезжащий звук. Он настороженно, по-звериному, следит за стариком, точно
догадываясь, что должно сейчас произойти.
Улукиткан прячется за толстой лиственницей, держа наготове маут. Мы
обходим Баюткана полукругом с тыльной стороны. Он поворачивает голову в нашу
сторону, прядет ушами. Секунды две стоит, спружинив спину, потом вдруг
бросается в тайгу, будто спугнутый выстрелом зверь. Слышится глухой топот и
хруст веток под тяжелыми прыжками. Баюткан шарахается между стволов, летит
по просветам, но всюду люди. Пугливым взглядом окидывает лесной сумрак,
бросается очертя голову в чащу, но и тут на его пути встает мощная фигура
проводника Николая. Баюткан вдруг поворачивает назад и замирает. Весь
собранный, как перед поединком, он долго косится на лиственницу, за которой
таится Улукиткан. Олени у дымокуров поднимают любопытные морды. Тайга
замирает. Мы бесшумно, не торопясь, сжимаем кольцо.
Баюткан неожиданно рванулся изо всех сил навстречу опасности, мелькнул
рыжей тенью между стволов, понесся с закинутыми назад рогами мимо
Улукиткана, гордый, неустрашимый. Свистнул маут, нагоняя одичавшего оленя, и
едва только ремень лег на шею, как животное, словно увидев перед собою
пропасть, остановилось, глубоко занозив в рыхлую землю все четыре ноги.
Мгновенье -- и не осталось в нем ни дикой гордости, ни страха. Улукиткан,
свивая в кольца маут, подошел к Баюткану, надел узду, привязал к березе.
Старик горд, что у него в связке этот дикий красавец.
...Вести большой аргиш по тайге дело сложное, не каждому эвенку
доступное. Его тайны известны только опытным каюрам. Кроме уменья угадывать
путь, находить броды через большие реки, добывать пищу в пути, проводник
должен уметь вьючить оленей. Это самое главное. От того, как хорошо он знает
своих животных, как подогнаны седла, с какой точностью уравновешены
полувьючки, олени, при одних и тех же условиях, могут работать годы и могут
через месяц пропасть.
Улукиткан всем своим существом сросся с этими животными. Да иначе и не
могло быть. К оленям он привык с раннего детства. Вначале, кочуя по тайге в
люльке, перекинутой через спину учага (*Учаг -- верховой олень), позже --
привязанным ремнями к седлу. В семь лет он уже правил упряжкой. Весь
нелегкий опыт Улукиткана говорил ему, что без оленей эвенку не прожить в
этих скупых, безлюдных дебрях, и он унес с собою в долгую жизнь заботливую
любовь к этим трудолюбивым и покорным животным. С Улукитканом можно кочевать
все лето по тундре, ломать захламленную тайгу, подниматься на высоченные
перевалы, и его олени будут выглядеть к концу путешествия бодрыми, резвыми,
сытыми.
Вот и теперь, прежде чем начать вьючить оленей, проводники внимательно
осматривают животных: ощупывают их спины, тонкие, жилистые ноги, заглядывают
в глаза. Затем связывают друг за другом в строгом порядке: за сильным
привязывают слабого, за слабым -- сильного, и вот все двенадцать оленей в
связке получили свои места -- теперь уже до конца лета.
Вьючить легче вдвоем. Улукиткан берет себе в помощники Василия, а
Николай -- Геннадия. Делим весь груз между проводниками, а те, в свою
очередь, распределяют его между своими оленями, тоже на все время похода. На
это уходит много времени.
Первый день путешествия всегда хлопотлив, и важно, чтобы караван в этот
день, хотя бы к вечеру, тронулся с места, непременно тронулся бы.
Наконец-то вьюки готовы, можно отправляться в путь.
Лиханов делает на дереве затес, под ним укрепляет горизонтально
ерниковую веточку и привязывает на нитку дециметровую палочку, рогульками
вниз. Мы знаем, что первое означает: «ушли далеко, не вернемся», а второе --
«на этой стоянке утерян один олень».
Наутро и мы с Василием Николаевичем покидаем лагерь. Проводить нас
прилетели три ворона. Рассевшись по вершинам деревьев, птицы воровски
осматривают стоянку, что-то нетерпеливо бормочут. До этого я их не видел. По
каким же признакам они узнали, что люди покидают берег Джегормы и тут будет
чем поживиться? Позднее к ним присоединился и осторожный коршун -- солидный
конкурент. Этот, видимо, по поведению воронов догадался, что здесь будет
добыча.
Я залил огонь. Еще раз осмотрел закоулки -- не забыли ли чего. В
лагерной пустоте гудели комары. Пахло черемуховым цветом. В каплях холодной
росы ломались лучи утреннего солнца.
Но вот лодка загружена. Бойка и Кучум уже лежат на корме, нетерпеливо
поглядывая на нас. Василий Николаевич обмакнул в воду шест, протер его
руками и, упираясь широко расставленными ногами в дно лодки, подал мне знак
занимать место в носу.
Дружно перекликнулись первые удары железных наконечников о камни.
Вздрогнула долбленка и, повинуясь кормовщику, скользнула змеей вверх по
течению. Разломилась под ней струя, назад поползли каменистое дно реки и
галечный берег. Позади осталась Джегорма.
День ветреный. По небу заходили тучи. В низовьях вяло постукивает гром.
Медленно ползем вверх по Зее. Справа чередуются серые скалы, и у каждой из
них у изголовья непременно перекат. А слева тайга пестрыми латками прикрыла
всхолмленную низину. От шестов деревенеют руки. Давно бы надо остановиться,
но Василий Николаевич неумолим.
-- Еще маленько, может, за тем перекатом заводь будет, сетку бросить.
Там и приткнемся...
На его обветренное лицо легла усталость. Остыл взгляд. В ударе шеста
уже меньше силы, во взмахе не та четкость. Я готов отказаться от ухи, о
которой мечтал весь день, но на мой умоляющий взгляд Василий Николаевич
отвечает молчанием и, горбя спину, энергичнее наваливается на шест, толкает
лодку вперед.
Между мною и Василием Николаевичем давно, как-то сами по себе, без
сговора, установились такие отношения. Когда мы остаемся вдвоем, в походе
ли, в лагере, или на охоте, я безропотно подчиняюсь ему. Долгие годы
совместной борьбы накрепко связали наши жизни. У меня было много случаев
проверить его отношение к себе. Я привязался к этому удивительно простому,
настежь открытому человеку. Сколько в нем непоказного трудолюбия! Какая
неиссякаемая энергия! Какие умные руки, за что ни возьмутся -- все ладно. Он
лучше меня знает мелочи походной жизни: как сделать весло, нарту, трубку,
ложку, как починить сеть, испечь хлеб, постричься, выбрать место для
ночевки.
В работе он надеется только на себя. Не скрою, возле него мне легко, с
ним спокойно.
-- За этим перекатом переночуем.
Он произносит это уже в который раз! Но руки его не бросают шест, и мы
ползем дальше.
Уже вечереет. Ветерок несет сверху дробный шум большого переката.
Видно, как скачут по камням волны лохматыми беляками. Останавливаемся.
Василий Николаевич бежит вперед, осматривает проход. Что-то не нравится ему:
крутит курчавой головой, чешет затылок. Возвращается молча, то и дело
поворачивается, поглядывает на перекат.
-- На ту сторону держать будем, там должны бы пройти, -- говорит он
уставшим голосом.
Лодка перемахнула реку и как бы в нерешительности замерла, прижавшись к
валуну. Кормовщик, вытягивая по-гусиному шею, прощупывает проход, морщит от
напряжения лоб.
-- Черт... -- бросает он с явной досадой. -- Смочи шест да стань
потверже, а то слизнет. -- А сам сбрасывает с плеча пиджак и почему-то
засучивает повыше штаны.
По правилам шестовики должны всегда стоять лицом к берегу, а лодка --
держаться как можно ближе к нему, лишь бы дно не задевало о камни. Сложнее
на перекате, так как тут на вас давит разъяренный поток, всюду, как воронье,
подкарауливают камни, того и гляди -- накинет! Все зависит от ловкости
кормовщика. Ткнись не туда, не успей упереться шестом, оттолкнуться -- и не
опомнишься, как волна захлестнет и отбросит назад, а то и упрячет.
В разрыве облаков появилось солнце. Ожил, радужно засверкал перекат.
Ветер -- шальной, срезает лохматые гривы волн, бросает в лицо холодные
брызги. Над рекой висит угрожающий рев потока.
Лодка выскользнула из-за камня и, высоко подняв нос, смело полезла на
вал. Застучали, разбиваясь о борта, упругие волны. Долбленка тряслась, как в
лихорадке, и гулко стонала. Но кормовщик властными ударами шеста гнал ее
дальше в проход, в бурлящую пену потока.
У камней густой чернотой кипела вода. Свинцом наливались прилипшие к
шестам руки, до хруста горбились спины.
Вот и край переката. Рев отступает. Показывается черная полоса широкой
заводи.
Лицо Василия Николаевича размякает. Он делает последний взмах, но шест
крепко застревает между камнями. Один-другой рывок -- долбленка качнулась,
зачерпнула воды, а я, не удержавшись, на ногах, вывалился в воду.
В одно мгновение лодку развернуло, бросило назад, в горло бушующего
переката. Василию Николаевичу удалось поймать мой шест. Невероятным усилием
он толкнул долбленку к противоположному берегу и ускользнул от камня. Быстро
перебросил шест с правого борта на левый, удар -- и лодка, подняв к небу
нос, замерла в предельном напряжении. Еще удар, другой -- и она послушно
поползла на пенистый горб переката. Но вдруг заколебалась, как бы не в силах
превозмочь крутизну, и медленно стала отступать. А за кормой огромный камень
уже выпятил черную острую грудь. Настала страшная минута -- кто кого?!
Бойка и Кучум, почуяв опасность, спрыгнули в воду и исчезли в бурлящем
потоке переката. Я готов был бежать под перекат ловить вещи. Но Василий
Николаевич заупрямился. Кровью налились глаза, шея напряглась, на скрюченной
спине лопнула рубашка. Я видел, как дугой выгнулся шест и лодка
остановилась, словно уперлась в скалу. Еще полметра -- и от нее остались бы
щепки!
А справа и слева на долбленку налегали волны. Упругий ветер рвал их
косматые гривы, захлестывал нас. Но человек, приникший к шесту, казалось, не
замечал опасности. Сильным рывком он бросил лодку на верх гребня.
Спохватился разъяренный перекат, всплеснул бурунами, да было уже поздно.
Человек победил!
Внезапно черные тучи пронзила световая стрела, ударил сухой трескучий
гром. Кормовщик, быстро переставляя шест, гнал лодку от переката. По берегу,
стряхивая на бегу воду, бежали собаки.
Василий Николаевич в последний раз оглянулся на оставшийся позади
перекат, неодобрительно покачал головою. Казалось, только теперь он понял,
какая опасность подкарауливала его.
Уже стемнело, когда наша лодка, обогнув скалу, причалила к берегу. По
широкой заводи бежала мелкая рябь, пряча под собой каменистое дно водоема.
Огромный валун, отполированный водою, лежал у подножья очередного переката,
преграждая широкими плечами бег реке. Поток наваливался на него чудовищной
силой, чесал бока и, обессилев, тихо скользил с последнего порожка. За
валуном чернела глубокая яма с отраженной в ней скалою, лесом, клочьями туч
на небе.
-- Тут уж непременно большеротый живет. Как бы нам его в уху заманить!
-- сказал Василий Николаевич, азартным рыбацким взглядом осматривая яму.
А в это время близ струйки, огибающей валун, что-то вывернулось
пепельно-серое, с ржавым большим плавником и так хлестнуло по воде, что даже
Бойка и Кучум вскочили.
-- Эко здоровенный супостат! Сам просится, -- и Василий, взглянув на
багровеющий закат, соскочил на берег.
Мы выгрузили лодку, достали сеть и быстренько растянули ее у изголовья
заводи.
Небо грязнили тучи. Пока мы устраивали ночлег, в сетку попала пара
ленков: значит, на ужин обеспечена уха!
Палатка стоит у самого берега, под защитой густого тальника. Мы сидим у
костра, наблюдая, как на реке угасает последний отсвет мутного заката, и
прислушиваемся к порывистому дыханию переката у изголовья заводи. Кажется,
там в бурунах бьется непонятная жизнь. А где-то за скалою, в складках
темно-багровых туч, забавляется молния. С прибрежных марей и луговин тянет
затхлой теплотой.
Ночь ложится на землю. Тишина...
-- Смотри, смотри, попался! -- кричит Василий Николаевич.
У скалы всплеснула тяжелая рыбина, сверкнув в темноте серебристой
чешуей. Вздрогнула заводь. Поплыли по ней отраженные блики костра, застучали
волны о галечный берег.
-- Не все тебе ловить других, поймался и сам, -- говорил Василий
Николаевич, поправляя огонь.
Мы не торопимся. На небе теперь ближе и ярче вспыхивают молнии, на миг
освещая тугой свод неба, В тишине все тот же безнадежный всплеск да
надсадная трескотня козодоя.
Мы садимся в лодку, подплываем к валуну, где укреплено удилище с
жерлицей. Василий Николаевич хватается за шнур и подтаскивает к себе
притомившуюся рыбу. Я вижу, как в дрожащий луч костра входит темная тень --
это таймень. Растопырив плавники, он послушно всплывает на поверхность.
Рыбак нагибается через борт лодки, чтобы удобнее подхватить рыбу. Но вдруг
удар хвоста, столб брызг, и Василий Николаевич, мелькнув в воздухе голыми
ногами, исчезает в черной глубине заводи вместе с тайменем.
Я толкаю лодку вперед, ловлю в темноте его руку, помогаю добраться до
берега. Следом за ним плывет длинная тень тайменя. Добыча оказалась
достойной наших усилий.
Наутро мы уже снова в пути. Звонкие удары шестов да скрип долбленки
нарушают покой нежащейся на солнце тайги. Опять оправа чередуются скалы, а
слева стеной поднялся береговой лес, упираясь макушками в теплое небо.
Дует попутная низовка. Что-то шепчет растревоженный тальник. Я смотрю
вокруг и удивляюсь изменениям: утром скалы были мертвенно-серые, а к полдню
зардели, словно кто облил их цветной живительной водою. А что творится в
береговой чаше! Тут с каждым часом появляются новые и новые краски и,
кажется, на глазах расцветает весь этот скучный край. И над ним плывет
сладкий дух цветущей черемухи.
Вскоре небо залохматилось дымчато-белыми тучами. Теперь ветер дует нам
в лицо.
Миновав ближайший мыс, мы -- почти одновременно -- замечаем свежие
затесы на деревьях. Это сворот на пункт, где работают астрономы.
Заводим лодку в небольшую бухточку, выходим на берег. Осматриваемся.
Под темным сводом густых высокоствольных елей плещется по скользким камням
ручеек. На толстой лиственнице, склонившейся к реке, метровый протес и
надпись на нем, заплывшая прозрачной серой:
СВОРОТ НА ПУНКТ ГОЛЫЙ. ИДТИ НА ВОСТОК ПО ЗАТЕСАМ ШЕСТЬ КИЛОМЕТРОВ.
Рядом с лиственницей небольшой лабаз, спрятавшийся в тени деревьев. На
нем, под брезентом, хранятся продукты, какие-то свертки и всякая мелочь. К
одному столбу пришита деревянными гвоздиками береста с лаконичной надписью:
«Вернемся десятого. Новопольцев».
Под лабазом лежит лодка вверх дном. На земле опорожненные консервные
банки, рыбьи кости. У затухшего костра дотлевающие головешки; сочится
тоненькими струйками дымок, расплываясь по воздуху прозрачной, паутиной.
-- Совсем недавно ушли. Это тот... Гаврюшка с женой. Их лодка, --
говорит Василий Николаевич. -- Уже четвертый час. Что будем делать?
-- Я не прочь идти ночевать на сопку, к астрономам. Ты не устал?
-- С чего бы?.. Кстати, и рыбки унесем им, там на гольце уха в охотку
будет.
Быстро разгружаем лодку, вытаскиваем ее на берег. Свой груз складываем
под лабаз. С собою берем только плащи и телогрейки -- взамен спальных мешков
-- да небольшие котомки.
Из-под скал несет предупреждающим холодом. На западе, куда бегут
отяжелевшие тучи, в полоске света колышется радужный дождь. Он надвигается
на нас. На заречных марях уже копится серый липкий туман, и на свежие
ольховые листики легла пылью влага.
Но мы пойдем. Стоит ли обращать внимание на погоду? И что из того, если
вымокнем?! На то в тайге и костер.
Бойке и Кучуму не терпится: бросаются то в одну, то в другую сторону и
убежали бы вперед, но не могут разгадать, в каком именно направлении мы
двинемся.
Через несколько минут мы уже пробираемся по чаще старого заглохшего
леса. Впереди, показывая нам путь, бегут хорошо заметные на темных стволах
деревьев затески. Рядом с нами тропка, промятая копытами оленей да ногами
человека. Ее проложил рекогносцировщик, намечая на отроге пункт. Он же
сделал и затесы. После него прошли строители, астрономы, пройдут еще
наблюдатели, топографы.
Дико и глухо в старой тайге. Сюда не заглядывает солнце, не забегают
живительные ветры юга. Сырой, тяжелый мрак окутывает чащу. Черная от
бесплодия земля пахнет прелью сгнивших стволов да вечно не просыхающими
лишайниками. Даже камни тут постоянно скользкие от сырости. А молодые
деревья чахнут на корню, не дотянувшись до света. Путь преграждают корявые
иссохшие сучья отмерших елей да полосы топей, замаскированных густым зеленым
мхом.
Скоро лес впереди поредел, проглянула свободная даль. Но вершины отрога
не видно. Кажется, тучи спустились ниже, и. мы чувствуем их влажное дыхание,
видим их все более замедляющийся бег.
Лес обрывается. Тропа, перескакивая россыпи, вьется по крутому склону
лощины. С нами взбираются на отрог одинокие лиственницы, да по
бледно-желтому ягелю пышным ковром, прикрывшим мерзлую землю, стелются
полосы низкорослых стлаников. А у ручья, будто провожая нас, отовсюду
собрались белые березки. Всего лишь несколько дней, как появились на них
молоденькие пахучие листики.
Деревья стоят величаво, спокойно, не шелохнется ни одна веточка, как бы
боясь растерять только что народившуюся красоту.
Постепенно растительность уступает место россыпям. Тропа отходит влево
и набирает крутизну.
Вдруг впереди залаял Кучум. Мы остановились. Через несколько минут к
нам вернулись собаки.
-- Люди на тропе, -- сказал Василий Николаевич и прибавил шагу.
Метров через двести мы вышли на прогалину, заваленную крупной россыпью,
и действительно увидели двух человек. Один из них, мужчина, сидел,
развалившись на камне. Рядом стояла маленькая женщина с тяжелым заплечным
грузом, устало склонившись на посох. При нашем появлении ненужная улыбка
скользнула по ее загорелому лицу.
Это были Гаврюшка с женою, они тоже шли на голец к астрономам.
-- Вот и догнали вас. Продукты несете? -- спросил я, здороваясь.
-- Всяко-разно: мука, консервы, лементы...
-- Ты что-то, Гаврюшка, жену нагрузил, а сам налегке идешь, -- сказал
сдержанно Василий Николаевич.
-- Спину, паря, сломал, шибко болит, носить не могу.
-- А мне показалось, ты все думаешь, как надо жить? -- не выдержав,
засмеялся мой спутник.
-- А кто же за меня думать будет -- жене некогда, -- и он затяжно
вздохнул. -- У тебя крепкий табак? -- вдруг спросил он.
Василий Николаевич молча достал кисет, оторвал бумажку, закурил и
передал табак Гаврюшке. Тот постучал о камень трубкой, выскреб из нее концом
ножа нагар и тоже закурил.
-- Вы садитесь, отдохните, еще времени много, -- предложил я женщине.
Она, не снимая котомки, присела на камень и долго рассматривала нас
осторожным взглядом. Сколько покорности у женщин этого народа, и какое
трудолюбие унаследовали они от своих матерей, вынесших на своих плечах всю
тяжесть трудной жизни кочевников.
Через несколько минут мы снова готовы продолжать свой путь. Женщина
настораживается.
Гаврюшка отворачивает голову, не встает. В глазах фальшивая боль.
-- А ты кисет-то отдай, -- говорит ему Василий Николаевич.
-- Брать да отдавать -- никогда не разбогатеешь, -- пошутил тот,
доставая из чужого кисета добрую горсть махорки и пересыпая ее в свой. --
Хорош табачок, а у меня -- что трава: дым да горечь.
-- Чужой всегда лучше, а разберись -- из одной пачки, -- ответил
Василий Николаевич, запихивая глубоко в карман кисет, и вдруг повернулся к
женщине. -- Снимайте котомку, показывайте, что в ней, -- сказал он
приглушенным голосом.
Женщина, не понимая русского языка, удивленно посмотрела на него и
перевела вопросительный взгляд на мужа. Тот что-то сказал ей по-эвенкийски,
и она, развязав на груди ремешок, сбросила ношу.
Увидев, что мы перекладываем из ее котомки в рюкзак банки, мешочки,
Гаврюшка вдруг забеспокоился, тоже развязал свою котомку, показывая, как на
базаре, содержимое. Но Василий Николаевич сделал вид, будто не замечает его.
-- Отдыхать будете или пойдете? -- спрашиваю я, стараясь, чтобы голос
прозвучал ровно.
-- Маленько посидим, потом догоним вас, -- ответил Гаврюшка, передавая
свою трубку жене, а по лицу его тучей расплывается обида: видно, не
понравилось, что мы не разгрузили его котомку.
Тропа выводит нас в левую разложину. Собаки бегут впереди. Неожиданно
перед нами появляются из ольховой чащи два оленя-быка.
-- Где-то близко лагерь каюров, -- бросает Василий
Николаевич.
Олени вертят головами, нюхают воздух, понять не могут, откуда донесся
звук. Животные поворачиваются к нам... два-три прыжка в сторону -- и они
стремглав скачут по низкорослому ернику.
-- Да ведь это сокжой! -- кричит Василий Николаевич, хватая меня за
руку.
А звери уже перемахнули разложину, торопятся на верх отрога. Какая
легкость в их пугливых прыжках! Как осторожно они несут на могучих шеях
болезненно пухлые рога! Но любуемся недолго. Вот они выскакивают наверх, на
секунду задерживаются, повернувшись к нам, и исчезают. За ними бросаются
собаки, но -- куда там...
Шумит ветер. Сыплется мелкий дождь. Тропа вьется змейкой в гору.
Впереди темно-зеленые стланики обрываются под выступами скал. Дальше голые
курумы, потоками сбегающие навстречу растительности. Мы собираем сушник,
укладываем его поверх котомок и берем последний подъем.
Под ногами неустойчивая россыпь угловатых камней. Поднимаемся тяжело.
Одежда мокнет от дождя. Кажется, уже близка и вершина. Но увы!.. За первым
изломом ее не видно. Терпеливо поднимаемся выше, но и тут нас поджидает
разочарование: главная вершина гольца, где стоит пункт, еще далеко, за
глубокой седловиной. Мы видим на ней пирамиду, две палатки и струйку дыма.
Это подбадривает нас.
Неохотно спускаемся на седловину, жаль терять высоту.
Бойка и Кучум мчатся впереди. Мы видим, как они выскочили на вершину,
как там, на краю скалы, появились три человека и, заметив нас, машут руками.
Затем двое из них спускаются навстречу.
-- Нина! -- кричит Василий Николаевич женщине, оставшейся на скале. --
Клянитесь, что угостите оладьями, иначе повернем обратно-о!
-- Поднимайтесь, не пожалеете! -- доносится оттуда.
Нас встречает Новопольцев с рабочим, отбирают котомки, и мы карабкаемся
по выступам скалы.
На этой скучной вершине, одиноко поднимающейся над ближними горами, вот
уже с неделю работают наши астрономы Новопольцев и Нина Бизяева. С ними
рабочий Степа -- шустрый и разговорчивый парень. Пока он поднимался рядом,
неся мою котомку, успел рассказать всю свою несложную биографию и даже
личные секреты. Астрономам, видимо, уже надоело слушать его бесконечные
повторы, и он обрадовался гостям, обрушился на нас. Еще не вышли на вершину,
а мы уже знали, что у него от брусники бывает расстройство желудка, что он
страстный рыбак, но забыл взять с собой крючки, что в прошлом году ему
доктора вырезали слепую кишку...
На пике все обжито. Стоят палатки, низкие, как черепахи. Рядом с
астрономическим столбом растянут на длинных оттяжках брезент, под ним
инструменты, дрова и всякая походная мелочь. И здесь консервные банки,
бумага. Посуда намеренно выставлена на дождь: воду, как и дрова, жители
гольца приносят из лощины, далеко, поэтому здесь каждая капля для них --
драгоценность. На веревке между палатками висят штаны и рубашки, тоже
выброшенные на дождь с надеждой, что он их простирает.
Василий Николаевич останавливается у пирамиды, роется в боковом кармане
гимнастерки, а в глазах озорство,
-- Письмо вам, Нина. По почерку догадываюсь -- с хорошими вестями.
Та встрепенулась, бежит к нему, а в глазах и радость, и тревога.
-- Доставайте же поскорее! -- торопит она.
-- А как насчет оладий?
-- Будут, честное слово!
-- С маслом или с вареньем?
-- И с тем, и с другим!.. Да не терзайте же меня, дядя Вася!
-- Ладно, берите, -- смягчается Василий Николаевич.
Начинаются расспросы. Не часто бывают здесь гости.
Хмурится долгий вечер. Дождевые тучи ложатся на горы. В высоте гудит
ветер, точно старый лес, когда по его вершинам проносится буря. Здесь, в
поднебесье, на суровых вершинах, среди скал и безжизненных курумов, особенно
неприятно ненастье. Все кругом цепенеет в непробудном молчании. Сырость
сковывает ваши мысли, давит на сознание, и кажется, даже камни пропитываются
ею.
Дождь загоняет всех в палатку. Не осталось вокруг ни провалов, ни скал,
ни отрогов, все бесследно утонуло в сером неприглядном тумане. Кажется, с
нами на всей земле только палатки, пирамиды и затухший костер. Да где-то
внизу мокнут под дождем Гаврюшка с женою. Его даже непогода не смогла
заставить поторопиться. В палатке сумрак. Пока рассаживались, Нина зажгла
свечу и, не в силах сдержать волнения, вскрыла конверт. На пухлых губах
дрожит улыбка, а по щекам бегут обильные слезы, падая на письмо и
расплываясь по нему чернильными пятнами.
-- Кажется, промазал, -- сказал с сожалением Василий Николаевич. --
Надо бы спирту выговорить за такое письмо.
-- Уж не беспокойтесь, сама догадаюсь.
-- А что хорошего пишут? -- полюбопытствовал тот.
-- От мамы письмо... Пишет -- дома все хорошо... Старенькая она у меня
и больная, долго не было вестей, вот и изболелась душа. Что же это я
расселась, -- вдруг спохватилась Нина. -- Значит -- оладьи?
Новопольцев, тонкий, длинный, с трудом выталкивает свои непослушные
ноги из палатки и вылезает на дождь. Пока он рубит под навесом дрова,
разжигает железную печку, с которой астрономы не расстаются и летом, Нина
занимается тестом. Хотя она работает проворно, но руки не всегда делают что
нужно. Вероятно, мысли о доме уносят ее с вершины гольца далеко-далеко, к
родному очагу, к старушке матери.
-- Фу ты, господи, кажется, вместо соды опять соли положила, --
возмущается она, отрываясь от дум.
А за ней из дальнего угла наблюдает Василий Николаевич. Сидит он как на
иголках, все не по его делается: и мало Нина завела теста, и очень круто.
Долго крепится, но не выдерживает:
-- Дайте-ка я помогу вам размешать тесто, у меня оно сразу заиграет, --
и он решительным жестом отбирает у нее кастрюлю.
-- А что же мне делать?
-- Накрывайте на стол. Тут я сам управлюсь.
Через пять минут Василий Николаевич, забыв, что он всего лишь гость,
уже работал сковородой возле раскаленной печки, складывая горкой пахучие
оладьи. А хозяева удивленно следили, как в его умелых руках спорилось дело.
Дождь мелкий, надоедливый, все идет и идет.
Волнистые дали, тайга, стрелы серебристых рек и Гаврюшка с женой --
остаются где-то в непроницаемом мраке ночи...
Василий Николаевич стелет у входа плащ, бросает в изголовье котомку,
прикрывается телогрейкой и на этом заканчивает свой большой трудовой день. Я
тоже забрался в постель. Новопольцев и Нина сидят рядышком у свечи. Они
привыкли ночью бодрствовать. Она перебирает бруснику, собранную днем в
лощине, вероятно для варенья, а он делает из бересты туесок. По их загорелым
лицам скользят дрожащие блики огня. В их спокойном молчании, в ленивых
движениях рук и глаз уже что-то сроднившееся. И я, засыпая, думаю: «Быть
осенью и второй свадьбе...»
Утро серое и очень холодное. По-прежнему всюду туман, густой, тяжелый,
да затяжной дождь продолжает барабанить по палатке. Дыхание Охотского моря
несет с собою на материк ненастье.
Где же спасаются от дождя Гаврюшка с женой?
Встаем, и сразу начинается чаепитие.
У астрономов осталось работы всего на два-три часа, но им нужны звезды!
А звезд можно прождать неделю.
В палатке невыносимо тесно, скучно. Всех нас гнетет безделье.
К вечеру туман слегка приподнялся и неясными очертаниями прорезались
ближние горы.
Но что это? С мутного неба падают белые хлопья. Не чудо ли, снег?! Ну
разве усидишь в палатке?! Я надеваю плащ и выползаю наружу.
Как стало свежо, как тихо! На лицо ложатся невесомые пушинки. Я
чувствую жало их холодного прикосновения. Все вокруг оцепенело, замерло.
Неужели так страшны эти невесомые пушинки? Взгляните на них через лупу:
какой симметричный узор, какая нежная конструкция из тончайших линий, как
все в них совершенно!
Бесшумно, медленно, густо сыплет с неба неумолимая белизна. Пушинки уже
не тают на охлажденной земле, они копятся, сглаживая шероховатую
поверхность. Под их покровом исчезают щели, бугры, россыпи, зелень. На
глазах неузнаваемо перекраивается пейзаж.
Перекраивается и исчезает. Черным, тяжелым пологом ночь прикрывает
одинокую вершину гольца и все вокруг.
Заунывно поет под навесом чайник, да звонко хлопает брезент, отбиваясь
от наседающей непогоды.
Новопольцев и Нина дежурят. Они надеются, что набежавший ветер разгонит
черноту нависших туч, появятся звезды и им удастся закончить наблюдения.
Лежу. Мне не спится. Беспомощно мигает пламя свечи. В печке шалит
огонь. Звенят палаточные оттяжки, с трудом выдерживая напор ветра.
...Перед утром меня разбудили голоса. Прислушиваюсь. Это работают
астрономы. Быстро одеваюсь, разжигаю печь и выползаю из палатки.
Какая красота!
Ветер угнал непогоду к Становому. Все успокоилось. Под звездным небом
поредел мрак ночи. Снег серебром украсил вершины гор, сбегая широкими
потоками на дно долин. А дальше, в глубине провалов, над седеющим лесом,
дотаивают клочья тумана. Новопольцев стоит у «универсала», установленного на
столбе. Он наводит ломаную трубу на звезды, делает отсчеты по микроскопам,
снова повторяет прием. Нина, в полушубке, в валенках, низко склонилась над
журналом, освещенным трехвольтовой лампочкой. Из-под карандаша по строчкам
быстро бегут цифры, она их складывает, делит, интерполирует, выводит итог. Я
молча наблюдаю за работой.
Ворон простудным криком встречает утро. Из палатки высовывается лицо
Степы, изуродованное затяжным зевком. Заспанными глазами он смотрит на
преобразившийся мир, на звездное небо, на заваленный снегом лагерь, а губы
шепчут что-то невнятное.
Откуда-то снизу доносится легкий шорох.
Вдруг вскакивают собаки, бросаются из палатки, и оттуда ко мне под ноги
выкатывается серый комочек. Мгновение -- и он у Нины на спине. Крик, писк,
смятенье. Собаки сгоряча налетают на Нину, валят ее. Кучум уже открыл
страшную пасть, хочет схватить добычу, но вдруг тормозит всеми четырьмя
ногами и носом зарывается в снег у самого края скалы. А комочек успевает
прошмыгнуть в щель, два-три прыжка по карнизам, и мы видим, как он катится
от скал вниз по мягкой снежной белизне. Бойка и Кучум заметались в поисках
спуска.
-- Это еще что за баловство! -- слышится строгий окрик Василия
Николаевича, и собаки, вдруг поджав хвосты, присмирели, неохотно
возвращаются к нагретым местам. -- Кого это они?
-- Белку. Тут их дорога через хребет... Ой, как же я напугалась, дядя
Вася! -- говорит Нина, поднимаясь и стряхивая с полушубка снег.
Степа босиком перебежал по снегу в палатку к Василию Николаевичу и
сразу начал что-то рассказывать. Тут уж действительно не зевай, пользуйся
случаем, не жди, когда тебя попросят высказаться, тем более, что Степа не
любит слушать, предпочитает всему свои рассказы.
Наконец-то астрономы закончили работу и занялись вычислениями. Нам с
Василием Николаевичем можно бы и покинуть уже голец, но я решил дождаться
результатов вычислений.
Из-за ближайшей вершины выплеснулась шафрановая зорька и золотистым
глянцем разлилась по откосам гор. Свежо, как в апреле. Воздух прозрачен, и
на душе легко-легко!
Вот и солнце. Сколько света, блеска, торжества!.. Но что сталось с
цветами, боже мой! Только что пробились из-под снега бледно-розовые лютики,
единственные на всей вершине. На смерзшихся лепестках, обращенных к солнцу,
копятся прозрачные крупинки слез. Кажется, цветы плачут, а лучи небесного
светила утешают их. Какая удивительная картина -- цветы в снегу! Но
почему-то веришь, что они будут жить и будут украшать мрачную вершину
гольца.
Кто это поднимается к нам по склону? Так и есть: Гаврюшка! Солнце
растревожило даже такого ленивца. Он шагает медленно, важно, опираясь на
посох. Даже не оглянется, чтобы проверить, идет ли следом жена. Уверен, что
иначе быть не может. И действительно, та еле плетется за мужем, горбя спину
под котомкой.
-- Долго же ты шел, Гаврюшка, ждали еще позавчера, никак... заблудился?
-- встречает их искренне обрадованный Степа.
-- Паря, спину сломал, скоро ходить не могу.
-- Больно часто ты ее ломаешь, поди, и живого места не осталось. Где
ночевали?
-- У каюров. Они медведишко убили, свежего мяса вам принес, -- сказал
Гаврюшка, показывая посохом на котомку, что висела за плечами у жены.
Степа пригласил гостей к себе в палатку. Угощал табаком, чаем и,
пользуясь их терпением, без конца что-то рассказывал. -- «Хороший он парень,
с душой, и что это за “болезнь” прилипла к нему...» -- говорил о нем Василий
Николаевич.
Позже я посоветовал Новопольцеву как-то повлиять на Гаврюшку и
раскрепостить эту щупленькую безропотную женщину.
До завтрака закончили вычисление. Теперь можно и снимать лагерь.
Дальнейший путь астрономов -- к озеру Токо.
Прощаемся надолго. Вряд ли еще раз сойдутся наши тропы с астрономами в
этом огромном и безлюдном крае.
Степа идет с нами до соседнего распадка, где живут каюры, и вернется на
голец с оленями.
Мы с Василием Николаевичем торопимся к Зее.
В результате большого похолодания уровень воды в реке упал до летнего.
Присмирела Зея, оскалились мелкие перекаты, заплясали по ним беляки.
Подниматься по реке при таком уровне легче, поэтому мы не стали
задерживаться: как только попали на берег, загрузили свое легкое суденышко,
и оно, подталкиваемое шестами, поползло против течения.
Реку постепенно сжимают отроги. Долина заметно сужается, и там, где
бурный Оконон сливается с Зеей, она переходит в узкое ущелье. Береговой лес
здесь заметно мельчает, редеет, лепится лоскутами по склонам гор и, убегая
ввысь, обрывается у границы серых курумов.
Каким титаническим трудом реке удалось пробить себе путь среди нависших
над нею отрогов! Правда, еще и сейчас в этом ущелье не все устроено. И
мечется Зея, разбивая текучие бугры о груди скал и валунов, непрерывно
чередующихся то справа, то слева, и от этого весь день в ушах стоит пугающий
рев.
Наш путь однообразен, идет сплошными шиверами. Изредка под утесами
встретится заводь, только там и отдохнешь. В ущелье становится все более
тесно, сыро, глухо. Эта каменистая щель со скудной береговой растительностью
вызывает холодное чувство отчуждения. Нигде ни признака живого существа.
Звери обходят это место где-то стороною, птицы предпочитают селиться в более
светлых и просторных долинах, даже кулички, чье существование неразрывно
связано с водою, и те, видимо, считают невозможным жить в этом нескончаемом
реве.
Не заходят сюда и люди. Если бы мы увидели здесь, на берегу, остатки
костра или остов брошенного чума, удивились бы и вряд ли догадались, что
могло привести человека в это дикое ущелье. Единственная тропа пастухов
связывает окружающие нас пустыри с жилыми местами. Она идет сюда от устья
Купури правобережной стороной, далеко от Зеи, вьется по отрогам, преодолевая
крутые перевалы. Да и эта единственная тропа теперь посещается эвенками все
реже и реже. Левобережная же сторона Зеи недоступна ни для каравана, ни для
пешехода.
Мы, видимо, первые рискнули на долбленке пробраться в верховья реки.
Чего только не пережили за эти дни! Сколько раз купались в холодной воде!
Частые неудачи озлобили Василия Николаевича. Вылилось наружу копившееся в
нем упорство, и кто бы мог поверить, что этот человек, скромный, тихий,
выйдет победителем в таком неравном поединке со стихией.
Выше устья Оконона, примерно километров через пятнадцать, ущелье
распахнулось, стало просторнее, светлее. Мы еще поднялись километра три и
там на низком берегу решили дождаться своих. Дальше вообще на лодке идти
трудно, уж очень крутой спад у реки, много каменистых шивер. При мысли, что
путь на долбленке окончен, на душе вдруг становится легко.
Причаливаем к берегу, разгружаем лодку. Выбираем место для стоянки.
Высоко в небе тянется столбом дым костра, выдавая присутствие человека.
Отдыхая, мы сидим на гальке. И тогда, вспомнив до мелочи свой путь по
беспокойной реке, я с сожалением подумал: «Почему наша молодежь не
увлекается состязаниями на долбленках с шестом в руках по быстрым горным
рекам? Сколько в этом соревновании с бурным потоком переживает каждый
незабываемых минут. В схватке с шиверами можно воспитать в себе и волю и
презрение к опасности, так необходимые каждому человеку в жизни».
Снова мы видим шустрых куличков, слышим, как воркуют в чаще дикие
голуби, видим коршунов, с высоты высматривающих добычу. Собаки, должно быть,
догадались, что здесь будет длительная остановка, убежали в тайгу. У Бойки и
Кучума забота: надо узнать, кто поблизости живет и нет ли тут косолапого? С
ним у них давнишние счеты.
Нас первыми заметили комары и буквально через несколько минут орды этих
кровопийц уже кружились над нами, липли к лицу, к рукам, заполняя воздух
своим отвратительным гудением. А ведь всего несколько дней назад их было
совсем мало!
Пришлось сразу надевать сетки и ставить пологи, ибо в палатке от комара
не спастись.
II. Где же найти паука-крестовика? У трясогузок горе. Пашкины
закоулки. Самолету негде приземлиться. Сокжоя жалят пауты. Неожиданная
встреча. Ночная гроза. Спасите, братцы!..
На севере по вершинам заснеженных гор пылает отсвет заката, а над
головою клубятся легкие облачка, пронизанные последними лучами солнца.
Меркнет свет долгого летнего вечера. Мир кажется необыкновенно ласковым,
довольным. И твои мысли спокойно плывут в тишине, как парусник, гонимый
легким ветерком по морской бегучей зыби.
По реке мимо плывет мелкий наносник. У скалы его встречает шумная
компания куличков, наших береговых соседей. Они поодиночке или парами
усаживаются на влекомый водой плавник, делают вид, будто отправляются в
далекое путешествие, и что-то выкрикивают скороговоркой, вроде:
«Тили-ти-ти, тили-ти-ти...» -- вероятно -- прощайте, прощайте!
Течение проносит их мимо, за поворот. Иногда на плавнике я вижу
трясогузок. Ну, а эти куда, длиннохвостые домоседы? Скорее всего, они плывут
в разведку -- разгадать странное для них явление: сколько бы куличков ни
отправлялось по реке вниз, число их на берегу не уменьшается.
А ларчик просто открывался: из-за поворота не был виден куличкам родной
уголок, и у них пропадало желание к путешествию. Молча перелетев на
противоположный берег, они тайком возвращались к скале и этим сбивали с
толку доверчивых трясогузок.
Сегодня первый день, когда суточное колебание уровня воды в Зее
незначительно. Вода заметно посветлела, открывая любопытному глазу свои
тайны. Вижу, у самого берега, изгибаясь между камнями, тянется живая темная
полоска. Даже незначительная волна, набегающая на гальку, разрывает ее на
несколько частей, и тогда сотни серебристых искр на мгновение вспыхивают в
воде. Но не успеет волна откачнуться от берега, как темная полоска снова
сомкнется и непрерывной тетивой тянется вверх против течения.
Я встаю, подхожу к берегу. Это мальки -- потомство тайменей, ленков,
хариусов, сигов. Сколько же их, боже мой! Миллионы? Нет, гораздо больше! Вот
уже много суток идут они при мне, может быть, будут идти весь июнь и июль. В
их движениях заметна поспешность. Они, кажется, не кормятся, не отдыхают,
какая-то скрытая сила гонит их вперед. Но куда и зачем?
Всю эту массу мальков объединяет возраст. Позже, достигнув зрелости,
они разбредутся по закоулкам речного дна и станут непримиримыми врагами. Но
сейчас держатся сообща, так им легче обнаружить опасность -- два глаза того
не увидят, что сотни. А опасность подстерегает их всюду: за камнями, в
складках песка, в мутной глубине -- вот и жмутся они к самому берегу, ищут
мель, там меньше врагов. И как странно устроила природа: врагами этих
маленьких существ являются чаще всего сами рыбы, родившие их. Тут уж не
доверяй родственному чувству!..
Мне захотелось посмотреть, как мальки будут пересекать струю
безымянного притока при его слиянии с Зеей. Иду по-над берегом. Вдруг рядом
всплеск, мелькнула тень, и брызги серебра рассыпались по поверхности -- это
мальки, спасаясь от страшной пасти ленка, выскочили из воды, а некоторые
даже попали "а сухой берег и запрыгали, словно на раскаленной сковороде. Я
их вернул обратно в воду. Темная полоска, разорванная внезапным нападением
хищника, снова сомкнулась и поползла вверх.
Вот и приток. Он стремительно пробегает последний перекат, сливается с
Зеей. Мальки тугой полоской подходят к устью, еще больше жмутся к
мелководному берегу, как бы понимая, что здесь, под перекатом, их как раз и
поджидают те, с кем опасно встречаться. Но сила инстинкта гонит их дальше.
Что я заметил? Многие мальки откалываются от общей полоски и
устремляются вверх по притоку. Быстрое течение отбрасывает их назад, бьет о
камни, будто пытаясь заставить повернуть обратно, но не может. В этих
крошечных существах живет упрямое желание попасть именно в приток, а не в
какую-то другую речку, пусть она будет во много раз спокойнее. Вот и бьются
мальки со струею, лезут все выше и выше. За перекатом тиховодина, там
передышка и снова перекат. И так до места...
Невольно хочется узнать: а где же их конечная цель? Они спешат к
местам, где родились и откуда были снесены водою совсем крошечными, еще не
умевшими сопротивляться течению. И в этом их неудержимом движении к родным
местам есть неразгаданная тайна. Непонятно, как эти маленькие существа,
впервые поднимаясь вдоль однообразного берега Зеи, мимо множества притоков,
безошибочно находят русла своих рек, угадывают свои места? А, скажем, с
кетой происходят еще более загадочные явления. Ее малявкой сносит река в
море, жизнь она проводит в далеком океане и через несколько лет возвращается
к родным местам в вершины рек, проделав сложный и очень длительный путь в
несколько тысяч километров. И все-таки ее ничто не может сбить с правильного
пути, она безошибочно находит свою реку, мечет в ней икру и погибает там,
где родилась.
Вот и эти мальки, что идут сейчас вверх по Зее, разбредутся по своим
притокам и там, у родных заводей, проведут короткое лето. К зиме они
спустятся в ямы и будут служить пищей взрослым рыбам, а весною уцелевшие
снова повторят свой путь к родным местам.
Позже я выяснил, что такая же масса молоди поднимается и вдоль
противоположного берега; это жители правобережных притоков.
Я уже собрался покинуть берег, как издалека донесся крик филина.
-- Это Улукиткан! -- обрадовался Василий Николаевич.
Крик филина повторился ближе, яснее. Видим, на косу из тайги выходит
караван. Там уже наши собаки.
Шумно становится на одинокой стоянке. Разгорается костер. Людской говор
повисает над уснувшей долиной. Отпущенные олени бегут в лес, туда же
уплывает и мелодичный звон бубенцов.
-- Орон (*Орон -- олень) совсем дурной, постоянно торопится, бежит,
будто грибы собирает, -- бросает им вслед ласково Улукиткан.
Мне кажется, что только с завтрашнего дня по-настоящему начнется наше
путешествие.
-- Какие вести, Геннадий? -- не терпится мне.
-- Неприятность. У Макаровой инструмент вышел из строя. Дело
неотложное, а Хетагуров вот уже дней пять в эфире не появляется, ждут ваших
указаний. И еще есть новость. Трофим вернулся из бухты, не хочет идти в
отпуск, просится в тайгу...
Взглянув на часы, Геннадий забеспокоился:
-- Двадцать минут остается до работы!
Общими усилиями ставим палатку, натягиваем антенну. Геннадий
устраивается в дальнем углу и оттуда кричит в микрофон:
-- Алло, алло, даю настройку: один, два, три, четыре... Как слышите
меня? Отвечайте. Прием.
Я достаю папки с перепиской и разыскиваю радиограмму Трофима!
«Прибыл в штаб. Здоров, чувствую себя хорошо. Личные дела откладываю до
осени. Разрешите вернуться в тайгу. Жду указаний. Королев».
«Почему он не поехал к Нине? -- думаю я. -- Неужели в их отношениях
снова образовалась трещина? Мы ведь давно смирились с мыслью, что в это лето
Трофима не будет с нами, и вдруг... Правильно ли он поступает?»
-- Алло, алло, передаю трубку. -- И, обращаясь ко мне, Геннадий
добавляет: -- У микрофона начальник партии Сипотенко.
-- Здравствуйте, Владимир Афанасьевич! Что у вас случилось? Где
находитесь?
-- Позавчера приехал к Макаровой на голец восточнее озера Токо.
Неприятность -- видимо, от сырости в большом теодолите провисли паутиновые
нити, работа стала. Запасной паутины нет. Третий день бригада охотится за
пауком, всю тайгу обшарили -- ни одного не нашли. Да у меня и нет
уверенности, что он даст нам нужную по толщине нить, ведь мы для инструмента
берем паутину только из кокона паука-крестовика.
-- Попробуйте подогреть электролампочкой провисшие нити в инструменте.
Если они не натянутся, тогда организуйте более энергичные поиски кокона.
Используйте проводников. Сменить инструмент сейчас невозможно, вы же знаете,
что в вашем районе нет посадочной площадки для самолета.
-- Беда в том, -- отвечает Сипотенко, -- что никто из нас не знает, где
зимуют крестовики, ищем наобум. А проводники у нас молодежь, неопытные.
Сейчас попробуем подогреть нити, может быть, натянутся.
Вдруг в трубку врывается возбужденный женский голос:
-- Значит, вы отказываетесь помочь нашей бригаде? Ведь сейчас кокона не
найти, да, может быть, эти пауки и вовсе не живут в таком холоде. Что же
делать?
-- Здравствуйте, Евдокия Ивановна! Я понимаю вашу тревогу. Но если в
штабе даже и найдется кокон, не попутным же ветром доставить его вам?
-- Значит, ничего не обещаете? А мы надеялись, что выручите. Неужели
обречете нас на длительный простой?
-- Все возможное сделаю. Я сейчас соберу своих таежников, поговорим. Не
сегодня-завтра появится в эфире Хетагуров, поручу ему заняться паутиной. Но
как доставить ее вам, не представляю. Через час явитесь на связь.
Геннадий работает с другими нашими станциями, принимает радиограммы, а
мы садимся ужинать.
-- Чудно как получается: из-за паутины остановилась работа, -- говорит
Василий, вопросительно посматривая на меня. -- Неужели без нее нельзя?
-- Ты когда-нибудь смотрел в трубу обычного теодолита? Видел в нем
перпендикулярно пересекающиеся нити? -- спрашиваю я.
-- Видел.
-- Так вот, в обычном теодолите эти линии нарезаются на стекле, а в
высокоточном, скажем, в двухсекунднике, как у Макаровой, с большим
оптическим увеличением, нарезать линии нельзя. Их заменяют паутиной,
натянутой на специальную рамку. Всего-то для инструмента ее надо несколько
сантиметров. Но где их сейчас возьмешь?
-- А разве шелковая нитка не годится?
-- Нет, она лохматится и не дает четкой линии.
Улукиткан смотрит на меня с недоумением. Он не все понимает из наших
разговоров о теодолитах, но для него ясно, что из-за какого-то паука у
инженера остановилась работа.
-- Какой такой паук, его спина две черных зарубка есть? -- спрашивает
он.
-- Есть.
-- Эко сильный паук, человека задержал, -- рассуждает старик. --
Бывает, бывает. Вода вон какой мягкий, а камень ломает... Это время паука
надо искать в сосновом лесу, в сухом дупле старого дерева и под корой, где
мокра нет. Здесь, однако, не найти.
-- Если мы вызовем к микрофону проводников Макаровой, ты сможешь им
рассказать, где нужно искать пауков?
-- Это как, чтобы я в трубку говорил?
-- Да.
-- Уй, что ты, не умею, все путаю...
-- Ничего хитрого нет. Садись ко мне поближе, -- говорит Геннадий.
Он надевает на голову старика наушники, посылает в эфир позывные и,
установив связь, просит вызвать к микрофону проводников.
Улукиткан торжественно продувает нос, откашливается, скидывает, как
перед жаркой работой, с плеч телогрейку.
-- Кто там? -- пищит он не своим голосом в микрофон и пугливо смотрит
на нас.
-- Ты не бойся, говори громче и яснее, -- подбадривает его Геннадий.
-- Ты кто там? -- снова робко повторяет старик и замирает, испугавшись
разрядов, внезапно прорвавшихся в наушники. Но вот его лицо расширяется от
улыбки, становится еще более плоским. Услышав родную речь, старик смелеет и
начинает что-то рассказывать, энергично жестикулируя руками, как будто
собеседник его стоит прямо перед ним. Затем он терпеливо выслушивает длинные
ответы, кивает удовлетворенно головою в знак согласия. Можно подумать, что
не он инструктирует проводников, где нужно искать кокон, а они.
-- Кончил? -- спрашиваю я Улукиткана, когда он снял наушники.
-- Все говорил. Еще много новости есть. Нынче промысел там за хребтом
хороший был, охотники белки дивно добыли, сохатых, сокжоев...
-- а о пауке ты рассказал?
-- У-ю-ю... Забыл! Геннадий, зови его обратно, говорить буду. Старая
голова все равно что бэвун (*Бэвун -- решето), ничего не держит. Давнишний
привычка остался. Человека встретишь в тайге, надо послушать, какой новости
он несет издалека, и свои ему рассказать. Так раньше эвенки узнавали друг о
друге, о жизни людей, кто куда кочевал, кто умер, какое несчастье пережил
народ. Человек с большими новостями -- почетный гость. Ему лучшая кость за
обедом и самый крепкий чай. На хорошего гостя, говорят, даже собаки не лают.
-- Тебя, Улукиткан, слушают. Бери микрофон, -- перебивает его Геннадий.
Старик усаживается к трубке и долго говорит на своем языке.
Полночь. Все спят. В палатке горит свеча. Я просматриваю радиограммы,
накопившиеся за время моего отсутствия, пишу ответы, распоряжения. В
подразделениях экспедиции обстановка за эти дни мало изменилась. Работы
разворачиваются медленно, мешают дожди, половодья. Есть и неприятности. В
топографической партии на южном участке одно подразделение, пробираясь по
реке Удыхину, провалилось с нартами под лед. Оленей спасли, а имущество и
инструменты погибли. Нужно же было людям пройти длительный, тяжелый путь по
горам, почти добраться до места работы и попасть в ловушку!
Потерпевших подобрали геодезисты, случайно ехавшие по их следу. В
первый же день летной погоды этому подразделению сбросят с самолета
снаряжение, продовольствие и одежду.
-- Сколько времени? -- спрашивает, пробуждаясь, Василий Николаевич и,
не дожидаясь ответа, вылезает из спального мешка. -- Куда думаете направить
Трофима? -- вдруг задает он беспокоивший его даже и ночью вопрос.
-- В отпуск. Здоровье у него вообще неважное, после воспаления легких в
тайге долго ли простудиться. Да и Нина будет, наверное, обижена его отказом
приехать.
-- Не поедет он туда, зря хлопочете, -- возражает Василий Николаевич.
-- Это почему же?
-- Знаю, истосковался он по тайге, а вы ему навязываете отпуск. Нина
подождет. Не к спеху!
-- Не было бы, Василий, хуже -- он ведь слаб, долго ли простудиться.
Боюсь за него, мне все кажется, будто он еще мальчишка.
-- Ну, уж выдумали тоже, мальчишка! Смешно даже... У Трофима голова --
дай бог каждому. К тому же он ведь что наметит -- жилы порвет, не
отступится. Характер имеет, -- убежденно говорит Василий Николаевич.
Я достал радиограмму, адресованную Королеву, с предложением ехать в
отпуск и разорвал ее, но новой не написал, отложил до утра.
Мы решили задержаться, пока не будет решен вопрос с паутиной. В
подразделении Макаровой -- без перемен. Старые нити и после нагрева их
электрической лампочкой не натянулись. Кокона не нашли.
Неожиданно вспомнился Пашка, верткий, пронырливый, маленький таежник с
ястребиными глазами. Уж кому-кому, а Пашке, конечно, известны близ Зеи все
сосновые боры, лесные закоулки, старые дупла. Мне живо представилось, как он
бежит опрометью к зимовью, чтобы сообщить дедушке Гурьянычу, какое важное
дело доверила ему экспедиция, и как они вместе тотчас займутся поисками
пауков и кокона...
Вызываю по рации Плоткина. Поручаю организовать поиски кокона в городе:
на чердаках, в сараях, кладовых и в случае успеха подумать вместе с
летчиками о доставке кокона Макаровой. С Пашкой же решил говорить сам.
Плоткин обещал вызвать его вечером на рацию.
Сегодня, после полуторамесячного перерыва, я снова услышал голос
Трофима. Мы долго беседовали с ним по радио. По тому, как раздраженно он
отвечал на предложение ехать в отпуск, я понял, что уговорить его
невозможно, прав был Василий. Оказывается, Трофим уже договорился с Ниной.
Она приедет осенью на Зею.
-- Куда ты хочешь ехать? Только не на побережье,
-- Возьмите меня с собою радистом.
-- На это надо согласие Геннадия.
-- Мы договорились, он уступает мне свое место, переедет в партию
Лемеша.
-- Если так -- я согласен.
Геннадий кивает мне утвердительно головою. Кажется, все устраивается
как нельзя лучше, но неясная тревога не покидала меня, когда я подписывал
распоряжение об откомандировании Трофима в поле.
-- Когда же ты успел договориться с Трофимом? -- спрашиваю я радиста.
-- Вчера.
-- Надоело?
-- Ему с вами будет легче, а на постройке пунктов он сразу сорвется.
Мне же к осени в институт, далеко нельзя забираться.
На этом мы и закончили свой скучный день.
Вечером в эфире появился Пашка.
-- Здравствуйте, дядя Я пришел. Вы вызывали меня насчет арифметики? --
пищит он ломким голосом, явно лукавя.
-- Здравствуй, Пашка! С арифметикой ты наверняка справился! Или нет?
-- Нет. Дедушку научил, он за меня решает.
-- Ну, и хитрец! Беда, Пашка, случилась в эспедиции. У инженера вышел
из строя инструмент, работа приостановилась. Нужна твоя помощь. Найди в
тайге или в зимовье кокон паука-крестовика, в крайнем случае -- самого паука
в живом виде. Выручай! Здесь в тайге такой паук не живет.
-- А какой это кокон и где его искать?
-- Его плетет самка паука из тонкой паутины и откладывает в нем свои
яйца. В августе паучки выводятся и разбегаются, а кокон остается на месте.
Величиною он с воробьиное яйцо, ищи в сухих дуплах, под корою деревьев, под
крышей бань, на чердаках. Расспроси дедушку, он подскажет тебе, где скорее
найти. Если тебе нужно будет на день отлучиться, Плоткин договорится со
школой. Понял?
-- Понял. А если я паука не найду, тогда совсем приостановится работа?
-- вдруг спросил он.
Я догадываюсь, почему он об этом спрашивает: в случае удачи его
волей-неволей признают в штабе своим человеком, он будет знать все
экспедиционные новости. И тогда его авторитет среди мальчишек, конечно,
поднимется.
-- Да, работы остановятся, -- ответил я. -- Так уж ты не подведи меня,
постарайся... Что тебе для этого нужно?
Но вместо Пашкиного писка в трубке послышался знакомый голос штабного
радиста.
-- Пашка уже удрал. Передаю радиограмму: «Если будет найден кокон, его
доставит Шувалов. Летчика смущает высота Станового, возможно, У-2 ее не
преодолеет. Что посоветуете?»
Я предложил обойти приподнятую часть хребта Майской седловиной, по пути
сбросить нам почту, это ненамного удлинит путь.
Теперь дело за коконом и погодой.
Утром, после завтрака, каждый занялся своим делом. Я беру дневник, иду
на берег притока. Против меня галечный остров, отгороженный от большой воды
наносником у изголовья. Его середина занята переселенцами: березками да
тальничком, выбросившими раньше других нежную зелень листвы. А на краю, что
ближе ко мне, лежит мокрым пятном лед -- остаток зимней наледи. При моем
появлении с острова поднялись две желтые трясогузки. Покружились в воздухе,
попищали и снова уселись на колоде, рядом со льдом.
Казалось, ничего удивительного нет в том, что две трясогузки кормились
на острове или проводили "а нем свой досуг. Сколько птиц за день увидишь,
вспугнешь! Но тут я имел случай наблюдать интересное явление.
Часа два я сидел на берегу, склонившись над дневником. А взгляд нет-нет
да и задержится на колоде, где сидели трясогузки. «Почему они так
безразличны к окружающему миру?» -- думал я, все больше заинтересовываясь.
Всем птицам весна принесла массу хлопот. Кажется, и минуты у них нет
свободной: надо поправить гнезда, натаскать подстилки, разведать места
кормежки. А сколько времени отнимают любовные игры, да и песни -- без "их
тоже нельзя.
Вот и видишь, птицы весь день в суете.
Но эта пара, сидящая на колоде, словно не замечает весны, будто не
собирается обзаводиться потомством. Не перелетные ли это трясогузки? Тогда
их хлопоты где-то далеко впереди. Но ведь перелет уже закончился. Может
быть, это странствующие бездомники, -- тогда что их приковывает к этому
островку?
Я стал присматриваться. Пролетит ли близко шмель, вспорхнет ли бабочка,
пробежит ли по колоде букашка, кажется, ничего этого они не замечают. Только
изредка какая-нибудь из трясогузок качнет своим длинным хвостом, и все.
Вижу, к ним подсели две другие трясогузки. И сейчас же стали
быстро-быстро бегать по колоде, хватали насекомых на лету, на камнях, на
мелком наноснике и беспрерывно перекликались между собою тоненькими
голосами. Сколько поспешности в их движениях!
Несомненно, у трясогузок, сидящих на колоде, какое-то горе. Но какое?
Я уже не мог оставаться просто наблюдателем пришлось снять сапоги,
засучить штаны и перебраться на остров. Какая холодная вода! Тысячи острых
иголок глубоко вонзились в тело. Не помню, как перемахнул протоку.
Вспугнутые моим появлением, трясогузки исчезли. Но стоило мне подойти к
колоде, как они появились снова и, усевшись поблизости на камне, с заметным
беспокойством принялись наблюдать за мною. Разгадка пришла сразу, с первого
взгляда: из-подо льда, источенного солнцем, неровным контуром вытаял верхний
край старенького гнездышка, устроенного под тальниковым кустом. Вот и ждут
трясогузки, когда оно вытает все, чтобы поселиться в нем. Сколько в этом и
загадочного, и трогательного!
Трясогузки как-то по-птичьему, вероятно, догадывались, что окружающий
их мир уже живет полной весенней жизнью, что у соседей уже свиты гнезда и
они серьезно заняты будущим потомством. И, кажется, во всей округе только у
этих двух птиц еще не начиналась любовная пора. Чего они ждут? Сколько
вокруг прекрасных мест и в тени, и на солнышке, под старыми пнями, куда
лучше и безопаснее острова. Свили бы себе новое гнездышко и зажили, как все.
Но нет, не хотят. Они ждут терпеливо и, Может быть, мучительно, когда вытает
свое, хотя и старенькое, но родное жилище.
Я разбросал ногами остаток льда и освободил из него гнездо. Оно было
очень ветхое, сырое и требовало капитального ремонта Не верилось, чтобы
трясогузки поселились в нем. Ну, а если они в нем родились и первый раз в
жизни, открыв глаза, увидели эту крупную гальку, из которой сложен остров,
тальниковый куст, наносник и голубое просторное небо над ним, -- как, должно
быть, дорого для них все это!
Косые лучи солнца скользили в просветах по-весеннему потемневшего леса.
Жаркий, издалека прилетевший ветерок еле шевелил кроны, и где-то внизу, по
реке, за поворотом, бранились кулики.
Я возвращался на стоянку, находясь во власти воспоминаний о родном
крае, о далеком Кавказе.
...Стан.
Лиханов. сгорбив спину, чинит седла, смачивая слюной нитки из оленьих
жил. Василий Николаевич, навалившись грудью на Кучума, выбирает самодельной
гребенкой из его лохматой шубы пух. Увидев меня, собака вдруг завозилась,
стала вырываться, визжать, явно пытаясь изобразить дело так, будто человек
издевается над ней.
-- Перестань ерзать, дурень! Тебе же лучше делаю, жара наступает,
изопреешь, -- говорит Василий Николаевич, посматривая на морду Кучума через
плечо. -- Ну и добра же на нем, посмотрите! -- подает он мне пригоршню
пепельного, совершенно невесомого пуха.
-- А что ты хочешь с ним делать?
У Василия Николаевича по лицу расплывается лукавая улыбка. Прищуренными
глазами он скользнул по Лиханову и, будто выдавая свою заветную тайну,
шепчет:
-- На шаль собираю.
-- Кому?
-- Нине, конечно. Осенью свадьбу справлять будем, вот мы и накроем
невесту пуховым платком из тайги. Уж лучшего подарка и не придумать.
-- Это здорово, Василий! По-настоящему хорошо получится.
-- Беда вот, никак не уговорю этого дьявола, -- и он кивнул головою на
Кучума. -- Силен бес, того и гляди уволочет в чащу.
-- А ты сострунь его...
-- Не за что, -- и лицо Василия Николаевича размякло от жалости. --
Разве провинится, ну уж тогда походит по "ему ремень. Как думаешь, Кучум?
Пес прижал уши, глаза прищурил, явно готовится взять реванш. Я молча
подаю ему знак, дескать, пробуй. И действительно, стоило Василию Николаевичу
повернуться, как Кучум, словно налим, выскользнул из-под него, перемахнул
через груз, "а крытый брезентом, и поминай как звали.
Василий Николаевич вскочил, кинулся было догонять, но, споткнувшись о
колоду, остановился.
-- Никуда не денешься, придешь. А шаль Нине будет на славу.
Уже полдень. Неподвижен воздух, густо настоенный хвоей. После долгой
зимней стужи, после холодных туманов земля распахнула отогретую солнцем
грудь, чтобы вскормить жизнь.
-- Ну как с паутиной? -- спрашиваю я Геннадия, забираясь к нему в
палатку.
-- Пока все по-прежнему. Макарова утром натягивала нити искусственного
шелка, но они оказались толстыми.
-- Из штаба есть что?
-- Официально ничего. Радист говорит, не могут найти кокой. Весь город
обшарили, два пионерских отряда работают, с ног сбились. Премию установили
двести рублей за кокон. А Пашка как ушел в тайгу, так до сих пор ничего о
нем не известно.
-- Тогда нам тут надо искать кокон и везти Макаровой. Неужто ей
дожидаться лета? С ума сойдет девка без работы, -- вмешался в разговор
Василий Николаевич. -- Сколько километров до нее Отсюда? -- спросил он,
обращаясь ко мне.
-- Для пешехода побольше трехсот.
-- Можно рискнуть пешком с котомкой, -- и он вопросительно взглянул на
Улукиткана. -- Так, пожалуй, надежнее будет. Как думаешь?
-- Советоваться надо. Один голова -- голова, два голова -- еще лучше.
Человек должен друг другу в беде помогать.
До темноты все мы были заняты поисками паука-крестовика и, конечно,
безуспешно. Тем сильнее росло беспокойство за судьбу подразделения
Макаровой. Да и вечером ничего утешительного не принесло радио. Так и уснули
без надежды на успех.
Утром меня разбудил Геннадий.
-- Пашка-то ваш отличился, дьяволенок, читайте, -- сказал он, подавая
мне журнал.
-- «Молния... Час назад Пашка доставил из тайги паутину. Самолет готов.
При наличии в вашем районе благоприятных условий может вылететь. Обяжите
начальников северных партий давать через каждый час погоду. Разрешите
отправить Королева ваше распоряжение. Плоткин».
У всех повеселели лица. Василий Николаевич выглядывает из палатки,
вертит по сторонам головой.
-- Горы в облаках. Как думаешь, Улукиткан, без ветра не прояснит? --
спрашивает он.
Тот тоже выглянул, пощупал теплыми руками землю, насторожил слух.
-- Однако, сам бог не знает, что будет в такой день. Может дождь
упасть, может появиться солнце -- примет никаких нет.
-- Соедини меня со штабом по микрофону, -- прошу я Геннадия.
Через пять минут я говорил с Плоткиным.
-- Здравствуйте, Рафаил Маркович! Расскажите, что за паутину привез
Пашка, сколько? Хорошо бы поподробнее.
-- Паутину привезли всем семейством: дед Гурьяныч, бабушка, Пашка.
Всего три кокона. «Куда это вы столько? -- говорю им. -- Ведь нам нужно
паутины всего лишь с четверть метра, а тут на тысячу инструментов хватит».
-- «Это еще не все» -- и дед с Пашкой стали вытаскивать из карманов
спичечные коробки с пауками. Дед показывал мне пауков, пойманных в
заброшенном зимовье, в дупле старой сосны. Есть даже зимовавшие под стогом
сена. Гурьяныч боялся, что не все они одинаковую паутину прядут, вот и
рассадил их по коробкам. А все это дела Пашки. Старик доволен им, прыткий,
говорит, он у нас, на все руки! Ружьишком бы ему пора обзавестись, да никак
деньжонок не накопим. Что же делать с пауками? Их одиннадцать, все
крестовики.
-- Один кокон отправьте Макаровой, остальные оставьте в штабе, --
отвечаю я. -- Пауков отпустите на волю, но Пашке скажите, что всех отослали
в тайгу. Не следует разочаровывать парнишку. Выдайте ему триста рублей через
дедушку, в приказе объявите благодарность. От всех нас передайте Пашке
спасибо, молодец, выручил! Сейчас запросим соседние станции о состоянии
погоды, сообщим вам. У нас низкая облачность, горы закрыты.
Связываемся с партиями Сипотенко и Лемеша. На участке Макаровой лежит
плотный туман, моросит дождь. Все идет не так, как надо: то беспокоились,
что не найдем паутины, а теперь нет уверенности, что дождемся летной погоды.
-- Вот и получается: хвост вытащишь -- нос завязнет; нос вытащишь --
хвост завязнет, а дело ни с места! -- грустно говорит Василий Николаевич.
Я радировал Плоткину: «Погоды нет. Машину держите в полной готовности.
Северные радиостанции дежурят весь день. Вам держать с нами связь через
каждые тридцать минут. Если полет состоится, вышлите газеты, письма нам и
подразделению Пугачева, летчик сбросит их на обратном пути, если хватит у
него бензина. Наш лагерь недалеко от маршрута самолета и будет обозначен
большим дымным костром».
Лемешу радировал обеспечить посадку самолета, подвезти к площадке
бензин.
В два часа пошел дождь. Затух костер. Крепко уснули собаки. Погода
окончательно испортилась, пришлось отпустить радистов и отложить полет до
утра.
К вечеру потянул холодный низовик. Всполошилась чутко дремавшая тайга.
-- Хуже всего ожидать или догонять, -- говорит Василий Николаевич.
-- К ночи ветер хорошо; в лесу много шума -- тоже не плохо, -- говорит
Улукиткан.
-- К погоде, что ли? -- спросил я, посмотрев в даль-кий уголь палатки,
где сидит старик за починкой олочей.
Он приподнял маленькую голову, помигал глазами от света и почесал бок.
-- Когда ухо слышит шаги зверя, по ним можно догадаться, кто идет:
сохатый или медведь. Если глаза смотрят на тучу, они должны знать, что не из
каждой падает дождь.
В двадцать два часа Плоткин вызвал меня к микрофону.
-- Синоптик обещает на завтра летный день, -- сказал он. -- С севера на
запад идет антициклон. Прошу дать сводку погоды к шести утра.
-- С Пашкой рассчитались?
-- Еще утром. Обрадовался, ведь это его первый заработок. Деньги
получила сама бабушка. Приятная старушка и, как видно, строгих правил.
Старику дала три рубля, Пашке несколько монет и уехала сама в зимовье. А
дедушка Гурьяныч с Пашкой вышли на улицу, уселись на скамеечке и, как
сиротки, долго сидели молча. Видно, старушка расстроила их планы, не так
распределила заработок. Вечером дедушка зашел ко мне на квартиру, говорит,
что они с внуком были за ружье, а старушка как оглохла, повернула деньги на
одежину. Конечно, тоже нужно. Спрашивал, нет ли у нас старенького дробовика,
хотя бы ствол. Говорит, парнишка пристрастился к охоте, а стрелять не из
чего.
-- Если на складе найдете что-нибудь подходящее из старых одностволок,
выдайте ему, -- сказал я. -- Только, прошу вас, не балуйте Пашку, чтобы он
не бросил школу, да и дедушка пусть будет с ним построже.
В полночь к нам в ущелье заглянула луна. Небо украсили редкие звезды.
Тучи ушли к горизонту. Замер, не шелохнется старый лес. Но в эту пору
весеннего обновления невольно ощущаешь его дыхание, чувствуешь, как он
свежеет весь и пробуждается от долгого зимнего сна. Хорошо сейчас в тайге!
В десять часов самолет поднялся в воздух. Пилот Шувалов вел его к
Становому, затем стал обходить высокую часть хребта с востока. На борту
находился необыкновенный груз -- паутиновый кокон весом менее грамма. Мы все
дежурили у костра. Столб дыма, поднявшись над ущельем, должен быть виден
далеко. Небо, всполоснутое дождем, ярко голубело. Гольцы с одной стороны
политы ярким светом солнца, с другой -- покрыты тенью, и от этого заметнее
выделяются и изломы и линии отрогов.
Но вот у дальнего горизонта появляется точка не то коршун, не то
самолет -- не различишь. До слуха долетает гул мотора.
Машина обходит нас далеко стороною, поворачивает на восток и исчезает в
далекой синеве неба. Мы с Геннадием усаживаемся за аппарат.
-- Рулф... Рулф... Я Пост... Я Пост... -- вызывает радист Макарову. --
Как слышите меня, отвечайте!
-- Я Рулф... Я Рулф... Слышу хорошо, что есть у вас, давайте. Прием.
-- Кедровка пролетела хребет, идет к вам. Больше дыма, иначе не
найдет... Расставьте по гольцу людей как можно шире для приема груза.
-- Понятно, все сделано, ждем.
Проходит более часа. Мы дежурим у микрофона.
-- Видим кедровку, -- вдруг врывается в трубку знакомый голос радиста.
-- Разворачивается над нами. Выбросила полотнище черной материи, вероятно, с
паутиной. Уходит обратно.
-- Передавайте кедровке спасибо, выручила, -- доносится звучный голос
Макаровой.
-- Кажется, все, -- сказал облегченно Геннадий, снимая наушники и
выпрямляя спину, словно после тяжелой ноши.
-- Братцы, за топоры, надо же действительно поблагодарить Шувалова, --
кричит Василий Николаевич, выскакивая из палатки и увлекая всех за собою.
А вокруг теплынь. Ликует жизнь. Высоко над нами дует медленный ветер.
Океанским прибоем шумят вершины старых деревьев. Много солнца и света. Небо
после ненастья кажется прохладным.
Самолет вынырнул из-за ближнего гольца и внезапно оказался над нами.
Люди бросают вверх шапки, кричат, но гул мотора глушит их голоса.
На галечной косе, рядом с палатками, Василий Николаевич с товарищами
сделали крупную надпись из еловых веток: «От всех спасибо! Слава комсомолу!»
Летчик сбрасывает пакет с письмами, газетами, качает крылом, и машина
уходит на юг.
Геннадий снова у аппарата.
-- Кедровка прошла нас, обеспечьте посадку, -- кричит он в микрофон
радисту Лемеша и тут же начинает принимать радиограмму.
По его лицу догадываюсь: что-то случилось страшное. Наклоняюсь к
журналу.
«С боковых гор неожиданно пришла большая вода, затопила косу, --
сообщает Лемеш. -- Посадка еще возможна только у кромки леса. Рубим подход.
Мобилизован весь состав, но раньше чем через два часа посадку обеспечить не
сможем».
-- Кедровка имеет горючего максимум на час, -- отвечаю я в микрофон. --
Любой ценою обеспечьте посадку. Срочно осмотрите ниже вас косу. В случае
безвыходного положения сигнализируйте кедровке -- пусть действует по своему
усмотрению. Вы отвечаете за ее жизнь.
События нарастали быстро. Судя по отрывочным сообщениям, к моменту
появления самолета над лагерем Лемеша площадка еще не была готова. Лес
медленно отступал под ударами топоров. Люди выбивались из сил. Вода заливала
край косы, на которой должна была сесть машина. Катастрофа казалась
неизбежной. Мотор уже заглатывал последние капли бензина. У летчика уже не
оставалось времени для размышления, и он решился на отчаянный шаг...
Развернув самолет, Шувалов нырнул в просвет между высоких лиственниц,
«прополз» брюхом по стланику и, сбив скорость, хлюпнулся на край косы. Мотор
заглох, но машина уже бежала на колесах по гальке, все глубже зарываясь в
воду.
«Это было сделано со спокойствием человека, умеющего владеть собой и
держать штурвальное колесо в такие минуты, -- рассказывал вечером Лемеш. --
Когда мы помогли Шувалову выбраться из кабины, он был бледный, растерянный,
но улыбался. Этот человек только что смотрел в глаза смерти. Машину выкатили
из воды, привязали к дереву. После осмотра она оказалась исправной,
пострадал только хвостовой костыль, сейчас чиним его. У нас похолодало. К
утру вода должна спасть, и машина будет отправлена со старой площадки».
Так закончился этот напряженный день, принесший всем нам столько
тревог. Теперь можно было подумать и о своем пути. Решаем завтра выступать.
Наутро, когда были сняты палатки и сложены вьюки, я вспомнил, что в
моем дневнике остались незаконченными записи позавчерашних наблюдений за
трясогузками. Изменилось ли их «настроение», когда они увидели освобожденное
из-под снега гнездо? Я вышел на берег Джегормы. Остров пустовал: ни
трясогузок, ни куликов. Пришлось перебрести протоку -- иначе я унес бы с
собою неразгаданный вопрос.
Гнездо оказалось «отремонтированным», и б нем, на скудной подстилке,
уже лежало крошечное яйцо. Хозяева, видимо, улетели кормиться или проводят
утро в любовных играх.
Девятого июня самолет доставил из Зеи Трофима на ближайшую косу. Наша
встреча была трогательной. Мы радовались, что он здоров и разделит с нами
трудности походной жизни. Геннадий с этой машиной улетел в штаб.
На следующий день в десять часов мы тронулись в далекий путь к
невидимому Становому.
Пробираемся с караваном вдоль Зеи. Тут сухо. Но чаща пропускает нас
вперед только под ударом топора. Это не нравится Улукиткану. Хочется ему
попасть к подножью гор, которые справа от нас.
-- Может, там звериный тропа есть, пойдем, -- говорит он, сворачивая из
зарослей.
Но за краем берегового леса нас встречает топкая марь, захватившая
почти все ложе долины. Только изредка видны на ней узкие полоски перелесков
Олени грязнут, тянутся на поводке, заваливаются. Слышится крик, понукание,
угрозы. Все же добираемся до середины мари, а дальше -- болота, затянувшие
марь зеркальной гладью. На подступах к ним вырос густой непролазный
троелист. Улукиткан опускает палку в воду, но дна не достает. Покачав
головой, прищуренными глазами осмотрев местность и не увидев конца болотам,
молча поворачивает обратно к реке.
На берегу передохнули, и караван тронулся дальше. Теперь нас
сопровождает отвратительный гул паутов. На оленей нельзя смотреть без
сожаления. Бедняжки, связанные ремнями друг с другом, да еще тяжело
навьюченные, они не имеют возможности защищать себя. А пауты наглеют,
садятся на голые спины, на грудь, к нежной коже под глазами. В муках
животные быстро теряют силы. Падают уши, из открытых ртов красными лоскутами
свисают языки.
Улукиткана не покидала мысль перевести караван через марь к подножию
гор. В поисках прохода он вел нас стланиковой чащей вдоль высокоствольного
берегового леса.
Солнце дышало зноем. Все затаилось, молчало. Только гул реки сотрясал
воздух.
Старик неожиданно остановил караван и, низко пригибаясь к земле, стал
что-то рассматривать. Вдруг он схватил повод и повернул оленя обратно в лес.
-- Все уходи отсюда, скоро уходи! -- кричал он, поторапливая животных и
оглядывая равнину с заметным беспокойством.
Но там ничего подозрительного не было заметно. Лишь кое-где на мари
неподвижно торчали засохшие лиственницы, да видны были горбы земли,
выпученные вечной мерзлотою. Однако беспокойство старика заразило нас, и мы,
слепо следуя за ним, скрылись в лесу.
На первой прогалине караван приткнулся к толстой лиственнице. Кажется,
со всей тайги слетались пауты. Никогда они не были такими свирепыми, как в
этот знойный полдень. Олени безвольно попадали на землю и уже не
сопротивлялись.
Пока мы с Улукитканом сбрасывали вьюки с оленей, остальные таскали
валежник и мох. Дым костра отпугнул от стоянки паутов. Но животные
продолжали лежать в полном изнеможении.
-- Что испугало тебя, Улукиткан? -- спросил я.
-- Ты разве ничего не видел? Там новую тропу сокжой топтал -- совсем
свежий, сегодняшний.
-- Надо было ею и идти через марь.
-- Обязательно пойдем, зверь лучше нас знает, как болото обойти.
-- Зачем же вернулся?
Тот удивленно посмотрел на меня.
-- Может, ты на охоту пойдешь? Сокжой сейчас на гору побежал, скоро к
речке вернется, потом опять на гору побежит, и так весь день, туда-сюда...
Минута не стоит. Шибко худой время для зверя! Иди с ружьем на Зею.
Был полдень. Жара спадет не раньше как часам к пяти, тогда успокоится и
паут. Раньше нечего и думать трогаться в путь. Я решил воспользоваться
предложением Улукиткана, посмотреть, как ведет себя дикий олень в эти жаркие
июньские дни. Натягиваю на голову накомарник, беру карабин и тороплюсь к
реке.
-- Не забывай, в такую жару зверь немного слепой, немного глухой,
только нос правильно работает, -- напутствует меня старик.
Крадучись выхожу на береговую гальку и осматриваюсь. Зея,
стремительная, гневная, проносится мимо, разбивая текучий хрусталь о груди
черных валунов. Тонкие, стройные лиственницы столпились на берегу и смотрят,
как весело пляшут буруны на перекатах, как убегает в неведомую даль шумливая
река.
Ниже меня небольшая заводь, прикрытая желтоватой пеной. А еще ниже, у
поворота, заершился наносник из толстых деревьев, принесенных сюда в
половодье. Стоит он прочно на струе, расчесывая космы бурного потока. А за
рекой, на противоположной стороне, поднялись отроги, и по ним высоко побежал
непролазной стеной лес. Там, в высоте, на дикой, каменистой земле, он
хиреет, сохнет, пропадает.
На берегу реки в тихий солнечный день нет прохлады. Пауты наглеют,
жалят сквозь рубашку и, кажется, сотнями иголок, тупых и ржавых, сверлят
тело. Я не успеваю отбиваться, а укрыться негде. В тени они еще злее.
Вдруг впереди, за ельником, загремела галька. Глаза мои останавливаются
на узенькой полоске береговой косы. Я не успеваю скрыться, как к реке
выскакивает огромный олень, уже вылинявший, рыжий. Пришлось так и замереть
горбатым пнем возле ольхового куста, на виду у него. Левая нога отстала и
осталась висеть, руки застыли на полувзмахе.
Вижу, сокжой бежит по косе, наплывает на меня. Ноги вразмет, гребет ими
широко, во всю звериную прыть. Но корпус уже отяжелел от долгого бега, из
широко раскрытого рта свисает длинный язык. Вот он уже рядом. «Неужели не
видит?» -- проносится в голове. Но зверь вдруг, глубоко засадив ноги в
гальку, замирает в пятнадцати шагах. Какой редкий случай рассмотреть друг
друга! Каюсь, не взял фотоаппарата, хотя снять зверя невозможно в этом
молчаливом поединке: малейшее движение -- и он разгадает, что перед ним
опасность.
Я не дышу. Даже боюсь полностью раскрыть глаза. А два проклятых паута,
один на носу, другой над бровью, больно, до слез, жалят тупыми жалами. Но
нужно терпеть, иначе не рассмотришь зверя. А он стоит предо мною,
позолоченный жарким солнцем, огромный, настороженный, красивый, и тоже,
кажется, не дышит.
В его застывшей позе страх перед неразгаданным. В другое бы время ему
достаточно одного короткого взгляда, теперь же он зря пялит на меня свои
большие глаза, торчмя ставит уши: все в нем парализовано бешеным натиском
паутов. Хотя эта сцена длится всего несколько секунд, но мне их достаточно,
чтобы на всю жизнь запомнилась поза настороженного зверя.
Какое счастье для натуралиста увидеть в естественной обстановке, так
близко, оленя именно в том возрасте, когда от него так и разит силой, дикой
вольностью! А ведь, черт возьми, если бы не пауты, разве представилось бы
мне это редчайшее зрелище? Испытывая муки от их укусов, я в то же время
благодарил проклятых насекомых.
Внешние черты этого самца как-то особенно резко выражены: в упругих
мышцах, в откинутой голове, в раздутых докрасна ноздрях живет что-то
властное, непримиримое. А сам он весь кажется вылитым из красной меди. Будто
великий мастер выточил его пропорциональное тело, изящные ноги. Только
почему-то не отделал до конца ступни, так и остались они несоразмерно
широкими, тупыми, очень плоскими. Что-то незаконченное есть и в голове
сокжоя. Мастер, кажется, нарочно оставил ее слегка утолщенной, чтобы не
спутать с заостренной головой его собрата -- благородного оленя. Но какие
рога! Хотя они еще не достигли предельного размера, их отростки еще мягкие,
нежные, обтянуты белесоватой кожей, но и в таком, далеко не законченном,
виде они кажутся могучими и, может быть, даже чрезмерно большими по
сравнению с его длинной, слегка приземистой фигурой. Из всех видов оленей
сокжой носит самые большие и самые ветвистые рога.
Зверь, словно опомнившись, трясет в воздухе разъеденными до крови
рогами и с отчаянием, перед которым отступает даже страх, проносится мимо
меня, так, видимо, и не разгадав, что за чудо стоит у ольхового куста! Я
вижу, как он в беге широко разбрасывает задние ноги, как из-под плоских
копыт летят камни. И, кажется, уже ничего не различая впереди, зверь со
всего разбега валится в заводь. Столб искристых брызг поднимается высоко, и
на гальку летят клочья бледно-желтой пены.
Теперь только я успеваю укрыться за кустом. Мне никогда не приходилось
видеть, как купаются в реке звери.
Сокжоя почти не видно за пылью взбитой воды, мелькают только рога да
слышится глухой, протяжный стон, не то от облегчения, не то от бессильной
попытки стряхнуть с себя физическую боль. Но вот звуки оборвались,
успокоилась заводь. Вижу, сокжой стоит по брюхо в воде, устало пьет и
беспрерывно трясет то своей усыпанной блестящей пылью шубой, то могучими
рогами. Даже в реке его не оставляют пауты. Он начинает злиться, бить по
воде передними ногами и неуклюже подпрыгивать, словно исполняя какой-то
дикий танец.
Но всему, кажется, есть предел. Зверь вдруг выскакивает на берег, опять
ищет спасение в беге. Я мгновенно поворачиваюсь к нему, ложе карабина
прилипает к плечу.
Грохочет выстрел. В знойной тишине копотко огрызается в ответ
правобережная скала. Пуля, обгоняя сокжоя, взвихривает пыль впереди него.
Это мне и нужно! Зверь круто поворачивает назад и, охваченный страхом,
несется на меня.
Глаза тревожно шарят кругом, ноги готовы вмиг отбросить в сторону
тяжелый корпус.
Теперь все подозрительное вызывает в нем страх Увидев меня, он
бросается в реку, огромными прыжками скачет через заводь и теряется в бурном
потоке Зеи. А над косой носятся обманутые пауты, не понимая, куда девалась
их жертва. Сокжой, благополучно миновав наносник, выбирается на крутой
противоположный берег и исчезает в зеленой чаще леса.
Пора возвращаться. Солнце сушит позеленевшую землю. В полуденной истоме
млеет тайга. Ни птиц, ни звуков, даже комары присмирели. Стрекозы бесшумно
шныряют в горячем воздухе.
В лагере тоже покой. Стадо отдыхает, плотно прижавшись к дымокурам.
Люди под пологами пьют крепкий чай.
В четыре часа по долине вдруг пробежал ветерок, встревожился лес,
повеяло прохладой. Олени, разминая натруженные спины, разбрелись по лесу.
Через два часа наш караван уже пробирался по чаще и болотам.
Предположение Улукиткана оправдалось: тропа, проложенная сокжоем,
помогла нам благополучно перейти марь, выйти к подножью левобережных гор,
образующих долину Зеи. Как только под ногами оказалась сухая земля,
проводники повеселели. Николай запел, растягивая однотонные звуки. А
Улукиткан взобрался на своего оленя и, покачиваясь в седле, покрикивал
ободряющим голосом на животных.
...Мы продолжаем продвигаться на север. Долина остается просторной. Зея
на всем своем протяжении течет ее правой стороной, стачивая спадающие к ней
крутые отроги гор.
На второй день в полдень мы поднялись на небольшую возвышенность.
Наконец-то видим Становой! Его скалистые гряды протянулись перпендикулярно
направлению долины, как бы преграждая нам путь. Хребет, когда на него
смотришь с юга, кажется грандиозным и недоступным.
По небу бродят, как хмельные, облака. Это опять к непогоде. Улукиткан
торопится. Непременно хочет сегодня добраться до устья Лючи и успеть до
дождя переправиться на правый берег этой быстрой речки.
Когда нет солнца, когда тучи давят на горы и шальной ветер рыщет по
тайге, неприветливо бывает в этом пустынном крае. Нет здесь цветистых полян,
красочных лужаек. Даже летом ваш взгляд не порадуют заросли маков, огоньков,
колокольчиков. Открытые места хотя мы и называем их полянами, не то, что
обычно понимается под этим словом. Их глинистая почва почти никогда не
прогревается солнцем, тут вечная мерзлота, поэтому и растительный покров на
ней очень беден. Ерник, кочки, обросшие черноголовником, да зеленый мох --
вот и все. И всюду вода. Она образует или сплошные болота, затянутые
троелистом, или сети мелких озеринок. Сама же тайга, покрывающая три
четверти долины, редкая, захламленная, деревья низкие, комелистые, корявые.
Все это: и кочки, и мох, и стылые озера, и горбатые скелеты лиственниц,
склонившихся в последнем поклоне, делают картину суровой. Только стланики
здесь благодушествуют!
Наши голоса, крик Майки, треск сучьев под ногами оленей непривычно
отдаются в застойной тишине.
Мы выходим на широкую прогалину и слева у реки видим дымок. Вот уж
этого никак не ожидали!
-- Какой люди тут живут? Однако, ваши. Эвенк зачем сюда придет? -- в
раздумье говорит Улукиткан.
-- Здесь где-то должно быть подразделение реконгносцировщика Глухова.
Может быть, он?
-- Ваши или наши -- нужно заехать, -- вмешивается в разговор Трофим, и
мы направляемся к реке через кочковатую марь.
Собаки прорываются вперед, но быстро возвращаются, значит, там чужие.
Кто же это может быть?
С трудом выбираемся к реке. На берегу, под толстой лиственницей,
дымится костерок, рядом с ним, подпирая спиной ствол дерева, сидит молодой
парень. Он что-то достает из тощей котомки, кладет в рот и лениво жует. Во
взгляде, которым он встретил нас, полное равнодушие. Он даже не встал, будто
ему было лень пошевелить длинными ногами. Кучум подошел к нему, бесцеремонно
обнюхал, посмотрел нахально в глаза и, решив, что человек свой, лег рядом.
Это был рабочий из нашей экспедиции. Мы его сразу узнали.
-- Здорово! Откуда идешь? -- спросил его Василий Николаевич.
-- Откуда бы ни шел -- там меня уже нет.
-- Ишь ты, ершистый какой, и здороваться не хочешь? Звать-то тебя как?
-- Ну, Глеб...
-- Имя подходящее. Что же ты тут делаешь?
-- Вчерашний день ищу.
-- Да ты, парень, опупел, что ли, делом спрашиваю -- куда идешь? --
повторяет сдержанно Василий Николаевич.
-- В жилуху... -- бурчит недовольно тот.
-- Видать, широко шагаешь, штаны порваны да и подметок не осталось, --
говорит ему Василий Николаевич и оборачивается ко мне. -- Останавливаться
придется, чего-то неладное с парнем. Да и время уже обедать.
Мы быстро развьючиваем оленей, но животные не идут кормиться, так и
остаются возле дымокуров. Меня очень встревожила эта неожиданная встреча. В
поведении Глеба какая-то странность. Не случилось ли чего в подразделении?
Разные мысли полезли в голову.
-- Ты у Глухова работал? -- спрашиваю я.
-- У него.
-- Где же он сейчас?
-- По речке Лючи двинулся вверх.
-- Разве на Окононе закончили работу?
-- Кончили, иначе не поехал бы на Лючи.
-- А ты почему не пошел с отрядом?
-- Ну чего пристали? Не пошел, и весь сказ. Что я, пленный, что ли?
Глеб молча встал, расшевелил ногою костер и, не поднимая головы, уперся
взглядом в огонь. В позе упрямство. Длинные руки кажутся ненужными, он не
знает, куда их деть. Ноги тонкие, слабые. Лицо до крови изъедено комарами.
Достаточно взглянуть на носки развалившихся сапог, перевязанных веревочкой,
на разорванную штанину, чтобы увидеть беспомощность этого человека.
-- Как же это ты, собравшись в такую дальнюю дорогу, не запасся шилом,
дратвой и иголкой для починки, ведь через пять километров будешь голый и
босый?! -- спрашивает Василий Николаевич. -- И неужели ты думаешь, что
отсюда можно человеку, не знающему местности, выбраться?
-- На плоту уплыву... -- упрямится тот.
-- На плоту? А знаешь ты, как вяжется плот и можно ли по Зее плыть? За
первым поворотом пропадешь,
-- Э-э, какой люди! -- возмущается Улукиткан. -- Куда идет -- не знает,
что слепой. Тут дурной тайга, кричи, зови, никто не придет...
-- Зачем ты ушел от Глухова? Что, произошло у вас?
-- Говорю -- ничего, ушел и все!
-- Чего вы к парню пристали? -- улыбается Трофим. -- Сейчас пообедаем,
настроение у него исправится, он и сам все расскажет.
Пока готовили обед, я заглянул в его рюкзак и поразился, с каким
мизерным запасом продовольствия этот человек решил пересечь огромное
пространство, отделяющее его от населенных мест! Пригоршни три хлебных
крошек, две банки мясных консервов, узелок соли и три кусочка сахару не
первой свежести -- вот и все. Ни топора у него нет, ни котелка, ни ложки, ни
лоскута для заплаток. Только безумец мог решиться на такой шаг. Или какие-то
особые обстоятельства заставили его внезапно бежать из лагеря, прихватив что
попалось под руку.
-- Как же ты, Глеб, хотел сделать плот? -- спрашиваю я. -- Ведь у тебя
и топора нет!
-- Натаскал бы валежника...
-- Из валежника плоты не вяжут, сразу на дно пойдешь. Нужен сухостой, а
его без топора не возьмешь. Глеб молчит, но взгляд его отмяк.
-- Может, закурить дадите? -- говорит он просящим, извиняющимся тоном.
-- Давно бы так, а то лезешь поперек. Садись рядом. С хорошим человеком
приятно посидеть, -- приглашает Василий Николаевич. -- Вот тебе кисет,
закуривай. Бумажка есть?
-- Ничего у меня нет...
-- Ну и путешественник! Сколько тебе лет?
-- Восемнадцать.
-- Внуки есть?
От неожиданности Глеб смеется, широко раскрывая зубастый рот.
-- Да ты ведь веселый парень, чего притворяешься! -- и Василий
Николаевич протягивает ему сложенную узкой лентой газету.
Все стали сворачивать цигарки.
Не курил Глеб, видимо, долго. Глотает дым жадно и рассматривает нас
помутневшими глазами.
Нам ничего не оставалось, как взять его с собою, независимо от того,
хочет он этого или нет. Хорошо, что все так удачно сложилось, иначе он погиб
бы, не пройдя и одной трети намеченного расстояния, -- развязка настала бы
куда раньше: тайга безжалостна к беспомощным!
После обеда мы сразу стали готовиться в путь. Животные так и не
покормились. В лесу предгрозовая духота и комариный гул. Я предложил Глебу
привязать свою котомку на вьюк оленя, еще не зная, как он будет реагировать
на наше решение взять его с собою. Парень повиновался.
По молчаливому сговору он стал нашим спутником.
Трудно поверить, чтобы здравомыслящий человек мог рискнуть отправиться
отсюда один, не зная пути, без продуктов. Вечером я дам распоряжение Лемешу
срочно посетить подразделение Глухова и выяснить обстоятельства, при которых
ушел от него Глеб.
Было пять часов, когда караван добрался до отрогов и взял направление
на Становой.
Глеб отставал, и нам часто приходилось останавливаться, дожидаться его.
Какое-то удивительное равнодушие жило в этом парне.
-- Ты пошевеливай ногами, всех задерживаешь, -- кричит ему Василий
Николаевич.
Но ему хоть бы что!
Тучи несли на могучих плечах дождь, воздух холодел. Далеко над хребтом
сверкала молния.
Улукиткан с опаской поглядывал на небо, поторапливал уставших животных.
-- Ему непременно хотелось дотащиться до устья реки Лючи, там и место
затишнее, и хороший корм для оленей. Вот караван вынырнул из высокоствольной
береговой тайги, прошел краем горы и уперся в отрог, обрывающийся небольшой
скалой у реки. Это и было устье Лючи.
Старик соскочил с оленя, стал что-то рассматривать под ногами. Мы
подошли к нему.
-- Два-три дня назад тут люди ходи с оленями.
-- Это наш отряд... Мы тут ночевали на острове... -- пояснил Глеб.
Поскольку нам все еще оставались неизвестными обстоятельства,
заставившие Глеба сбежать из подразделения, я попросил Улукиткана проехать
верхом следом Глухова и узнать, действительно ли он ушел вверх по Лючи. А
сами мы с караваном остановились на берегу реки, как раз против устья, где
она сливается с широким шумным потоком Зеи.
Междуречье у слияния рассекается рукавами этих рек на несколько
островов, заросших вековою тайгой, с высокими наносными берегами.
Посоветовавшись, мы решили перебрести Лючи и на одном из островов приютиться
на ночь. В этом была своя прелесть: на острове всегда меньше гнуса и больше
прохлады, да и сон здоровее. О большем мы и не мечтали.
Черная туча прикрыла солнце. Низовой ветер взрыл Зею, наделал беляков,
бросая на остров холодную речную пыль, гнул податливый тальник и трепал
зубчатые вершины старых лиственниц.
На острове мы наткнулись на стоянку Глухова, с небольшим балаганом из
коры, под которым у него до этого хранился груз. Быстро развьючили оленей и
стали ставить палатки. Работы хватало всем. С гор уже спускалась мутная
завеса непогоды.
-- Ты что же, Глеб, под балаган залез, уже разулся! Бери топор, руби
колышки и помоги Трофиму палатку натянуть, да поторопись, видишь небо-то...
-- Скоро собаки блох ловят, -- огрызнулся Глеб, но топор взял и пошел к
тальнику, нехотя переставляя босые ноги.
-- Молодой, а лентяй. Для себя сделать не хочет, -- бросил ему вслед
Трофим.
Когда палатки (без помощи Глеба) были поставлены и груз накрыт
брезентом, из-за реки донесся крик. Мы выскочили на берег. Это Улукиткан. Он
кричал, угрожающе махал нам палкой и гнал рысью оленя, усердно подбадривая
его ногами. «Неужели он что-то страшное обнаружил на следу Глухова?» --
мелькнула у меня мысль. Я взглянул на Глеба, но лицо его выражало полное
спокойствие.
Старик с ходу перемахнул реку и, не слезая с оленя, стал что-то
доказывать Николаю на своем языке тыкая палкой в небо.
-- Вы какой люди, слепой совсем, смотри, дождь в горах, вода большой
придет, зачем остров остановился, пропадай хочешь? Разве другой места нет?
-- кричал старик, тараща на меня гневные глаза.
-- Да что ты, Улукиткан, этот остров стоит сотни лет, посмотри, какие
толстые лиственницы выросли на нем? Неужели ты думаешь, вода так высоко
может подняться?
-- Человеку дана голова, думай надо, что, почему. Ты смотри хорошо, эта
протока новый, теперь вода большой придет, остров будет драть! Надо скорей
назад ходи... Когда старик раздражался, он выговаривал русские слова с
трудом, терял окончания, но мы понимали его. Николай с Трофимом бросились
собирать оленей, мы свернули палатки и, побросав на спины животных груз,
бежали с острова на материк.
-- А ты, Глеб, почему не обуваешься? Вставай, надо уходить, --
предложил я ему.
-- Успею, а не то и тут переночую, балаган хороший.
-- Без разговоров! Обувайся и догоняй!
Мы перебрели Лючи и сразу же на берегу остановились под защитой толстых
лиственниц. Отяжелевшие тучи нависли грозной стеной. Надо было как можно
скорее ставить палатки. Застучали топоры, забегали люди. Ветер с высоты уже
хлестал полотнищем холодного дождя, слепил глаза, вырывал из рук палатку.
Больших усилий стоило нам организовать ночевку.
Глеб так и не пришел. Мы возмущались, не зная, чем объяснить его
поведение. Улукиткан не выдержал, поймал своего оленя, погнал его через реку
на остров. Он лучше нас понимал, что сулят после жаркого дня черные тучи и
что станет с рекою, когда с гор хлынет дождевая вода.
Мы, мокрые, замерзшие, уже сидели в палатке, когда распахнулась черная
бездна и оттуда брызнул пугающий свет молнии, на миг озарив угрюмые лица
людей стволы лиственниц и грозные овалы туч. Могучие разряды грома, потрясая
долину, гулко прокатились по лесу, и тучи опустили к земле дождевые хвосты.
Улукиткан вернулся один. С его одежды ручьем стекала вода, он посинел
от холода и еле ворочал языком.
-- Какой худой люди: я ему шибко хорошо говорил -- уходи надо, он, как
глухой, не понимай.
-- А ты бы балаган разломал, он бы и пошел, -- сказал Василий
Николаевич с досадой.
-- Э-э, если голова худой -- сила не помогает, -- ответил тот,
сбрасывая с плеч мокрую телогрейку и закутываясь в дошку.
-- С черта вырос, а ума не нажил!.. -- буркнул Трофим.
За палаточной стеною, по черной притихшей тайге, по скалистым ущельям
хлестал косой ливень. Ветер с диким посвистом налетал на лес, расчесывая
непослушные космы лиственниц, в клочья рвал воду в реке, завывал в дуплах
старый тополей. А по горам гуляли чудовищные раскаты грома.
-- Вот он -- приветственный салют Станового!
Ночь навалилась густой чернотой. В палатке тихо, никто не спит,
притаились, словно ожидая чего-то, еще более ужасного. Сколько силы несет в
себе стихия!
С трудом верилось, что после этой страшной бури останется жизнь в
горах, да и сами горы.
Кто-то чиркнул спичкой, закурил. Далеким огоньком засветилась в темноте
цигарка. Люди словно онемели, -- у каждого свои думы. Я перелез через чьи-то
ноги, через ворох мокрой одежды, сваленной у входа, и выглянул из палатки.
Ни неба, ни земли, куда ни посмотри -- всюду тяжелая свинцовая тьма да
бешеный ветер бьется с лесом, пугая все живое жутким воем.
И вдруг блеснула молния, отбросив тьму и осветив на миг потрепанные
лиственницы, вспухшую реку и, за дождевой завесой, остров. Но все исчезло
так же мгновенно, как и появилось, только в душе осталась щемящая боль за
Глеба. «Прилепится же к человеку такое!»
Гроза отходила на север, сталкивая туда тучи. Послабел и дождь, но
страшная тьма не редела, и ветер еще больше свирепел. Его разноголосый вой
мешался в черноте с непрекращающимся треском падающих на землю великанов; со
смертным стоном они ложились, до конца не выстояв свой век.
И странно, даже когда ветер наконец стих, тайга по-прежнему шумела
тревожно. С черного неба падали остатки дождя. Только теперь мы вспомнили об
усталости. Кажется, можно уснуть.
Бедный Глеб! Как он там один на острове? Сумеет ли разжечь костер?
При свете спички находим свои постели, устраиваемся, кто где может. В
палатке тесно, а во второй сложен груз. Но "до утра недалеко, как-нибудь
прокоротаем остаток ночи. Я забираюсь в спальный мешок. Василий Николаевич
рядом что-то тихо жует. Мне есть не хочется, тороплюсь уснуть. Лиханов уже
похрапывает...
Засыпая, тщетно стараюсь припомнить картину налетевшего урагана, не
совсем ясно схваченные детали, нужные для записи, но мысли плывут стороной,
а слух улавливает отдаленный, еще неясный гул. В полусне пытаюсь уяснить,
что это? Хочу проснуться, но не могу поднять головы, пошевелиться. Все во
мне отяжелело...
А гул доносится яснее, наплывает новой неотразимой бедой. Наконец я
вырываюсь из полузабытья. Все та же темная ночь. Вернулся ветер, снова
бродит в вышине. Шумит исхлестанный лес. Все спит.
«Как хорошо, что это был сон», -- думаю я, поворачиваясь на другой бок.
Вдруг справа, подобно взрыву, гигантская волна ударяет о каменистый
берег. Все просыпаются, вскакивают. Что-то явно творится на реке. Какое-то
чудовище, ворча, скребет огромными когтями no дну реки, сглаживая вековые
перекаты, руша берега и сталкивая в темноту выкорчеванные деревья. Все это
где-то рядом, давит на нас, шипит по-змеиному.
Я не могу найти свои сапоги. Трофим напрасно чиркает отсыревшими
спичками. Улукиткан что-то бормочет на своем языке. Василий Николаевич уже
на берегу и оттуда кричит неистовым голосом:
-- Вода! Вода! Поднимайтесь! Вода прет валом!
Мы все выскакиваем разом, кто в чем есть. Хотя бы звездочка блеснула!
Почему так долго тянется эта ужасная ночь? Глаза с трудом различают во мраке
белесую ленту Лючи и бегущие по ней уродливые тени. Это смытые водою деревья
уплывают от своих берегов.
Зея и Лючи, сплетаясь мутными волнами в один беснующийся, клокочущий
водяной клубок, уносят в темень богатую добычу.
Наше внимание приковывает остров. Его не видно в темноте, но там
творится что-то невообразимое. Треск, стон падающих деревьев потрясает
долину. Что-то с Глебом? Боль сжимает сердце. Нас разделяет густой
предутренний мрак и недоступная река. Мы бессильны что-либо предпринять.
Трудно даже представить, какой ужас должен охватить человека, оказавшегося в
такую ночь на размываемом острове!
-- У-гу-гу! -- кричит натужно Василий Николаевич, но его голос глушит
река и долетающий с острова грохот.
Что же делать? Неужели парень должен погибнуть, заплатив дорогой ценой
за свою страшную беспечность! И все это должно совершиться почти на наших
глазах! Даже если бы и была с нами лодка, никто бы не рискнул добраться до
острова. Где-то, в глубине сознания, все еще живет надежда: авось, не весь
остров сметет вода.
Река пухнет на виду, лезет на наш берег. Уже стучат топоры -- между
трех старых лиственниц лепится лабаз. Надо как можно скорее убрать с земли
груз и самим бежать к скале; вот-вот вода отрежет нам путь отступления.
Нужно немедленно делать плот. Как только река немного угомонится и
перестанет нести лес, рискнем пробраться на остров.
В небе прорезалась звезда, -- как мы обрадовались ей! А вот на востоке
резкой чертою отделилось от горы небо Светает! Чувствуется, что еще немного
-- и природа торопливо начнет приводить себя в порядок после этой ночи. Но
неуемная река продолжает раздвигать берега, грязными ручейками просачивается
в глубь равнины.
Лабаз уже загружен, накрыт брезентом. Улукиткан ищет оленей, чтобы
прогнать их в более безопасное место. Мы подбрасываем на плечи рюкзаки,
берем топоры, ружья, бежим к скале.
Вдруг из предрассветной мути до нас долетает неясный звук: не то
прокричал филин, не то взревел зверь. Мы задерживаемся. В лесу тихо, только
под ногами неприятно шуршит вода, смывая хлам.
Звук повторился ближе, такой же непонятный, внушающий тревогу.
-- Однако, люди кричи, -- говорит Лиханов, настораживаясь. Я напрягаю
слух и чувствую, как во мне все леденеет от страшной догадки. Неужели
остров... смыт?
-- Спаси-и-ите... бра-атцы-ы-ы-и! -- совершенно ясно долетает с реки.
Глеб! Это он взывает о помощи.
Мы бросаемся на крик. Берег далеко и уже под водою. А крик... вот он...
вон... проплывает мимо, уходит все дальше и дальше.
-- Помоги-и... бра-а-а... -- еле слышится из-за кривуна последняя
мольба о спасении.
Василий Николаевич и Трофим молча снимают шапки. На их сосредоточенных
лицах чувство вины. Я не могу прийти в себя от всего случившегося, не знаю,
что делать. Напрасно всматриваюсь в побелевшее пространство, прислушиваюсь к
всплеску волн разгулявшейся реки. Там уже ничто не напоминает о
существовании Глеба...
Издалека кричит Улукиткан, заставляет немедля вернуться. Мы бросаемся к
скале. Вода уже перехватила нам путь, хлещет мутью по ярам, заливает колоды,
тащит мусор. Нам ничего не остается, как идти напрямик -- теперь дорога
каждая минута. Напрягаем все силы, бредем по пояс в холодной воде, словно
бегущей с ледников. Под ногами невидимый валежник. Лиханов боится воды,
побледнел, его ведет за руку Василий Николаевич.
Усталые, мокрые, мы добрались до края россыпи. Когда оглянулись,
увидели, что где-то у скалы вода прорвалась и кисельной гущей хлынула по
лесу, затопляя низину. Но нас она не захватила. Мы уже сидели на камнях вне
опасности.
-- Недолго гостил у нас Глеб... От одной беды увели, в другую попал.
Судьба, что ли, его тут, на Зее, -- сказал Василий Николаевич, выкручивая
штаны, а на лице еще не пережитая тревога.
-- Парень он был как парень и, видно, неплохой, да дури где-то
нахватался, всему перечит, работать за него должен дядя... Вот таким
когда-то был и я, -- сказал Трофим, вспоминая свои далекие годы
беспризорничества. -- У меня так уж сначала жизнь кувырком пошла, не в ту
сторону, да и время было другое, трудное. А он с чего кособочится, на глаза
слепоту наводит? Надо было на острове спустить с него штаны и дать
ума-разума...
Улукиткан разжег костер. В лице его, в глубине маленьких глаз, таилось
невысказанное. Все молчали. Над лесом висел туман. Сквозь его просветы не
столько виделось, сколько чувствовалось голубое небо, яркое, чистое, какое
бывает только в июне после дождя.
Откуда-то выскочил горностай. По реке, в высоте, просвистела пара
гоголей. Кричали коршуны, выискивая добычу. Мы снова ощутили биение жизни. О
Глебе вспоминали с горьким сожалением, сознавая, что в его гибели повинны и
мы. Теперь нам предстояло заняться розыском трупа.
Пока сушим одежду, завтракаем, созревает план: Трофим установит рацию,
передаст в штаб сообщение о гибели Глеба и мое распоряжение начальнику
партии Лемешу -- немедленно организовать поиски утопленника по Зее от
Джегормы до Лючи, использовав и самолет Мы с Василием Николаевичем, как
только вода перестанет прибывать, отправимся на плоту до Малых Мутюков.
должна же где-то река выбросить свою жертву. Остальные дождутся нас здесь.
Сухой еловый лес для плота нашелся за скалою в долине Лючи, близко от
воды. Но прежде чем взяться за топоры, нам нужно было восстановить свои силы
А это может сделать только сон, пусть он будет коротким, с беспокойными
видениями, но он лучший врач. Наваливаем в костер побольше дров. Все ложатся
поближе к огню. Удивительно, что нет комаров. Неужели их не осталось на
земле после урагана? Какое это было бы блаженство! Я подстилаю под бок
стланиковые ветки, но уснуть не могу, желание взглянуть на реку заставляет
забыть про отдых -- иначе ведь не запечатлеется полная картина этого
страшного наводнения.
Выхожу на скалу. Глаза не узнают знакомого речного пейзажа, напрасно
ищут, на чем задержаться. От острова, от столетних лиственниц, украшавших
его, не осталось и следа, да и места не могу определить, где был остров, --
всюду стального цвета вода, густо крапленная плывущим коряжником. Снова
спасла нас прозорливая мудрость Улукиткана!..
Расплескалась река по широкой пойме долины. Ни кос, ни берегов, ни
границ. Русло реки различимо только по стремительному течению. На крутых
поворотах вода вздымает высоко схлестнувшиеся валы и, отбрасывая зеленые
хвосты, бешеными скачками выпрыгивает снова на стремнину. Плывут мусор,
кусты, деревья. По дну с шипением сползает песок, мелкая галька, гулко
стучат камни. Лес, строгой чертой оберегавший границу реки, выщербился,
поредел, местами отступил к отрогам. Жуткое впечатление производит
разрушительная сила воды!
Вот из-за поворота выплывает огромная лиственница, окруженная стаей
мелкорослых елок. Она цепляется за дно реки толстыми корнями, словно
пытается во что бы то ни стало задержаться.
Ее догоняют и обгоняют легко плывущие два погибших тополя. Обнявшись
кронами, они проносятся мимо, напоминая корабль с обломанными мачтами. Вот
он... Но что это? Течение нацеливает его на скалу... Ближе... Ближе...
Трр-ра-хт!!!
Оглушительный взрыв раздается в долине...
Река постепенно устает. Вода уже не прибывает... Слабеет напор.
Золотистым кантом из прошлогодней хвои и листьев легла на землю последняя
отметка подъема воды.
В природе все будто онемело -- ни торжества, ни песен. Молчит старуха
тайга. Боже, что сталось с нею! Деревья стоят словно изжеванные, «пол»
завален буреломом, всюду неразбериха. До этого никогда мне не приходилось
наблюдать столь печальную картину истерзанного ураганом леса. И после еще
долгое время ветры, налетавшие на наш одинокий лагерь в горах, напоминали о
пережитом.
У птиц -- непоправимое горе. Все, у кого были гнезда на берегах реки,
на марях, по низинам, -- остались без потомства. Вода не пощадила их. Вот
под скалою на камне сидит пара куличков, самец и самочка. Их не тревожит
набегающая волна, ненужным стал корм, они будто забыли свои песни.
Родное гнездо? Где оно?..
Солнце щедрым светом заливает до отказа напоенную дождем землю, пытаясь
скорее вернуть ей жизнь. За реку на кормежку летят разрозненные стайки
кедровок. Где-то внизу шумит река на перекате. Мои спутники не спят, сидят у
костра. Трагическая судьба Глеба сломала наши планы.
Я присаживаюсь к огню и достаю из кармана записную книжку, пишу в штаб
и Лемешу распоряжение о поисках утопленника.
Трофим с Василием Николаевичем идут на берег и делают метровый затес на
старой лиственнице.
Через час мы уже были за скалой. От стука топора пробудилась, заворчала
еловая тайга. Плот сделали десятиметровый из восьми легких еловых бревен.
Два весла -- переднее и заднее -- помогут нам держаться нужного направления.
Запаслись и шестами на тот случай, если течение набросит плот на скалу или
на залом, ими легче отбиться. В половодье плыть на плоту менее опасно, даже
по бурным рекам; перекаты и шиверы бывают глубоко скрыты под водой,
сглаживаются и крутые повороты. Течение хотя и стремительное, но река
широкая, полноводная.
С собою берем Бойку и Кучума, винтовку, топор, рюкзаки с недельным
запасом продовольствия, котелок. Дня четыре мы с Василием Николаевичем
проведем на реке, обшарим берега, протоки, наносники, а три дня нам
понадобится на обратный путь к устью Лючи, где нас будут ждать свои.
Последний раз выслушиваем серьезное предупреждение Улукиткана.
-- Если вода начнет спадать, покажутся камни, не холей плот, бросай
его, иди пешком. В протоку, упаси бог, не лезьте, заломит -- и конец.
Постоянно слушай, где ворон или кукша кричать будет, там ищи Глеба. Сам тоже
кричи, может, он живой. И у худого человека бывает счастье.
Как только мы оттолкнулись от берега, плот подхватывает течение. Со
стремительной быстротою наплывают на нас берега, затопленный лес. Река еще
пенится, бугрится и предупреждающе все время ревет где-то впереди. Мы с
Василием Николаевичем изо всех сил машем шестами -- надо держаться средины
реки.
За поворотом промелькнула наша ночевка, а на том месте, где был остров,
-- пустота. Но река отхватила от правого берега большой ломоть земли вместе
с лесом и образовала -- будто в компенсацию -- новый остров, а у изголовья
наметала высокий нанос. Он-то и расклинивает пополам стремнину потока.
Течение несет нас дальше. Вот и тот кривун, где заглох последний крик
утопающего. Зрение настораживается, но при той быстроте, с какой мы несемся
по реке, ничего рассмотреть нельзя. Приходится «сойти» со струи и плыть
вблизи леса, где течение слабее.
-- У-гу-гу-гу! -- кричит зычным голосом Василий Николаевич и, вскинув
ружье, выпускает холостой заряд.
Звук нависает над речной тишиной, расползается по закоулкам леса,
бьется о скалы.
Плывем в кустах. Вода широко расплескалась по левобережной низине, и
кажется, нет ей края. Где же спрятала она свою добычу? Вынесла ли Глеба на
марь, замыла ли песком на дне глубокой ямы, или угнала в низовье? Кто
скажет?
Течение медленно проносит нас по-над кромкой леса. Тайга безжизненная:
ни птиц, ни обычной дневной суеты. Как в пустыне. Только встречный ветерок и
живет над всем этим уснувшим морем. На поворотах всюду закурчавились
наносники. Толстенные бревна велением какой-то дьявольской силы цепко
сплетены между собою. Одни деревья стоят как бы на голове, подняв высоко
оголенные корневища, другие уперлись в дно, залегли поперек течения,
подставляя сучковатые горбы стремнине, третьи, перегнувшись через соседние
стволы, секут воду вершинами, и столбы радужных брызг поднимаются высоко над
всем завалом. Глухой рокот воды слышится далеко, как ночной прибой у высоких
голосистых скал.
Вот впереди показывается наносник, мы настораживаемся, беремся за
весла, начинаем биться с течением. Плот послушно обходит кривун, и мы видим:
что-то черное вдруг вынырнуло из воды в середине наносника, отряхнулось,
кажется, и снова окунулось в воду.
-- Глеб! -- вырывается у меня, и мы молча, без сговора, налегаем на
весла, пытаясь прибиться к левобережной стене леса, хватаемся за кусты, пока
не останавливаем плот.
С большим трудом нам удается подобраться к наноснику снизу. Он весь
дрожит. Пробираемся по скрюченным стволам к переднему краю, но здесь нас
поджидает разочарование -- мы находим только фуфайку, навитую на поторчину.
Значит, трагедия разыгралась где-то выше по реке, там его и раздела вода.
Мы садимся на бревно. Василий Николаевич закуривает, сдвинув в раздумье
тугие брови
После небольшой передышки возвращаемся на плот. Вода быстро идет на
убыль. Пунктирами уже обозначились берега, вот-вот оскалятся каменистые
перекаты. Ветерок все тот же, встречный, несет с далеких низовий сухой
пахучий воздух, опаленный зноем равнины.
Собаки на плоту вдруг всполошились, торчмя подняли уши -- так бывает с
ними, когда они слышат подозрительный звук. Но вот они подняли настороженные
морды и замерли, хватая воздух широко раскрытыми ноздрями. Затем Бойка
перевела вопросительный взгляд на Василия Николаевича, пытаясь что-то
сказать умными глазами и, видимо, по-своему, по-собачьи, удивляясь нашему
спокойствию.
-- Зверь где-то близко живет, -- сказал Василий Николаевич и пригрозил
собакам пальцем -- дескать, успокойтесь. Но они продолжали вести себя
подозрительно, вытягивали морды навстречу ветру. Плот выплыл за край леса, и
мы оказались у широкой тиховодины, заставленной корягами самых причудливых
форм. Казалось, какие-то речные чудовища с длинными хвостами выступили из
воды, чтобы погреть на солнце свои облезлые спины.
Мы уже проплываем тиховодину, когда справа доносится приглушенный стон
и что-то взметывается белым лоскутом на последней коряге. Собаки бросаются к
краю плота, замирают. Мы настораживаемся. И вдруг там же, над корягой,
взметнулась человеческая рука!!!
Невероятными усилиями мы останавливаем шестами бег плота на краю слива.
-- Держи! -- кричит Василий Николаевич, сбрасывая с себя телогрейку, а
в глазах какая-то отчаянная решимость.
Он хватает конец причальной веревки, прыгает с ней в воду. За ним
собаки. На миг все они исчезают за стеною брызг. Бойку с Кучумом сносит
течение. Василий Николаевич упрямится, тяжело машет руками, пытаясь
добраться до коряги. Я теряю силы, шест выгнулся, вот-вот лопнет, и вода
бросит плот на речные ухабы, что ниже слива, и тогда бог знает, что может
случиться с Василием, если он упустит конец веревки, и со мной.
Все это происходит в какие-то секунды. Я чувствую, как слабеют руки,
плот начинает разворачиваться. Тщетно пытаюсь удержать его. Но вот он
вздрогнул, задержался.
-- Пускай! -- слышу голос Василия Николаевича.
Он уже на краю коряги, оседлав толстый сук, тянет веревкой плот. Я
помогаю ему шестом, и через минуту опасность позади.
Быстро приходим в себя и не верим глазам: в двадцати метрах от нас, на
этой же коряге, -- привязанный человек. Нас охватывает чувство радости. Это
-- Глеб, но узнать его невозможно. Мы не знаем, что сказать, да и нет таких
слов, чтобы выразить сейчас наше состояние. Хочется скорее пригреть его,
убедить, что он спасен.
Мы подтаскиваем ближе плот. Я все еще не могу признать в этом еле живом
человеке Глеба. Парень почти голый. Вода сняла с него сапоги, шапку,
телогрейку, а штанами он привязался к коряге. Он весь посинел, губы
перекосило страдание. Глаза смотрят на нас каким-то диким и в то же время
жалобным взглядом. Из горла его вырывается нечленораздельный звук, как
мычание, но в нем радость надежды. Он пытается улыбнуться, но из глаз текут
слезы...
-- Ну-ну, не плачь, Глебушка, -- слышу ласковый голос Василия
Николаевича. Он хочет сказать еще что-то, но отворачивается и рукавом
вытирает лицо.
Я хватаюсь одной рукой за корневище, другой хочу отвязать Глеба, но тот
впивается в меня, как коршун в добычу, виснет на мне, не отпускает, боится
опять остаться один. Не могу высвободиться. На помощь приходит Василий
Николаевич, и мы стаскиваем парня на плот. Укладываем на телогрейку и
начинаем растирать. Руки, ноги безвольные, как плети, тело в синяках и
царапинах. Какую ночь пережил он в этом бушующем мире, на краю гибели! Я
вспоминаю слова Улукиткана: «И у худого человека бывает счастье».
...Через час мы уже сидим на берегу отступившей в русло реки. Горит
костер, бушует чай в котелке. На душе необыкновенно легко. Глеб пришел в
себя, медленно жует лепешку, но все еще дико посматривает по сторонам,
надолго сдвигает брови, трет шершавой ладонью посиневший живот. Ни о чем не
рассказывает. Видно, страшно оглянуться назад.
Солнце опускается к горизонту. Придется ночевать здесь.
Василий Николаевич наливает Глебу кружку чаю.
-- Вот видишь, друг, когда ты один -- дела-то прискорбные. Старик не
зря приезжал за тобою на остров, почему не послушался? Поперек пошел, свой
принцип выставил. Вода вон и остров смела, и тебя вместе с принципом. Куда
годится отбиваться от коллектива! Гуртом, говорят, и батька побороть
можно...
Глеб молчит. Губы у него слиплись, глаза виновато прячутся. Он жмется к
огню, не может согреться. А Василию Николаевичу не терпится:
-- Тут тебе не Главный проспект, а тайга, смотри в оба! Ты впервые в
тайге?
Глеб утвердительно кивает головой.
-- Так что же ерепенишься? От Глухова сбежали тут уперся, как бык,
самому себе вред делаешь. В твои годы присматриваться надо, что к чему,
учиться. На-ка, вот еще горячей лепешки съешь, ишь, как славно она
поджарена. Может, каши еще подложить? Ешь, скорее согреешься.
-- Мне бы вот еще закурить, -- тихо говорит Глеб.
-- Дадим. А скажи-ка, -- допытывался Василий Николаевич, -- сколько лет
ты так вот шатаешься?
-- Долго рассказывать... Мало я прожил, дядя Вася, да много видел.
Трактористом был, учился на штукатура, плавал кочегаром на пароходе, везде
побывал.
-- А в экспедицию чего пошел?
-- Думал, тут легче.
-- Ну и как же?
-- Один черт!
-- Не понравилось?
-- Все это не то.
-- Нет, не один черт, тут хуже, а главное -- некуда податься. Это ты
понял теперь? Один -- погибнешь ни за понюх табаку. Значит, хочешь не хочешь
-- придется работать. Другого пути, Глеб, отсюда нет. Но дармовых едоков нам
не надо. У нас -- один за всех, все за одного.
Тот смотрел на Василия Николаевича удивленными глазами и, вероятно,
думал: «Неужели после стольких переживаний меня опять будут заставлять
работать?»
Молодой организм быстро набирал утраченные силы. Разгладилось лицо,
взгляд прояснился, отступила тревога. Уснул он рано. Завтра поход. До лагеря
не меньше семи километров. Но Глеб босой. Мы долго сидим у костра, молча
распускаем веревку. Василий Николаевич хочет из нее сплести что-то вроде
лаптей, иначе Глебу не дойти, да и там не знаю, во что обувать его будем.
В долину незаметно спускается прохладный вечер.
Я встаю -- размять онемевшие ноги. За горою достывает закат. Над ним
сгущается синева ночного неба. Послушная мечта уносит меня далеко, к родному
дому...
Вот предо мною далеким видением возникает Кардоникский лес, где в
детстве, впервые, я слушал шум старых чинар, крик диких птиц, брачную песню
оленя.
Там я полюбил громады заснеженных гор, их недоступность, там слушал
чудесную музыку живой природы и, отправляясь в жизнь, унес с собою вечную
любовь к ней, страстное желание познать ее.
Я ушел далеко от кавказских хребтов и могучих южных лесов, но живу до
сих пор их заповедным наказом...
-- Ну вот и готовы лапти, -- возвращает меня к действительности Василий
Николаевич, -- отплясать, что ли, на радостях!
Он вешает лапти на сучок, укрывает телогрейкой Глеба, и мы ложимся
спать...
Утро. Солнце уже поднялось над горами, мягко греет землю. Над рекой
висит легкий редеющий туман. Василий Николаевич готовит завтрак. Глеб, лежа
на хвойной подстилке, по-детски лениво потягивается и глядит в небо. Он
провел почти двенадцать часов в беспокойном сне.
-- Как дела, Глеб? -- спрашиваю я.
-- Лучше, чем на коряге, только тело болит, будто корова изжевала
всего...
-- Идти сможешь?
-- Пойду...
За завтраком он ест жадно, много, неразборчиво. И странно, вновь перед
нами тот самый Глеб, который два дня назад поражал всех ленью и
равнодушием...
Еще солнце не обогрело землю, а мы уже шагали с рюкзаками на плечах по
замшелой тайге. Всюду бурелом -- след пронесшегося урагана. Земля, напоенная
до отказа дождем, размякла, вспухла, болота разлились озерами. Куда ни
ткнешься -- вода и вода. Нам пришлось долго петлять по равнине, выискивая
более возвышенные места для прохода, и только в обеденное время увидели под
знакомой скалою дымок костра.
Нас встречают жители стоянки.
-- Живой! -- кричит Улукиткан, увидев Глеба, и, здороваясь, долго
держит его руку, все еще не веря своим глазам. -- Это как же? -- удивляется
он.
-- Что вы на тот свет меня сталкиваете, не хочу, вот и все! --
повеселев, кричит Глеб.
-- Правильно, Глебушка, -- заступается Василий Николаевич. -- Там и без
нас народу много, а тут и веселее, и работы непочатый край!
Трофим, обняв Глеба, тискает его в каком-то безудержном порыве. А тот,
обрадовавшись такому радушному приему, дико гогочет, широко разевая зубастый
рот. Освободившись из объятий, он заголил рубашку и стал хвалиться багровыми
пятнами на животе.
-- Видишь? Ну и прокатило меня! Одни, брат, страсти!
Ошеломленный появлением «утопленника», Трофим поглядывал то на нас, то
на Глеба.
-- Значит, поторопились с отправкой тебя на тот свет, поживи еще,
поживи, -- говорит он улыбаясь. -- Наделал ты хлопот! Тут одна инструкция по
вашему брату, по утопленникам, чего стоит! Утонуть-то что, а вот попробуй
отчитаться за тебя!
-- Однако, счастливый, рубашка на тебе, смерть не берет, -- говорит,
ощупывая Глеба, Лиханов. -- Там, смотри, на лиственнице Трофим что-то писал
про тебя, ходи и читай.
Я пошел вместе с Глебом. На толстой лиственнице была стесана кора и
сделана надпись:
«ЗДЕСЬ 12-го ИЮНЯ 1951 ГОДА УТОНУЛ РАБОЧИЙ ЭКСПЕДИЦИИ ГЛЕБ БЕЗРУКОВ.
ЕГО ВМЕСТЕ С ОСТРОВОМ СМЫЛА ВОДА».
Глеб долго читал надпись, как бы вникая в смысл каждого слова,
проверял, не вкралась ли какая ошибка, но вдруг рассмеялся детским, наивным
смехом:
-- А зарплату-то теперь мне будете платить? Может, по месту жительства,
с того света, получать придется?..
-- Смейся, да не забывай, почаще оглядывайся, чтобы на старую стежку не
выйти, будешь кулаком слезы вытирать, -- говорил подошедший к нам Трофим.
III. Перед нами Становой. Глеб не унимается. Ненастье над перевалом.
Чудесный альбинос.
Устье Лючи теперь имеет широкое горло, более ста метров, за счет
исчезнувшего острова. На его месте образовалось галечное поле, заваленное
огромными деревьями, принесенными рекою с вершины. Тут им, вероятно, и
доживать свой печальный век, ибо унести их дальше сможет только новая
большая вода. На последнем километре в Лючи вливается несколько рукавов из
Зеи, это серьезное предупреждение, что скоро район слияния рек подвергнется
большим изменениям, на «торжественном» начале которых нам довелось
присутствовать.
Пустынно стало на устье Лючи без острова. Почему-то подумалось: куда
девались его обитатели, считавшие остров своей родиной? На его берегах жили
беззаботные кулички, хлопотливые трясогузки, в чаще густого леса держались
пеночки, дрозды. У изголовья, на полузасохшей лиственнице с обломанной
вершиной, было гнездо скопы («рыбака»). На острове у всех пернатых
обитателей имелись свои излюбленные места на вершинах елей, на тополях,
откуда разодетые синицы встречали песнями восход и провожали солнце. Там был
свой маленький мир, отгороженный от большой тайги речными протоками. И вот
его не стало.
Надо идти. Но Глеб совершенно босой, а из запасной обуви ни одна пара
не лезет на его «медвежью лапу». Опять забота Василию Николаевичу. Он что-то
кроит из брезента, пришивает выпрошенную у Николая лосину и явно досадует на
Глеба. А тому хоть бы что: кажется, повторись наводнение, он и с места не
сдвинулся бы...
На второй день, шестнадцатого июня, когда уровень воды в Лючи упал до
летнего, наш караван перебрел реку и по проложенной нами в прошлом году
тропе благополучно добрался к вечеру до подножья Станового. Тут все памятно,
знакомо. Василий Николаевич даже опознал недогоревшие тогда головешки дров.
Палатки, пологи поставили на прежних местах, и вдруг показалось, будто мы и
не уезжали со Станового.
Снова любуемся его бурыми скалами самых причудливых форм, их величайшим
хаосом. С поднебесной высоты падают ручейки, разбиваясь на каменных глыбах в
миллионы сверкающих брызг и окутывая гранитные стены легким паром. Закинув
голову, вижу вверху иззубренные края откосов, за ними острые гребни, все в
развалинах. А еще выше, за широким снежным плащом, в безоблачном небе --
вершины главного хребта. Мертвенно-серые, они кажутся доступными только
солнцу.
Ощущение великой радости, что ты почти достиг желанного, охватывает
меня. Становой и на этот раз поразил всех нас своей дикостью. С первого
взгляда кажется, будто ты ничего более грандиозного и не видел.
Мои мысли уже там, на высоте, среди каменных конусов, цирков и скал,
нависающих над глубоченными пропастями. Желание скорее проникнуть туда все
сильнее овладевает мною. Еще два-три дня, и мы испытаем свое счастье.
Есть минуты, когда самые сложные ситуации предстают перед тобою в
розовом свете. Сегодня все кажется доступным.
Где-то за горами в безмолвии гаснет закат. Меркнет небо. Загораются
светлячки звезд. В тесном ущелье ночь, убаюканная мелодичным шепотом
колокольчиков да поздней песнью дрозда.
В темноте под сводом старых лиственниц -- лагерь, освещенный костром,
-- удивительное зрелище. Пляшут тени стволов, как живые колышутся палатки, в
бликах пламени ломаются лица людей. В воздухе дразнящий запах густого
варева. Трофим возится с тестом. Улукиткан мастерит из тальника хомутики для
оленей. Глеб спит. Лиханов пасет стадо. Собаки наблюдают, как Василий
Николаевич печет лепешки, складывая их стопкой поодаль от огня, ждут, когда
он вспомнит про них.
-- Как думаешь, завтра на перевал пойдем или тут дело есть? --
спрашивает Улукиткан, поворачивая ко мне загорелое лицо.
-- Видимо, задержимся. Через месяц сюда придут нивелировщики, им будет
очень трудно идти через Ивакский перевал, круто и высоко. Надо обследовать
вершину левого истока. Помнишь, мы в прошлом году с гольца видели там низкое
место, может, пропустит.
-- Что ты! -- протестует проводник. -- Если бы пропустило, эвенки давно
там ходили бы.
-- Пусть кто-нибудь завтра сходит, посмотрит, а я поднимусь на
правобережную вершину, взгляну сбоку на хребет, есть ли проход по нему.
-- Старика не берешь?
-- Пойдем, если охота.
-- Как неохота, если надо.
-- А мы с Трофимом прогуляемся по истоку, -- говорит Василий
Николаевич.
-- Вот и хорошо, завтра у нас будет полностью занят день.
Незаметно подобралась и полночь. Когда ложились спать, сквозь
поредевшие кроны просачивался серебристо-дымчатый, похожий на туман, свет.
Скалы придвинулись, потеряв свой грозный облик.
На рассвете ко мне под полог приполз Трофим.
-- Вести какие? -- встревожился я.
-- Нет. Пусть Глеб идет со мною, что ему бездельничать, а Василию
поотдохнуть, у него нога поранена.
-- Боюсь, как бы парень тебе обузой не был, возьми Николая.
-- Уж как-нибудь я с ним справлюсь.
-- Справишься? Сам-то ты как себя чувствуешь? -- спросил я серьезно.
-- Неплохо. Походы меня не утомляют.
-- И все-таки тебе надо беречься. -- И мы выбрались из-под полога.
Предложение Трофима не обрадовало Глеба. Он нахмурился, неохотно
собирался, делал страдальческое лицо, но, не найдя сочувствующих, ушел,
волоча за собою ленивые ноги.
-- Какой это люди, тьфу!.. -- сплюнул в сердцах старик, шепотом бормоча
проклятия.
Синее небо все в белых барашках. Восход тихий, нежно-розовый, ветерок
чуть колышет воздух. Какое благодатное утро!
Мы уже готовы были переходить реку, как из стланиковой чащи вышла
Майка. За ней высунулся Баюткан.
-- Друзья пришли! -- кричит Василий Николаевич.
Улукиткан сбрасывает котомку, достает из потки сумочку с солью, кормит
свою любимицу, затем осторожно подходит к Баюткану, вытянув далеко вперед
приманку. Тот пугливо отскакивает, дико косится на старика. Но соблазн
велик. Точно убедившись в благих намерениях человека, с осторожностью берет
лакомство и тут же исчезает. Следом за ним убегает и Майка.
Я не могу понять, но что-то есть общее в уже повзрослевшей Майке с этим
полудиким оленем. Боюсь, как бы она не одичала, сдружившись с ним.
Мы со стариком переходим два истока, исчезаем в глубине ущелья. Весь
день бродим по отрогам. Этот поход не рассеял сомнений и никаких изменений
не внес в наши планы. Мы видели только южные склоны хребта, но они не давали
полного представления об этих горах.
На табор явились на второй день к вечеру.
-- Чего это вы так долго задержались? -- встречает нас Василий
Николаевич, и я по тону его догадываюсь, что какая-то новая беда стряслась с
жителями нашей одинокой стоянки.
-- Что случилось?
-- Трофим вчера не вернулся, нет его и сегодня.
-- А где Глеб?
-- Он тут. Да разве от него добьешься чего-нибудь путного, затвердил --
не знаю -- и все! Из палатки вылез Глеб.
-- Ты где бросил Трофима? -- спрашиваю.
-- Не маленький он, что его бросать, сам ушел, а куда -- не знаю.
-- Но вы же пошли вместе в вершину ключа, почему же ты вернулся один?
Что случилось?
-- Да что вы пристали, будто я украл или убил кого?!
-- Еще бы этого не хватало! Где Трофим, отвечай! -- и я чувствую, как
мною овладевает гнев.
-- Говорю, не знаю, -- упрямится Глеб. -- Я остался отдыхать, а он не
захотел, ушел дальше... Ну, я и вернулся.
-- Почему же вернулся?
Глеб молчит, неуклюже переступает с ноги на ногу и смотрит на меня
открытыми глазами.
-- Искать надо, обязательно искать, может, беда какая с ним. --
Улукиткан пронизывает недобрым взглядом Глеба и добавляет сердито: -- Какой
худой люди есть. Собаку и ту нельзя бросать тайге, а ты товарища оставил!
-- Я уже готов, сейчас Николай допечет лепешки, пойду на розыски, --
говорит Василий Николаевич.
-- Пойдем вместе... Глеба прихватим с собою и там на месте устроим ему
суд, если что случилось с Трофимом...
-- Никуда он не денется, а возьмем -- еще горя наберемся, -- протестует
Василий Николаевич.
Глеб молчит, ему неловко. Он, как гусак, молча топчется на месте.
-- Не научила тебя, Глеб, река, а, казалось бы, на коряге нужно было
крепко подумать, как жить дальше. Тебя ведь не бросили в беде, а ты что
сделал? -- спрашиваю я.
Тревожные мысли овладевают мною. Я знаю прямую, бесхитростную натуру
Трофима. Он не мог оставаться молчаливым свидетелем лени и безразличия
Глеба, и на этой почве могли между ними возникнуть недоразумения. А разве мы
знаем, на что способен Глеб? При этой мысли меня всего обдает жаром.
Надо торопиться.
...Василий Николаевич уже стоит с рюкзаком за плечами. Не хочется
покидать лагерь и тепло костра, а при мысли, что ты должен сразу погрузиться
в мокрую чащу, -- по телу пробегает холодок. Но идти надо. Если с Трофимом
что случилось, он ждет нас.
Вот готов и я. За плечами котомка, карабин, в руках сошки. Еще
несколько глотков горячего воздуха, и мы покидаем стоянку. Но что это?
Собаки вдруг насторожились, затем обе бросились напрямик через кусты, к
истоку.
Мы задерживаемся. Из чащи показывается Трофим. Он еле передвигает ноги,
сгорбился и, кажется, если бы не посох в руках -- давно бы свалился. Одежда
на нем изорвана, мокрая, лицо, запятнанное оспой, осунулось. Видно, что сил
у него уже нет и ведет его только воля.
-- На кого же ты, браток, похож, истинный бродяга! Увидела бы Нина! --
говорит Василий Николаевич, стаскивая с него котомку.
-- Дай душу отогреть, а потом о Нине будем думать, -- отвечает тот, а
сам весь дрожит, как осина на ветру.
Он протягивает посиневшие руки к костру, хватает открытым ртом тепло и
настороженно ловит мой взгляд, как бы пытаясь угадать, знаю ли я, что
произошло. Рядом со мною стоит смущенный Глеб. Он не отрывает глаз от
Трофима и тоже что-то пытается угадать по его усталому лицу, но тот не
желает даже взглянуть на него.
-- Тут по ущелью ни за что не пройти нивелировщикам, -- говорит Трофим,
-- куда ни ткнись -- завалы, россыпи, а в сторону никуда не свернешь,
скалы...
-- До вершины ходил? Там низкий места?
-- Нет, Улукиткан, туда не ходил, но, видно, место низкое. Только до
него все равно с оленями не добраться.
-- А почему с тобою не пошел Глеб, что случилось? -- не выдерживаю я.
-- А он сам разве не рассказывал?
-- Говорит, что ты не захотел сесть с ним отдыхать, ушел вперед, а он
не смог тебя догнать.
Трофим молча, в упор, смотрит на Глеба, и я замечаю, как вздулись
желваки на его сжатых челюстях.
-- Что же у вас случилось? -- допытываюсь я.
-- Все это ерунда... Не стоит говорить. Плохо вот, что не нашел
прохода, весь изорвался, измучился...
-- Ладно, пойдем через Ивакский, -- говорю я. -- И на сегодня хватит об
этом. Хорошо, что все собрались. Надо отдохнуть. Утро вечера мудренее. Ты,
Василий, снимай котомку, сообрази что-нибудь поесть.
-- Что сообразить, если мяса нет? Сейчас баранинки бы, другое дело, --
отвечает он с упреком, но тут же начинает суетиться у костра.
Трофим спустился к реке, разулся и, сняв рубаху, начал полоскать ее в
мутной воде. Глеб не сводил с него глаз, и я видел, как его лицо, словно от
какого-то внутреннего накала, краснело, как тяжело он дышал, борясь с
непрошеными, вдруг нахлынувшими на него, мыслями... Я впервые видел его в
таком состоянии и не мог разгадать, что копится в его душе.
Вот он шагнул от костра к берегу и вдруг остановился, видно, хотел
повернуть обратно, да ноги заупрямиллись, зашагали к реке. Мы насторожились,
еще не понимая, чего он хочет. Одно было ясно, что все это имело прямую
связь с событиями, разыгравшимися вчера в ущелье восточного истока.
Трофим, несомненно, слышал, как приближался Глеб, шаркая ногами по
гальке, как остановился возле него. Но даже не обернулся. А парень стоял
перед ним с опущенными руками, покорный, мрачный. С минуту длилось
томительное молчание. Но вот Трофим приподнялся, стал не торопясь
выкручивать рубаху. Что ему сказал Глеб -- мы не расслышали, но тот вдруг
повернулся к нему и, широко размахнувшись, ударил его по лицу туго
скрученной рубахой.
Глеб пошатнулся, взмахнул руками, рванулся было вперед, но Трофим
повторил удар. Из-под ног парня выскользнули камни, тело изогнулось, в
последней попытке удержаться, и он упал в воду, подняв над собой столб
брызг.
Трофим, все так же не торопясь, поймал Глеба за ноги, помог ему
выбраться из воды, оттолкнул от себя.
-- Рано совесть размотал, хорек бесстыжий даже не краснеешь, -- сказал
он, доставая кисет,
За внешним спокойствием Трофима пряталась буря. Это было видно по
вспыхнувшим на лице багровым пятнам, по тому, как дрожали его руки. Давно я
не видел Трофима в таком возбужденном состоянии, но необыкновенная
внутренняя сила сдерживала гнев этого человека.
Глеб стоял мокрый, жалкий, одинокий. С его одежды ручьем стекала вода.
Внезапно Трофим повернулся к Глебу, бесцеремонно стащил с него мокрую
телогрейку, выжал из нее воду и подошел к костру.
Он не оправдывался. А люди в ожидании молчали, все еще находясь под
впечатлением этой неприятной сцены. И Трофим не выдержал, пояснил сдержанно:
-- Вчера отстал с продуктами, сожрал все один и дальше не пошел. Пусть
знает, что стоит в тайге кусок лепешки.
Что Трофим вернулся голодным, было видно по тому, как много и жадно он
ел за ужином.
А тем временем густой туман воровски, незаметно сполз с утесов на дно
ущелья, и черная темень окутала лагерь. Я задержался у костра за работой.
Надо было приготовить очередную радиограмму в штаб и ответить начальникам
партий на их запросы. Улукиткан починял свое седло. Рядом с ним сидел Глеб.
На его сумрачном лице плясали кривые блики пламени.
-- Слушай, Улукиткан, почему на меня все нападают? -- спросил он
тоскливым голосом.
Старик отложил седло, посмотрел на него долгим, пытливым взглядом.
-- Зачем пришел к нам в тайгу? -- вдруг спросил он. -- Если твои руки
от работы бегут шибче ног и друг тебе не надо -- пропадешь тут, как коршун
без крыльев. И во рту у тебя не язык, а бешеная собака, я думаю. Научись
молчать.
Улукиткан отвернулся от Глеба, считая разговор законченным, снова взял
в руки седло. Но его последняя фраза глубоко запала в моей памяти. Мне даже
показалось, что я сделал большое открытие: «Научись молчать» -- вот еще одна
древняя народная мудрость, не потерявшая и теперь своей свежести.
Умей молчать, когда трудно!
Через полчаса лагерь засыпал. Из далеких равнин набегал теплый ветерок,
шелестя сонливой листвой. Погас и костер. Возле него сидел Глеб, одинокий,
как пень в степи, забытый всеми. Мне было жаль его, но я подумал: пусть
остается, пусть до конца выпьет горькую чашу раздумья.
Но когда засыпал, я услышал голос Трофима:
-- Иди, черт поперечный, ко мне в полог. Тебя, шкодина, даже на ночь
никто не позвал...
И я слышал, как мягко шел Глеб к пологу Трофима, как раздевался,
укладывался спать и как скоро они оба мирно захрапели.
Рано утром олени в сборе. Минут десять тратим на поимку Баюткана. И так
каждый день. Но Улукиткану это нравится. С каким азартом он гоняется за ним,
устраивает ловушки, грозится расправой, но, поймав, он пальцем не тронет его
и непременно положит на губу оленя щепотку соли. Баюткана он любит за
дикость, за гордый нрав, да и тот привязан к нему. Иногда сам подходит и
начинает чесать искусанные паутами губы о спину старика, и тогда плоское
лицо проводника необычайно добреет.
Караван трогается. От стоянки в глубь гор бегут затесы, сделанные нами
в прошлом году, когда искали Ивакский перевал. Под ногами тропка. Она
приводит нас к броду через левый исток, взбирается на возвышенность, и мы
без приключений добираемся до ключа Тас-Балаган. Прозрачная стеклянная струя
падает с бешеной высоты и только тут внизу, достигнув ложа ущелья, отдыхает
на белом песке в глубоких заводях.
Снова любуемся гигантской скалою, что поднимается на несколько сот
метров в небо сразу за Тас-Балаганом. Ее темные стены, отполированные
ветрами, угрожающе нависают над нами. Незнающему человеку ни за что не
догадаться, что именно здесь, по-над скалою, лежит путь к перевалу. Даже
такому опытному проводнику, как Улукиткан, далось это открытие после долгих
и трудных поисков.
Не смолкает крик проводников. Солнце высоко, тепло, природа нежится в
пахучей зелени. Глаза радует бездонная синева неба и оставшаяся позади даль,
повитая тончайшей лазоревой дымкой.
Через полтора часа мы выбрались на первую террасу и раскинули свой
табор под знакомой елью, где жили в прошлом году. Улукиткан занялся делами
на стоянке, остальные с оленями отправляются за оставшимся под скалою
грузом. Я до обеда решаю пройти вперед -- прорубить проход.
Со мною увязался Кучум. Он за последнее время окреп. Длинная черная
шерсть, расчесанная ветром и чащей, лоснится, и как кстати на его широченной
груди белая манишка, а на передних ногах -- белые чулки. Как гордо он носит
в легком беге свой пушистый хвост, загнутый крючком на спину.
За ельником меня встречает нежный запах рододендрона. Как приятен он
здесь, среди сырых скал! Я взбираюсь на прилавок, рву, вернее, наламываю
целую охапку этих светло-розовых цветов, оставляю их на тропе, иду дальше.
По пути захожу полюбоваться водопадом. Тугой струей вода вырывается
из-за верхней грани второй террасы, разбивается в пыль о выступы скал,
подстерегающих ее снизу. Густые пары окутывают мрачную щель водопада. Но
какое это чудесное зрелище в солнечный день! Сколько красок, и как удачно
они мешаются, порождая новые и новые цвета, то нежные, то яркие, то еле
заметные глазу!
Выбравшись на верх второй террасы, я услышал короткий, но тревожный
крик птицы: это копалуха предупреждала свое семейство об опасности. Птица,
пользуясь полуденной тишиною, может быть, впервые вывела птенцов на зеленую
площадку. Надо же показать им местность, научить искать корм, разбираться в
звуках, внушить им, что окружающий мир полон врагов и что даже тишине не
следует доверяться. Много забот у матери, пока повзрослеют птенцы.
Я подумал: хорошо, что где-то отстал Кучум, иначе встреча кончилась бы
большой неприятностью, и прежде всего для цыплят.
Но где же затаилась копалуха? Глаза внимательно обшаривают площадку,
заросшую мелкой травой и усыпанную камнями, да разве увидишь на этом
серо-зеленом фоне затаившуюся птицу! А ведь она тут где-то близко и,
вероятно, следит за мною.
С минуту продолжается наш молчаливый поединок. Но вот неожиданно
вздрогнул кустик травы, и там вырос настороженный силуэт птицы с вытянутой
шеей.
«Ко... ко...» -- слышится ее отрывистый говорок, и тотчас же рядом с
ней зашевелилась трава, и я вижу цыплят -- светлые пушистые комочки. «Ко...
ко...» -- повторяет мать и ведет свое семейство к кустам.
В этот миг сзади меня хрустнула веточка, и на площадку вырвался Кучум,
уже уловивший глухариный запах. Я даже не успел крикнуть, остановить его. Но
случилось неожиданное: копалуха бросилась навстречу собаке, упала, словно
подраненная. Кобель затормозил бег, распахнул пасть, но промахнулся. А
птица, отскочив, снова упала и, волоча крылья, повела от птенцов одураченную
собаку. Кучум разгорячился, вот-вот схватит ее, но та всякий раз успевает
подняться в воздух. Наконец, оба исчезают в лесу, и я от души смеюсь над
глупым Кучумом.
Что же стало с цыплятами? Их нигде не видно, но они, конечно, здесь, на
площадке, в траве. Попробую-ка разыскать их.
Я наклоняюсь к земле и вижу, один затаился между камней ни живой ни
мертвый. Только внимательно присматриваясь, его можно заметить, А вот и
другой. Но на этого без смеха смотреть нельзя: голову засунул под
прошлогодний лист, а сам весь на виду, воображает, что спрятался. Я вижу еще
одного, он лежит сверху на клочке коры, плотно прижавшись к ней, вытянув шею
и закрыв глаза, уверенный, что в таком положении ему не грозит никакая
опасность.
Я перекладываю его с коры к себе на ладонь и терпеливо наблюдаю, что же
будет с ним дальше? Жду долго. Цыпленок лежит бездыханным комочком, даже
сердечко его, кажется, не бьется. Не умер ли он? Начинаю присматриваться.
Вижу, он осторожно, по-детски воровски, открывает один глаз, смотрит на меня
и снова слепнет. Ага, хитрец, притворяешься!
Кладу цыпленка на землю, отхожу, а сам оглядываюсь. Интересно, как
долго он будет изображать мертвого? Вижу, глухаренок опять осторожно
открывает один глаз и вдруг вскакивает и, спеша изо всех сил, удирает без
оглядки в кусты, беспомощно трепыхая крошечными крылышками. Только теперь,
услышав шорох травы, вскочили и остальные. Смешно качаясь на бегу, они тоже
скрылись в кустах. Их оказалось шесть.
Я уже возвращался, когда над площадкой послышался торопливый шум
крыльев: это копалуха прилетела к оставленным детям. Она уселась на
лиственнице и с беспокойством стала осматривать площадку. Затем бесшумно
опустилась на землю, подняла высоко голову, чтобы дальше видно было, и
осторожно стала звать детей: «Ко-ко-ко...»
А сама оглядывается, сторожит тишину, не прозевать бы врага...
Я видел, как из кустарника разом выкатились бледно-желтые шарики, как
они окружили мать и как та поспешно увела детвору в чащу леса.
Уже на спуске с террасы мне встретился Кучум. Ну, и прокатила же его
копалуха! Не отдышится, язык висит сбоку, морда растерянная, -- видно,
понял, что обманула его птица.
На обратном пути я забираю рододендрон и с пахучей ношей возвращаюсь на
стоянку.
Нахмурилось небо. С лохматых граней откосов в ущелье сполз туман. Пошел
дождь.
Марь неузнаваема: по ней, среди кочек, бродит стадо пестрых оленей,
рядом со старой елью стоят палатки, пологи, горит костер, слышится
человеческий говор. И как-то странно все это здесь на высоте скал, вечно
безлюдных. Наши только что поднялись с грузом и теперь готовят ночлег.
-- Однако, долго будет дождь, -- говорит Улукиткан.
-- Почему ты так думаешь?
-- Так хочет море. Когда оно сердится -- посылает на землю груженые
тучи. Много дней будет дождь. Так всегда бывает летом.
Мы пьем чай у костра, кто стоя, кто примостившись на дровах. Во тьме
ходят олени, изредка стряхивая с себя дождевую влагу.
Утро не приносит утешения. Тяжелый туман, цепляясь за вершины гор,
нехотя ползет на запад, обильно увлажняя и без того размокшую тайгу.
Безветренно. Молчат птицы, сникли комары, не откликается эхо, и на душе
досада -- все это признаки наступившей длительной непогоды.
В приглушенной сыростью тишине живет только ручей. Тесно стало ему в
русле, распирает плечами берег, сталкивает валуны, бушует.
Но к полудню совершенно неожиданно на тайгу набросился ветер. Дождь
перестал. Зашумел обрадованный лес, сбрасывая с листвы влагу. Отступил к
вершинам туман и там затаился в расщелинах скал. Вскоре ветер перешел в
настоящий ураган, и царство тишины и покоя превратилось в кромешный ад:
треск, стон падающих деревьев, грохот скатывающихся камней буквально
оглушили нас. Лагерь наш тоже растерзан -- ветер разметал огонь, разбросал
висевшую одежду, сорвал пологи, палатку.
-- А ты, Улукиткан, говорил, что дождь надолго, -- напоминает Василий
Николаевич, подбирая разбросанные вещи.
Старик посмотрел на небо, прислушался к ветру и вздернул плечи.
-- Однако, ветер дурной, напрасно дует, море сильнее его, дождь все
равно будет, -- отвечает он уверенно.
Через полчаса ветер затих так же внезапно, как и появился. Туман над
нами поредел, и сквозь него обозначилось солнце, стало немного светлее.
Мы собираем вещи, разжигаем костер. Трофим с Василием Николаевичем
садятся за починку пологов и палатки. Тайгу сушит теплый, ласковый ветерок,
налетающий снизу мягкими струями. Но онемевшая природа упорно молчит, и
почему-то туман все больше копится по щелям, свисая снежной бахромой со
скал. Воздух остается тяжелым. Знаю, все это признак непогоды, но уж очень
обнадеживает посветлевшее небо на юге, и я, доверяясь ему, даю команду
свертывать лагерь, выступать.
Ловлю на лице Улукиткана удивление.
-- Ты начальник, я должен подчиняться, но скоро узнаешь, как ты ошибся,
-- сказал он, снимая с колышка узды и отправляясь с Лихановым за оленями.
Когда все было готово, Улукиткан надел плащ, подпоясался, подтянул
ремешки на олочах и из потки достал свою старенькую шапку.
-- Дождь долго будет, напрасно уходим от нагретого места, -- говорит
он, беря в руки повод переднего оленя.
Караван тронулся. Крик погонщиков, треск сучьев под ногами оленей,
людской говор не могли разбудить эхо. На небе вдруг исчезли обнадеживающие
просветы. Туман свалился в лощину и накрыл нас. Сразу стало холодно и сыро.
Только мы успели перебрести ручей, как пошел дождь, мелкий, густой,
точь-в-точь такой, какой шел до урагана. Теперь ясно всем, что прорвавшийся
ветер только на короткое время изменил обстановку на небе, но моря он
действительно не победил, и оно продолжало бросать на материк бесконечные
полчища «груженых туч».
Медленно взбираемся на верх террасы. Олени с трудом преодолевают
крутизну. Одежда на нас уже успела промокнуть и отяжелеть. В душе у меня
досада на себя: напрасно взбаламутил всех, неверно решил. Теперь я готов
раскаяться, но уже поздно.
С трудом поднимаемся на верх второй террасы. Вьюки отяжелели. Дождь
усиливается, и нет никакой надежды на улучшение погоды. Мы готовы
задержаться, тут есть и лес, и хорошее место для стоянки, но мало ягеля для
оленей. Проводники опасаются, что животные, в поисках корма, уйдут на Зею, и
тогда трудно будет их собрать. Остается один выход -- двигаться дальше, до
границы леса, и там переждать непогоду.
Караван с трудом взбирается по скользкому подъему. В тумане ничего не
видно, кроме небольшого мокрого клочка земли под ногами да контура
прорубленной вчера просеки. Настроение у всех подавленное. Одно утешение,
что с каждым шагом, хотя и очень медленно, мы приближаемся к перевалу.
Впереди идет Улукиткан, согнувшись от холода в три погибели.
-- Мод... мод... -- подбадривает он оленей ослабевшим голосом.
Но животные словно не слышат этого окрика, продолжают устало вышагивать
по крутизне.
Какая пронизывающая сырость! Я весь мокрый, тело закоченело, и кажется,
кровь уже не циркулирует. Пальцы онемели, еле шевелятся, не могу даже
пуговицы застегнуть.
Вероятно, ничто в природе так не угнетает человека, как этот бесконечно
моросящий дождь, порожденный туманом, при абсолютной тишине.
Глеб и Василий Николаевич отстали, и их не видно за туманом. Я тоже
плетусь кое-как и удивляюсь Улукиткану. Откуда он черпает силы, хотя и
помаленьку, но уходит все выше и выше?
Наконец-то лес поредел, но дождь, как на грех, усилился. Вижу --
Улукиткан выбрался на бровку третьей террасы, почему-то бросил оленей, а сам
ушел дальше. Мы остановились.
-- Мод... мод... мод... -- доносится из тумана голос старика.
Я решил, что он дает нам команду вести дальше караван. Подхожу к
переднему оленю, хочу взять повод, но, увы, на олене совсем нет узды. Она
снялась, а Улукиткан этого не заметил, идет дальше, волоча ее по земле и
воображая, что караван шагает следом за ним. «Мод... мод... мод...» Мне
стало больно за старика. Он, вероятно, так устал и так промок, что уже не
соображает, что делает, а ноги передвигаются машинально. Бедный Улукиткан,
он-то за что страдает?!
Я тороплюсь, нагоняю старика. Он стоит, повернувшись к нам, удивленно
смотрит на узду, на оленей, которые подошли со мною.
-- Эко старость, иду, не вижу, дурной, что ли, стал! Мне в чуме сидеть,
а я аргиш вожу по тайге, -- упрекает он себя.
Темнеет. Дальше мы не способны передвинуться и на сто метров. Находим
небольшую площадку. Рядом уже нет леса, только мелкорослый березняк. С
трудом развьючиваем оленей. Теперь одна забота -- поставить палатку.
Но не так просто организовать приют на этой большой высоте, когда с
неба льются на вас потоки дождя, тело оцепенело от сырости и вы уже не
ощущаете прикосновения мокрой одежды, а руки стали беспомощными и пальцы
бессильны даже развязать узел или вытащить спичку из коробка. Холод сковал,
кажется, даже мысли, и вы плохо соображаете, что надо делать.
Более крепким оказывается Василий Николаевич. Он еще способен взять
топор, спуститься вниз за кольями для палаток. Следом за ним молча уходит
Трофим. Глеб стоит, как мокрое пугало, растрепанный и беспомощный.
После долгих усилий мы, наконец-то, под защитой палатки. С нами часть
груза и собаки. Темень, густая, черная, окутала горы. О костре, а тем более
о кружке горячего чая, мы не можем и думать. Единственным нашим желанием
было забыться во сне от этого проклятого холода. Но как это сделать, когда
на вас мокрая одежда и из-за тесноты в палатке негде развернуть спального
мешка, к тому же и площадка, на которой вы устроились, мало того, что
наклонена в одну сторону, до отказа напиталась водою. Бедные
путешественники, как ничтожно малы ваши желания, однако и они неосуществимы!
Мы лежим кучей, тесно прижавшись друг к другу и стуча зубами от холода.
А дождь уныло барабанит по двухскатной крыше, и где-то в вышине, не задевая
нас, шумит ветер. Медленно по телу разливается тепло. В палатке копятся
тяжелая испарина, запах человеческого пота, портянок, размокшей кожи.
-- Василий, давай вместе храпеть, может, будет теплее, -- слышится
голос Трофима.
-- Ты пробуй, а я побалуюсь трубкой, -- отвечает тот и начинает шарить
по карманам.
Поднимается Глеб, молча ждет, не предложит ли ему кто закурить. Затяжно
зевает разбуженный Кучум.
«Ожили», -- подумал я, и на душе как будто стало легче.
Мы немного прогрелись. Люди покурили, пошутили и снова смолкли. У меня
отлегла боль в душе. Захотелось спать. Как жаль, что нельзя вытянуть ноги.
Запускаю глубоко за пазуху руки, свертываюсь калачиком -- и прощай дождь,
мучения, переход, холод! Мои спутники уже дружно храпят.
Но что это? Из дальнего угла палатки на меня наплывает комариный писк,
жалобный, нудный. Ах, думаю, проклятый, и ты отогрелся! Слышу, второй запел
рядом, над чьей-то головою. Я настораживаюсь. Храп в палатке сразу
прекращается, люди пробудились, чего-то ждут, затаив дыхание.
«Зз... зз... зз...» -- кружится однотонный звук над нашими головами.
Кто-то громко шлепает ладонью себя по лицу и отпускает крутую брань
вслед отлетающему кровопийце. Кто-то вздыхает.
Странно... Казалось, разверзнись небеса, развались горы, никто из нас
не пробудился бы после тяжелого перехода! Но стоило в палатке заныть
двум-трем комарам, и вот... Уж очень насолили они нам за последнее время, и
наши нервы стали слишком чувствительны к этому отвратительному, постылому
звуку.
И только перед рассветом, окончательно выбившись из сил, мы засыпаем,
отдав себя на милость, -- нет, на немилость победителей.
...Утром я выглянул из палатки -- все по-прежнему было окутано серым
промозглым туманом, лил дождь, по мари бродили мокрые олени, словно
похудевшие за ночь. Видно, за восточными хребтами продолжало бушевать
Охотское море, и теперь наше обследование Станового зависело от того, как
долго еще оно будет гневаться.
Хуже всего то, что мы пробудились не одни, а вместе с... голодом. Но
как добыть огонь, когда кажется, даже камни пропитаны водой! Страшно и
подумать о том, чтобы выйти из палатки.
В сизом пологе тумана и в затяжном дожде нарождается день. В природе
молчание, тут уж не до песен, не до веселья. Лучше гроза, ливень, буран, чем
эта могильная тишина. Как угнетающе она действует на человека! Так же,
вероятно, тяжело переносят затяжную непогоду и звери, и птицы.
-- Если мы весь день будем только думать о лепешке, брюху не станет
легче, -- слышится простуженный голос Улукиткана.
Первым поднимается Трофим, за ним Василий Николаевич, Глеб. Как тяжело
расставаться с нагретым местом! Натягиваем мокрые плащи, отправляемся вниз
за дровами.
Поодаль от остановки стоят под дождем олени, сбившись в кучу.
Через полчаса возвращаемся на стан с топливом, снова промокшие.
Остается развести костер, вскипятить чай, и тогда можно будет какое-то время
терпеть муки невольников. Но как заставить дрова гореть в такой мокроте? Тут
уж, поистине, нужно мастерство Улукиткана. Надежда на него. В потке у него
нашлась береста. Он ее растеребил на мелкие ленточки, а свой старый посох
стесал на стружки. Нас он попросил наколоть сухих дров и нащепать лучинок.
Озабоченно, с какой-то торжественностью колдовал старик над будущим
костром. Он выстлал мокрую землю плитами, сложил на них конусом лучинки,
образующие в середине пустоту, и обложил их поленьями -- так, чтобы вода по
ним стекала, как по крутой крыше, не попадая внутрь. Получилось
довольно-таки плотное сооружение, в метр высотою, напоминающее чум.
Затем он тщательно смешал бересту со стружками от посоха и всю эту
смесь затолкнул внутрь своего сооружения. Чиркнула одна, другая спичка.
Вспыхнул огонек, через несколько секунд оттуда дохнуло едким дымом. Еще
минута -- и из отверстия выплеснулось пламя... Черт возьми, как это здорово!
Мы протягиваем к костру руки, жадно глотаем горячий воздух и
беспрерывно повторяем:
-- Хорошо!.. Ах, как хорошо!
Василий Николаевич уже пристроил над костром чайник. Рядом повесил
котелок с мясом. Горячее пламя, вырываясь из-под груды дров, торжествующе
плясало в сыром, настывшем воздухе. Все ожили. Развязались языки. Но дождь
делал свое дело. Если нам удавалось подсушить одежду на спине, за это время
она намокала до отказа спереди. И все же это половинчатое тепло ободряло
нас.
Но вот огонь подточил изнутри сложенные горкой дрова, проел щели, и
костер развалился. Беспомощное пламя еще пыталось подняться, еще вспыхивала
синева расплавленных углей, но огонь уже утрачивал силу. У нас не оставалось
ни одного полена, чтобы подкормить костер, и он умирал на наших глазах, не
выдержав поединка с водою.
Непогода загоняет нас в палатку.
Мясо -- недоваренное... но зато чай горячий! А это уже много. Небо
будто прогнило. По крутым склонам бегут мутные ручьи. Ниже они сливаются в
один грозный поток, и оттуда доносится угрожающий гул. Мы ощущаем
беспрерывные толчки, это разбушевавшаяся вода сталкивает в пропасть валуны.
-- Дождь скоро не кончится. Ходить надо в тайгу, тут пропадешь без
огня, -- беспокоится Улукиткан.
-- Уж до утра как-нибудь вытерпим, а там, смотри, и дождь перестанет,
-- отвечает Василий Николаевич.
-- Как-нибудь -- это худо, -- не унимается старик.
Через некоторое время палатка стала протекать. Если снаружи дождь шел
мелкий, густой, то в палатке он падал тяжелыми каплями. Мы лежали накрытые
брезентом, тяжело переживая заточение.
-- Братцы, вода! -- раздается вдруг испуганный вскрик Трофима. Возглас
«вода» звучит у него как «пожар»!
Мы вскакиваем, Действительно, в палатку со склона прорвалась вода. Уже
затопляет пол, постели. Нельзя ни минуты медлить. Люди не ждут команды.
Перекладываем инструменты на каменный настил, повыше от воды, надежно
закрепляем оттяжные веревки на палатке... Теперь вниз!
Спускаемся по скользкому крутяку. Над промокшими горами густой туман
мешается с вечерним сумраком. Справа, слева -- всюду беснуются ручьи, от
левобережных скал доносится беспрерывный грохот скатывающихся камней.
Но и в тайге нам не удается найти убежище. Мы переходим от дерева к
дереву, забираемся в чащу, но даже сквозь густую крону старых елей, как
сквозь решето, льет дождь. Уже темнеет...
-- Давай кончать напрасно ходить, надо балаган делай, а то пропадаем,
-- слышится голос Улукиткана.
Предложение старика вначале кажется неосуществимым: мы до того промокли
и замерзли, что руки не держат топора. Но сознание опасности мобилизует
остатки наших сил.
-- Балаган так балаган! -- кричу я, и мы сворачиваем вправо, к темной
стене леса.
Поздний стук топоров будит тягостную тишину дождливой ночи. Одни рубят
рогульки, жерди, другие таскают стланик, сдирают кору с толстых лиственниц.
Работа идет страшно медленно, -- кажется, и топоры затупились, Я поражаюсь
терпению и удивительной стойкости моих спутников. Их не узнать -- согнулись,
как-то сжались: озноб пронизывает насквозь.
Делаем навес для огня. Улукиткан достает из-за пазухи припасенный
лоскут березовой коры, теребит его скрюченными пальцами и с трудом
поджигает. Костер разгорается медленно. А мы, мокрые, жалкие, ожидаем тепла.
Через некоторое время, чуточку отогревшись, мы уже были самыми
счастливыми людьми на планете. Видимо, для человека путь к ощущению
настоящего счастья всегда идет тропой испытаний.
Улукиткан остается сторожить огонь, а мы беремся за устройство
балагана. Дружно стучат топоры, к отогретым рукам вернулась ловкость. А
дождь не унимается, льет и льет.
Наконец-то укладываем последний ряд стланиковых веток -- и балаган
готов. Тайга вдруг посветлела, в поредевшем мраке прорезались стволы
лиственниц, в лесу стало просторнее.
Утро! Со счета слетела очередная беспокойная ночь. Теперь спать, пусть
льет, черт с ним, с дождем! Мы надежно отгородились от него крышей, хватит и
дров. Улукиткан, наш жрец и хранитель огня, уже покинул этот мокрый мир и,
судя по тому, как улыбаются его губы во сне, как он вольно дышит, можно
поверить, что старик находится далеко от нас, в краю более гостеприимном,
нежели Становой.
Мы раздеваемся, наскоро сушим одежду, вернее, нагреваем ее, и ложимся
ногами к костру. Усталость нетребовательна к удобствам. В другое время разве
уснул бы, когда под боком толстые корни и нечем укрыться. Но сейчас все
ладно. Только голод продолжает строить козни: то мерещится горячая лепешка,
то кусок отваренного мяса с большой костью, да такой ароматный, что не
вытерпишь, пожуешь пустым ртом и от досады повернешься на другой бок. Есть
здорово хочется, но с нами ничего нет съедобного, даже воды не в чем
скипятить.
На этот раз и сон не смягчает голода.
Я просыпаюсь неожиданно от едкого запаха. Какую-то долю минуты не могу
понять, откуда наносит паленым? Приподнимаю голову, осматриваюсь. Узнаю
балаган, навес, деревья в тумане. Продолжает лить дождь.
Над дотлевающим костром висит котел со сгоревшей кашей, на углях
дотлевает синим огоньком упавшая лепешка. Не понимаю, кто принес котел,
крупу, муку и еще нашел в себе сил заняться приготовлением каши? Вскакиваю и
бросаюсь к костру, чтобы спасти остатки.
То, что я увидел, умилило меня и глубоко тронуло. Рядом с костром,
припав к отогретой земле, как к теплой постели, крепко спал Трофим. Руки в
тесте, на загорелом лице покой. Рядом с ним на мешке лежит раскатанная
лепешка, сумочка с содой и солью, стоит остывший чайник. Значит, он не спал,
ходил на перевал, хотел накормить нас обедом и уже сварил кашу, вскипятил
чай, осталось допечь вторую лепешку, но сил не хватило, свалил его сон, и
все сгорело на костре. Какая обида!
Глядя на спящего Трофима, я подумал: «Сколько трудов стоило тебе, друг,
это приготовление? Немногие способны на подобное».
Я мою котел, насыпаю крупы, вешаю на огонь, сырую лепешку запекаю на
сковороде, ставлю сбоку к костру, на том месте, где стояла сгоревшая, завожу
еще тесто, раскатываю его и оставляю на месте. Словом, восстанавливаю
картину, какая была под навесом перед тем, как Трофиму уснуть. А сам ложусь
на свое место, жду, когда лепешка, что у огня, начнет поджариваться.
-- Горим!.. -- кричу я, и это магическое слово, словно взрыв, будит
всех.
Трофим вскакивает, хватает лепешку, поворачивает ее другой стороною.
-- Чуть не уснул, наделал бы делов! -- шепчет он.
-- Да ты, Трофим, поди, еще не ложился? Однако, сумасшедший, -- говорит
поднявшийся Улукиткан.
-- Успею, высплюсь, куда торопиться. Сейчас вторую лепешку допеку и
обедать будем, -- отвечает тот.
Он снимает котел, заворачивает его в свою телогрейку, чтобы каша
«дошла», и, подсев к огню, начинает закуривать, а малюсенькие глаза устало
смотрят из-под отяжелевших век.
Люди встают, окружают костер, отогреваются, подставляя огню кто голый
живот, кто руки, кто спину. Как благодарны мы все Трофиму за горячие
лепешки, за вкусную кашу, за товарищескую заботу. Я не сказал ему, что
произошло у костра во время сна, пусть и ему его благородный поступок
принесет заслуженное удовлетворение.
Незаметно проходит второй день нашего необычного заточения. Плачет
затуманенное небо, пригорюнилась старушка тайга. По каким-то невидимым
тропам к нам подкрадывается угнетенное состояние. Надо же было пройти такой
трудный путь к Становому и уже находиться в полукилометре от перевала, чтобы
попасть в ловушку! Мы прикованы к этому мокрому клочку земли, к балагану.
Наши мысли растворяются в мучительных ожиданиях погоды, в ожиданиях солнца.
Но напрасно мы обращаем свои взоры к небу -- оно неумолимо...
Еще три дня усердно поил землю дождь. Все вокруг настыло, отяжелело, а
маленькие изумрудные листики берез свернулись от холода в трубку и
безнадежно повисли на своих длинных ножках.
-- Гляньте-ка, снег! -- кричит Глеб.
Этого еще недоставало!
И вот уже не осталось вокруг нас ни зеленого покрова, ни пышных
лишайников, ни крошечных ивок -- все приглушено холодной белизною. И только
одинокие маковки дикого лука ненужно торчат над однообразной поверхностью
снега.
Уже ночь. Шорох падающего снега тревожит пустынную тишину. Все сидим у
костра, не спим. От безделья мы уже отупели, но с нами огонь, наш верный
спутник, друг, советчик; от этого жизнь не кажется страданием. Потерпим еще
немного, настанет долгожданный день, и наш караван снова потянет свой след в
глубину малоизведанных гор.
Какая-то ночная птица взвилась над нашей стоянкой и исчезла за
вершинами елей.
-- Проголодалась бедняжка, -- посочувствовал ей Трофим, поправляя
огонь.
Улукиткан поднялся, долго выпрямлял спину, вздрагивая от холода и щуря
узкие глаза, молча смотрел, вслед давно скрывшейся птице.
-- Однако, погода кончилась, птица не зря летает, -- сказал он.
От слов старика стало легче, посвежели мысли, и я уснул, убаюканный
ночным безмолвием да далеким, чуть слышным криком ночной птицы.
Рассвет все изменил. Коршуном взвился низовой ветер над запушенной
тайгой. Яростно сдирал с леса бутафорский наряд, поднимая с земли столбы
снежной пыли, и несся дальше, тревожа диким посвистом оцепеневшую природу. А
что сталось с туманом! Ветер налетел на него тугой струей, изорвал в клочья
и разметал в разные стороны.
Заголубело небо. Сквозь сонные вершины лиственниц брызнул холодный
рассвет, и на озябшую землю полились потоки света. Запрокинув зеленые
вершины, смотрит тайга в небо, радуется, славит шелестом листвы наступающий
день и от восторга плачет алмазными слезами.
Еще час, и ярко-зеленым морем расплескался лес.
Мы наскоро завтракаем. Навстречу нам плывет невнятный шепоток бубенцов
-- это идут олени. Они, видимо, надумали вернуться своим следом в родную
Зейскую долину. Их ведет Майка. За ней Баюткан. Улукиткан стыдит ее, грозит
кривым пальцем и всех заворачивает обратно.
А солнце поднимается выше и выше. В сладостной неге парится отогретая
земля.
В лагере все без изменений. Но прежде чем тронуться дальше, нужно
просушить вьюки. Я не стал дожидаться, -- желание скорее подняться на
перевал давно мучает меня. Беру Кучума, карабин, кладу за пазуху кусок
лепешки и ухожу к хорошо виднеющейся седловине.
Подступ к перевалу свободен от леса. Некрутой каменистый склон заплетен
полярной березкой, стлаником, ольхой. Выше редеют кустарники, мельчают и
совсем исчезают. На седловину выбегают только низкорослые стланики, и там
же, в камнях, можно увидеть густо оплетенные рододендроны.
Иду прошлогодним следом. Он ведет меня к левому проходу, но Кучум вдруг
заупрямился, тянет вправо, и с таким азартом, что я невольно хватаюсь за
карабин. Кучум огромными прыжками увлекает меня за собой. Где-то близко
зверь. Баран или медведь? Гляжу на Кучума. Он весь собранный, готовый к
поединку, торопливо хватает ноздрями воздух. Я послабляю поводок, и собака
огромными прыжками увлекает меня вперед. «Значит, медведь», -- проносится в
голове. Останавливаюсь на минуту, угрожаю Кучуму расправой, если он будет
горячиться. Подаю патрон в ствол карабина, а в мыслях уже торжество: еще
один череп в коллекции!
Прежде всего надо сориентироваться. Справа от перевала, куда тащит меня
собака, виден большой цирк, окантованный высокими и уже развалившимися
скалами. На подступах к нему место некрутое, бугристое, все в рытвинах,
покрытое россыпями, лишайниками да стланиками. Здесь, где-то близко, зверь.
Идем осторожно. Рука крепко сжимает карабин, глаза шарят по кустам,
заглядывают в рытвины. Качнется ли веточка или стукнет под собачьими лапами
камешек, сразу вздрагиваешь, словно от ушиба, и долго не можешь успокоить
сердце. В такие минуты ничего не существует для тебя, кроме предстоящей
встречи со зверем да досады на Кучума за его торопливость.
-- Ух ты, змей! -- то и дело угрожаю я ему шепотом и показываю кулак.
Он на минуту остывает, но вдруг снова загорается, тянет дальше.
Кажется, сейчас лопнет поводок и -- прощай, моя удача! Но вот он
останавливается, прислушивается и, медленно повернув голову, смотрит мне в
лицо, не то насмешливо, не то с упреком. Дальше путь преграждает гряда из
крупных камней, сбегающая сюда с перевела. За ней ничего не видно. Почти не
дыша, крадусь к гряде. Нахожу удобную щель, остается только приподняться и
заглянуть через нее. Левой рукой держу Кучума за ошейник, пытаюсь прижать к
земле, внушить ему, что нельзя высовываться, а он сопротивляется, хрипит,
глаза от злобы краснеют. С полминуты идет молчаливая борьба. И только после
того, как Кучум получил добрый пинок в бок, он немного успокоился. Но не
сдался, продолжает сторожить момент. Теперь я уверен, что зверь совсем
рядом, за грядой. Но кто он? Кто мог так взбудоражить собаку?
Я приподнимаюсь, просовываю вперед карабин и, разгибая спину,
заглядываю в щель. В поле зрения попадает край цирка, бугристый склон,
поросший редким стлаником, да пятна еще не растаявшего снега. Слух ловит
веселый перебор ручья, вытекающего из цирка. Никого не видно. Поднимаю
голову выше и, словно пораженный молнией, припадаю к холодному камню. Не
галлюцинация ли это?!
Даже теперь, спустя много лет, прочитывая дневники тех памятных дней, я
снова переживаю эту редкостную встречу. Ничего подобного мне не приходилось
видеть ни до, ни после этого.
Тот, кого давно уже почуял мой верный пес, стоит метрах в семидесяти от
гряды, вполоборота ко мне, весь настороженный, пугливый, готовый броситься
наутек.
Это сокжой.
Совершенно белый, словно вылепленный из снега.
Ни крапинки, ни пятнышка на всей его шубе, и на фоне темно-зеленых
стлаников он резко выделяется своей невероятной, неправдоподобной белизною.
Даже рога, большие, ветвистые и те обросли белой шерстью. Только одни
глаза, устремленные в нашу сторону, горели угольной чернотою.
Это альбинос. Какое чудесное творение природы! И он вдруг представился
мне в зоологическом саду, в этой сторожкой позе... Сколько восхищенных
посетителей всегда толпилось бы возле отведенного ему места!
Ветер дует в нашу сторону, это хорошо: зверь не учует нас, но этот же
ветер забивает ноздри Кучума запахом, и тот буквально сатанеет. Я продолжаю
таиться за камнями и чувствую, как во мне уже сцепились в яростной схватке
натуралист со зверобоем. Первый заставляет не торопиться, понаблюдать за
чудесным животным, сделать фотоснимки и вообще не спугивать его с этого
места, а зверобой шепчет: скорее бери карабин, стреляй, иначе уйдет, и тогда
ты всю жизнь будешь бичевать себя за неудачу. Да стреляй же, ведь это чудо
для коллекции!
Скольких усилий стоит мне отложить карабин... Отстегиваю футляр
аппарата. Но, черт возьми, на таком расстоянии только телеобъектив может
дать приличный снимок, а чтобы заменить им обычный, требуются две руки, --
как же быть с Кучумом? Ведь чуть только попусти ошейник, и загремят камни
под его лапами. Опять угрожаю ему, пытаюсь внушить, что дело очень серьезное
и надо лежать не шевелясь, а он умоляюще смотрит на меня, морщит нос,
дескать, невтерпеж этот запах! Я подтаскиваю его ближе, сажусь верхом,
прижимаю к камню. Он как будто смиряется. Быстро сменяю объектив,
устанавливаю диафрагму, затвор и бесшумно приподнимаюсь, навожу аппарат.
Зверь все еще стоит, как снежное видение в ярких лучах полуденного
солнца, -- весь настороже.
А я чувствую, как Кучум больно царапает мне лапами ногу, уходит из-под
меня.
Надо торопиться!
Щелкает затвор аппарата, и сокжой, словно подхваченный бурей, несется
вниз. Мелькает белым лоскутом в стланиках. Хватаю карабин, гремят вдогонку
выстрелы, пули дымком взрывают россыпи то справа, то слева от сокжоя,
провожают его по склону ущелья далеко вниз. Следом несутся мои проклятия.
Долго не могу прийти в себя от нелепой развязки. Какая досада: упустил
такого альбиноса! А ведь был рядом, и черт меня дернул связаться с
аппаратом! Променял такую великолепную шкуру для музея на фотоснимок.
Сажусь на камень, -- свет не мил, ничему не рад. В глазах Кучума читаю
недоумение и обиду: за что пинал его, душил, ведь хорошо подвел, близко!
Хочу подтащить кобеля к себе, обласкать, а он отворачивает обиженную морду и
все еще в каком-то возбужденном состоянии смотрит в цирк. Но теперь меня уже
не зажигают ни медведи, ни снежные бараны. Даже мамонт, вероятно, не
компенсировал бы утраты. Не могу освободиться от досады, а сокжой все стоит
предо мной виденьем, настороженный, пугливый.
Пора уходить. Встаю. Но кобель тащит меня дальше, опять горячится. Что
за дьявольщина, понять не могу! Разве только глухой зверь задержится тут
после такой стрельбы и грохота камней. Пытаюсь оттащить Кучума за гряду и не
могу, уж больно напористо тянет. Видимо, дело серьезное, приходится
смириться и идти за ним.
К моему удивлению, собака не задержалась на том месте, где стоял
альбинос, а только обнюхала веточки стланика, видимо прикасавшиеся к его
ногам, и повела дальше. Снова меня захватывает азарт зверобоя. Возвращается
напряженность. Неужели близко может быть зверь?! А Кучум переводит меня за
ручей и с прежней горячностью тащит вверх, торопливо виляя по просветам
мелкорослого стланика.
Вот мы и у входа в цирк.
Надо осмотреться.
Он глубокий, почти полусферической формы. Справа, под тенью ступенчатых
скал, белеет снежник, весь источенный скатывающимися вниз камнями. Сверху же
скалы имеют зазубренные очертания, четко выкраиваются на фоне голубого неба.
Дно цирка в буграх, прикрытых свежей зеленью и мелким стлаником. Из глубины
его вытекает прозрачный ручей.
Это и есть исток Тас-Балагана!
Внимательно осматриваю дно цирка -- никого нет. Гробовая тишина. А
Кучум тянет дальше, рвется, хрипит. Разве кто спит под камнями?
-- Куй... -- кричу я полным голосом.
-- Куй... куй... куй... -- отдается от скал эхо и, мешаясь, выносит
звук далеко за скалы цирка.
Уж теперь-то зверь должен бы пробудиться, однако ничего нет. А Кучум не
унимается, злится, тянет поводок. Идем. На нас веет промозглой сыростью,
слежавшимися мхами и прелью еще не отогретых скал. Хочу повернуть обратно,
но Кучум вдруг сбавляет ход, идет на свободном поводке, будто крадется. Вот
он останавливается, комично сбочив голову, заглядывает под стланиковый куст,
готовый броситься вперед...
Я тоже смотрю туда. Что это за рыжее пятно в тени прилипло бугорком к
зеленому мху? Кажется, вижу очертания головы, впаянные в нее черные круглые
глаза, контур спины.
О, да ведь это теленок сокжоя!
Натягиваю струною поводок, даю почувствовать Кучуму, что ему не
разрешается и шагу вперед. Сам замираю, хочу казаться добродетельным этому
новорожденному существу, еще не посвященному в тайны жизни, и, прежде всего,
присматриваюсь к позе. Обе задние ноги теленка пропущены далеко вперед,
голова лежит на передних, такое положение позволяет ему -- при необходимости
-- вмиг сорваться с места и, оттолкнувшись, спасаться бегством.
Теперь нас трое. Впрочем, есть и четвертый: вон какой-то хищник с
высоты наблюдает за нами, терпеливо дожидаясь поживы.
Кучум готов броситься на теленка, впиться зубами и растерзать.
Маленький сокжой еще сильнее липнет к земле, закрывает глаза, старается
остаться незамеченным. У меня же единственное желание -- не беспокоить его.
И в доказательство своих добрых намерений стараюсь оттащить Кучума, но тот
не идет, а волочится, вспахивая лапами мелкую дресву. Уж как ему обидно!
Теленок вдруг вскакивает и рыжим комочком прыгает мимо нас, высоко
подбрасывая зад. Мы провожаем его. Кучум окончательно выходит из
повиновения, и уже никакая угроза не помогает.
А навстречу убежавшему теленку несется крик взрослой самки: «Бек...
бек...».
Я подбегаю к скату в ущелье и... в ста метрах снова вижу белого сокжоя!
Это, оказывается, мать. Она вернулась, несмотря на опасность, чтобы увести
свое дитя от врагов. Самка, будто не замечая нас, бросается навстречу телку
и уводит его по чаще вниз, стараясь не появляться на открытых местах. А мой
карабин спокойно висит за плечами, и на душе легко, что все так хорошо
закончилось!
Я присаживаюсь на камень, чтобы привести в порядок свои впечатления и
записать детали этой необычной встречи. В голову приходят мысли о жизни
маленького сокжоя -- итог моих многолетних наблюдений.
Жизнь, независимо от того, «завернута» ли она в волчью шкуру или
сохатиную, или «прячется» под птичьими перьями, с первой минуты должна уметь
беречься от смерти. Как же это происходит, как может защищаться от
многочисленных врагов, например, только что народившийся теленок сокжоя,
беспомощный, еще не имеющий ни опыта, ни сил? А ведь всюду хищники! Они ищут
добычу с воздуха, шныряют по чаще, караулят на тропах. Но оказывается, не
так просто найти эту добычу. Появляясь на свет, новое существо приносит с
собою врожденный инстинкт, помогающий ему в этой борьбе.
Попробуем представить себе первый день его жизни.
Родился он ночью. Темно, тихо. Рассвет впервые открыл перед ним
чудесный мир, полный загадок и тревог. Он увидел кусты, скалы, голубое небо,
уловил запах ягеля, которым ему предстоит питаться всю жизнь. Малыш так
увлекся увиденным, что и не заметил, как исчезла мать.
Но странно, он не бросился искать ее, не стал звать -- какое-то
непонятное чувство сдерживало его, глушило любопытство, заставляло залезть
под куст, спрятаться.
Малютка сам не понимал, почему, прячась, он пропустил задние ноги
далеко под себя, а голову положил на вытянутые передние, почему прижал уши и
в таком положении затаился.
Теперь даже зоркому глазу орлана не заметить с высоты этот комочек,
прилипший к земле под тенью стланика.
Каким же нужно обладать врожденным терпением, чтобы не приподняться, не
полюбопытствовать, что это за звон долетает со дна цирка, что прячется за
краем кустарника и, наконец, главное, где мать?
Но этого как раз и не позволяет ему сделать инстинкт.
Уже полдень. Горячее солнце ласкает тайгу, ветерок разносит прохладу, и
с ней долетают какие-то новые звуки и шорохи. Малыш давно проголодался, ему
хочется побегать, рассмотреть этот чудный, полный соблазнов мир, но он не
смеет покинуть свое скрытое убежище, продолжает таиться.
И вот наконец-то послышался долгожданный зов матери, ее осторожные
шаги.
Теперь можно встать, попить теплого молока, вкус которого уже хорошо
ему знаком, и побегать. Но почему мать с беспокойством смотрит по сторонам,
прислушивается, точно кого-то ждет? Теленок еще не понимает, что такое
опасность. Его захватывает любопытство. С удивлением он смотрит на стланик,
на скалы, на небо. Как приятно пахнет земля, ягель, крошечные ивки! Что это
там внизу блестящее грохочет по камням? Он хотел уже побежать туда, да вдруг
не нашел возле себя матери. Вмиг исчезло любопытство. То же самое чувство,
что и утром, заставило его спрятаться под куст.
Мать пришла вместе с сумерками, и они до утра не разлучались. Она
показала ему ручей, лужайку, усыпанную цветами, водила по зарослям и долго
отдыхала вместе с ним на прилавке у входа в цирк. Перед рассветом теленок
опять остался один и провел день в одиночестве под стлаником. Мать же все
время находилась вблизи, всегда готовая отвлечь на себя внимание врага или
броситься на защиту малыша.
Не будь со мною Кучума, так они и жили бы в цирке, пока не окреп
теленок. Теперь мать увела его на новое место и там еще долго будет
находиться под страхом внезапного появления человека.
Жизнь в природе идет своим чередом, по своим законам...
Мой слух ловит далекий крик погонщиков. Иду навстречу своим, чтобы
вместе выйти на перевал. Кучум разочарован, но делать нечего, примирился.
Глубоко под нами лежит знакомое ущелье, прикрытое темным бархатом леса.
Далеко над горизонтом, в синеве глубокого неба, собираются белые облака с
округленными краями. Где-то кукушка отрывисто чеканит свое неизменное ку-ку.
Носятся шмели, гудят комары, какие-то крошечные пташки заботливо стрекочут в
ольховом кусте.
-- А где же печенка? -- спрашивает Василий Николаевич, ощупывая меня
взглядом с ног до головы.
-- Печенка убежала.
-- Убежала? Эко не повезло, а мы торопились, двух оленей ведем под
мясо, -- улыбается Улукиткан.
Я коротко рассказываю о случившемся, и караван продолжает подниматься к
перевалу.
-- Мод!.. Мод!.. -- ободряет Улукиткан запыхавшихся оленей.
Солнце греет спину. Мы уже совсем высоко. Ближе синеет просторное небо.
Вижу, Улукиткан нацеливается пройти седловину левой щелью. Уже берем
последнюю крутизну.
Вот и перевал. За ним спуск к далекому Алданскому нагорью, скрытому от
глаз бесконечными грядами гольцов.
Дальнейший наш путь лежит на запад по хребту. Нам еще не известно, есть
ли проходы по тем местам, куда собираемся проникнуть, и сможем ли мы
выбраться к Алданскому нагорью. Ясно одно, что по пути не будет троп, не
найдем и следа человека.
Прежде чем тронуться в путь, надо произвести разведку. Решаюсь
задержаться на перевале дня на два.
IV. На вершине Тас-Балагана. Удивительный мальчишник. Улукиткан
маскируется под барана. Неудачная охота. Меня находят свалившимся в
пропасть. Мы идем к Пугачеву.
Рано утром привязанные Бойка и Кучум подняли лай.
-- Какого лешего разорались? -- слышится голос Василия Николаевича.
Он выходит из палатки, грозит собакам, и те умолкают. Со склона горы
доносится грохот камней под ногами убегающего стада снежных баранов.
Уснуть я больше не мог. Бараны растревожили давнишнее желание добыть
несколько экземпляров рогачей для коллекции, и нетерпеливое воображение уже
торопилось нарисовать соблазнительную картину встречи со стадом. Ведь
сейчас, в это первое утро нашего пребывания на перевале, мы еще не разогнали
своим присутствием диких обитателей гор.
Разве сходить, попытать счастье с ружьем?
Все спят. Я поднимаюсь с твердым решением уйти на весь день к вершинам
Беру буссоль, карабин, гербарную папку, плащ и покидаю палатку. В
оставленной записке я сообщил, что ухожу на восточный голец, и предлагал
Трофиму с Василием осмотреть проходы по водораздельной линии на запад.
За горами сочится многообещающий рассвет. Туман розовеет, тает. Курятся
каменные утесы над темными лесами. Ночь бесследно уходит. Еще минута
ожидания -- и из-за гор, из бездны бездн, невидимое солнце пронизывает
лазурь победными лучами. Небо распахивается над Становым во всей своей
необъятности, и на сонные вершины недвижных громад, на убогую землю, на
одинокие палатки льется свет наступающего дня. Все проснулось, чтобы начать
жить, но еще нежится в утренней прохладе.
Куда идти?
Решаюсь вначале подняться на перевал и оттуда наметить свой маршрут.
Взбираюсь по крутому, приодетому мелкой чащей, склону. Внизу легкий ветерок
доедает остатки тумана, выносит наверх ночной, еще не отогретый, запах
первобытных лесов и холодных межгорных трущоб. Свет уже слепит глаза, по
мягкому ягелю горят алмазные костры.
Здесь когда-то, видимо, была высокая сопка, но время, солнце и стужа
разрушили ее до половины, обнажив коренные породы. А вода промыла по-над ней
два прохода, из них западный более доступен для каравана. Вдоль седловины
идет хорошо заметная звериная тропа, вероятно, единственная на этой высоте,
соединяющая огромную территорию гор, лежащих восточнее седловины, с не менее
обширной западной. На тропе видны утренние следы недавно пробежавшего стада
баранов-рогачей и отпечатки лап крупного медведя, просеменившего, следом за
стадом, на запад.
Более соблазнительной мне кажется сейчас вершина, нависающая над
восточным цирком. К ней я и направляюсь. Это заманчиво еще и потому, что нам
до сих пор не удавалось взглянуть на горы, простирающиеся на восход от
нашего пути. Иду тропою. Она выводит меня на сопку и исчезает.
Я в цирке. Он напоминает врезанное в монолитную гору гигантское кресло
с высоченной спинкой, окантованной по верхней грани отблеском солнца. В
глубине его мрак доживает свой последний час, да к снежнику прилип, забытый
ветром, клочок тумана. В тишину, еще никем не потревоженную, врывается шорох
камней, скатывающихся со стен цирка.
Я не тороплюсь, иду осторожно, мягко шагаю по мелкой россыпи. Глаза, по
привычке, прощупывают местность. Но кругом ни зверя, ни птицы --
первозданный покой, только камни все сыплются и сыплются со стен. Скалы
вблизи не кажутся отвесными. Они изъедены трещинами, всюду торчат карнизы,
чернеют выемки, видны глыбы, оторвавшиеся от скал и чудом удержавшиеся на
крутом склоне. Дно цирка завалено обломками, усыпано щебенкой и прикрыто
дырявым покрывалом, сотканным из лишайников, рододендронов и жалких
карликовых ив. На мягкой тундровой почве у ручейка зеленеет лук. Как высоко
он поднялся!
Вдруг что-то подозрительно стукнуло вверху. Я откидываю назад голову,
замираю. Вижу над собой только выступы скал да пустое побледневшее небо -- и
ничего больше. Стою, жду. Неужели обманулся? Слух ловит стеклянный звон
ручейка, пробегающего по дну цирка, и знакомый шорох скатывающихся камней по
стенам, но это не то. Жду еще долго, почему-то уверенный, что за мною кто-то
следит сверху, даже ощущаю на себе чей-то взгляд. Начинаю пристально
всматриваться в каждый выступ, в каждый кустик травы, свисающий по щелям.
Сверху доносится какой-то непонятный, еле уловимый звук. Мне кажется,
что я не слышу, а скорее чувствую его. Он рождается где-то на самом верхнем
карнизе или ниже, в пестрых обломках.
Стою, смотрю не шевелясь. Замечаю какое-то светлое пятно на фоне серой
скалы. Присматриваюсь и поражаюсь: ведь это же белый лоб барана! Теперь вижу
и винтообразные рога, прилипшие к пятну с двух сторон. Грудь и туловище
скрыты за гранью выступа. Оказывается, не так просто заметить барана, когда
он стоит на карнизе скалы, настороженный, не шевелясь, или лежит, отдыхая,
на камнях.
Я еще не успеваю сообразить, что делать, как белое пятно исчезает. Стук
уползает выше, дальше. Вижу, на вершину шпиля выскакивает рогач, дескать,
полюбуйся, каков я!
Баран стоит, наблюдает за мною с высоты. Как удержаться, когда перед
тобою, на верной дистанции, такой великолепный экземпляр снежного барана! Он
даже не пошевелился, когда я вскинул карабин, видимо считая, что находится
на недосягаемой высоте. «Бедняжка, как ты жестоко ошибаешься, человеку все
доступно», -- подумал я, нажимая крючок.
Выстрел будто слизнул надстройку с пика, и скала опустела. Но скоро я
увидел скачущего по гребню рогача. На дальнем выступе он постоял, откинув
голову в кою сторону, и благополучно скрылся с глаз. «Промазал», -- с
досадой подумал я.
А день уже в разливе. Солнце растопило затаившийся над снежником туман.
Далеко на западе, над крап-ленными снегом гольцами, где синеет голубизною
небо, собираются облака.
Гребень, по которому поднимаюсь, тянется зубчатыми развалинами к
вершине, куда я намерен попасть. Кое-где по нему заметны подозрительные
разрывы. С мыслью -- авось пройду -- я и пошел дальше. Гребень неожиданно
выклинился щербатым лезвием. Справа и слева -- пропасти. Тут уж надо бы
повернуть обратно, так нет, заупрямился, понадеялся, что пройду, хотя
никакой необходимости в риске не было. Ползу на четвереньках, а в конце
стены вдруг чувствую, что из-под меня уползает камень, тащит с собою в
пропасть. Хватаюсь за выступ, делаю бессознательное движение всем корпусом,
и обломок улетает вниз, сталкивая туда все, что попадается по пути.
Добираюсь, наконец-то, до более надежного места, оглядываюсь и
поражаюсь: стена вся в сквозных трещинах, разрушена, держится бог весть на
чем, до первого случая, и все это шаткое сооружение вот-вот обвалится.
Последнюю часть подъема преодолеваю по крупной россыпи. Небо
удивительно прозрачное, горы вырисовываются четко, дали еще свободны от
дымки. Впервые вижу восточную оконечность Станового. Как все здесь
нагромождено, выпучено, запутано! Взгляд скользит по вершинам, одетым в
серые курумы, задерживается на голых утесах, блуждает по глубоким ущельям.
Как скупо наряжен Становой! Какое убожество красок! На общем
мертвенно-сером фоне лежат лишь синие тени у глубоких провалов, да по
каменистым расщелинам и склонам лепится жалкая зелень. Беднее, кажется, и
нельзя одеть землю. И так всюду, куда бы ни обратили вы свой взгляд.
И все это печальное окутано мертвым покоем. Ужасно холодное безмолвие
гор, их сон вечен. Наступит ли когда-нибудь на этих суровых вершинах весна
жизни? Оденет ли их природа лесом, цветистыми полянами?
Между видимым пространством, уходящим на восток, и вершиной, которая
под моими ногами, лежит глубокое ущелье. На дне его ревет река, пробившая
путь между огромными валунами. Это самый большой приток Ивака, берущий
начало от водораздельной линии Станового. Несколько ниже он огибает округлый
голец, напоминающий сидящего Будду. Этот «Будда» закрывает вид на Ивакское
ущелье, по которому позже мы должны проложить тропу к озеру Токо. Придется
завтра пойти на него и разгадать, что прячет он от взора.
Делаю зарисовки горизонта, беру азимуты на господствующие вершины,
внимательно изучаю рельеф. Прихожу к выводу, что главная водораздельная
линия хребта по высоте мало отличается от отрогов, расположенных севернее
ее, что по ней имеются широкие просветы, которые обеспечивают
непосредственную видимость между вершинами, расположенными по обе стороны
водораздела, и что через перевал можно проложить нивелирную трассу от Зеи к
Алданскому нагорью. В этом отношении, кажется, все благополучно. Можно бы и
порадоваться, но когда я смотрю на запад, куда лежит наш путь, меня снова и
снова беспокоит вопрос: пройдем ли?
Возвращаюсь в лагерь. Знаю, меня там ждут с нетерпением: может, не
завтракают. По пути хочу собрать растения, живущие на скалах.
Осматриваю крупную россыпь. Из чего сложена вершина? Кажется, будто
камни недавно насыпаны гигантским самосвалом, лежат неустойчиво, под ними
всюду пустоты, щели для ветра, и нигде не видно признаков растений, даже
лишайники не живут здесь. На вершинах гор происходит интенсивный процесс
разрушений, все перемещается, сползает или выпучивается.
А несколько ниже, совершенно неожиданно, среди угловатых камней я
увидел первый цветок. Как он, бедняжка, прижался к обломку, под защитой
которого живет! Он боится высунуться, чтобы не обжечь на холодном ветру свои
восковые лепестки. Стебель у него, непропорционально толстый по отношению к
росту, покрыт тончайшими волосками и держится крепко в щели. Сам же цветок с
немой мольбою смотрит на солнце. И хочется спросить у этого смельчака, как
он попал сюда, перед кем красуется и для кого раскрыл свои лепестки? Ведь
сюда не залетают ни пчелы, ни бабочки, ни шмели... Один ветер живет среди
безжизненных курумов.
Здесь же я увидел накипные лишайники и, конечно, не мог удержаться,
чтобы не собрать их для гербария. Как разнообразна их форма и окраска! Между
оранжевыми, желтыми и даже белыми встречаются черно-черно-бархатные, словно
вытканные из чудесной пряжи, а вот ярко-красные, они лежат пятнами свежей
крови. Но самые интересные -- серебристые. Их нельзя рассматривать без
восхищения. Какой сложный рисунок, какая тонкая отделка!
Накипные лишайники -- пионеры растительного мира. Они первые проникают
в царство скал, поселяются на холодных камнях и, разрушая их поверхностный
слой, подготовляют условия для поднимающихся следом за ними мхов, а затем и
для цветковых растений.
Лишайники исчезнут после того, как выполнят свой долг, и россыпи
покроются почвой. Но для этого надо много тысяч лет, и когда думаешь об
этом, поражаешься, как ничтожно мал твой век.
Спуск в цирк по щели, как я и предполагал, вполне доступный. Не
тороплюсь и чем ниже, тем чаще останавливаюсь, чтобы сорвать или достать
затаившегося между камней постояльца. Какая приспособленность у растений,
считающих скалы своей родиной! Они совсем неприхотливы, растут всюду, где
можно закрепиться корнями или прилипнуть к поверхности. Растения повисают с
уступов, стелются по плоским плитам, живут в темных, сырых трещинах.
Горсточка почвы, скопившаяся в естественных углублениях, обеспечивает их
существование.
Я поднимаюсь по карнизам, забираюсь под камни, в трещины и всюду
что-нибудь да нахожу. Растения живут даже под темным сводом пещер, где их уж
никак не ожидаешь увидеть. Вот почему приходится тщательно обшаривать скалы.
Работа эта меня всегда увлекает.
Довольным возвращаюсь на стоянку. Еще бы! Во-первых, многое прояснилось
с предстоящими на Становом работами, во-вторых, я несу с собою полную папку
растений -- жителей скал, а это, несомненно, клад.
Есть много привлекательного в таких прогулках, в общении с природой. Не
знаю, кто как, а я могу бродить весь день по горам, не ощущая одиночества
или усталости, и всегда с большим внутренним удовлетворением наблюдаю за
растениями. Здесь, в подгольцовой зоне, где происходит вечная схватка жизни
с курумами, эти наблюдения особенно интересны. Борьба растений за право
существования на скалах очень сложна. Многое поражает вас в их жизни здесь,
остается загадочным, заставляет задуматься.
Мои спутники ждали меня с печенкой.
-- Тебе, однако, глаз кривой стал, а может, ружье портился -- не туда
пулю бросал? -- спрашивает Улукиткан, недоверчиво посмотрев на мой карабин.
-- Стрелял большого барана, стоял на скале, весь как на ладони, и не
далеко, да, видно, не мой! Промазал.
-- Может, не туда мушку клал? Разве забыл: когда стреляешь вверх, --
надо брать ее крупно, а когда стреляешь вниз, -- под зверя, тогда пуля
хорошо ходи.
-- Знаю я это, Улукиткан, да в нужный момент, видимо, забыл.
-- Эко, забыл! Тогда ружье не бери, зачем напрасно патрон тратишь.
-- Хорошо, Улукиткан, обещаю исправиться, только не сердись.
Но лицо старика эвенка продолжает оставаться строгим. Он-то знает цену
патрону, для него это не просто порох с пулькой, это мясо, одежда, обувь,
это его существование в тайге, и, конечно, старик не может смириться с тем,
что я бесцельно расходую такое добро. Может быть, именно эта трогательная
бережливость к зарядам и научила его по-рысьи скрадывать зверя, стрелять
наверняка, воспитала поразительное спокойствие зверобоя. Две пули на одного,
даже крупного, зверя, по его убеждению, слишком большая цена.
Скоро вернулись и наши разведчики. По их лицам, по ленивым шагам можно
было угадать, что ничего хорошего они не принесли.
-- Тут ни за что не пройти с оленями, -- говорит Трофим, сбрасывая
котомку и тяжело опускаясь на землю. -- И обогнуть негде, страшенные
пропасти.
Все помолчали. Глеб налил пришельцам по кружке чаю.
-- Не будем сегодня решать этот вопрос. Еще походим, подумаем,
осмотримся, -- сказал я, не на шутку обеспокоенный результатами разведки.
Решили этот день посвятить личным делам. Надо помыться, постирать
белье, заняться починкой. Среди всех я самый богатый человек -- на моих
штанах еще есть место для латок.
После обеда в лагере затишье. Все работают -- кто устроился под
пологом, кто у костра. Над горами спокойное и безмятежное небо. Кажется, и
природа устала от бурь, от долгого тумана, от затяжного дождя и теперь
дремлет в сладостном забытьи. Спят собаки, в тени стонет проклятый комар, и
струйка дыма лениво сверлит синь неба. Мертвый, полуденный час. Даже крик
ворона, внезапно появившегося в душном воздухе, не растревожил всеобщего
покоя.
Я сижу под стланиковым кустом, пришиваю латку к ичигу -- до чего же это
скучное дело! А в голове рождаются и крепнут беспокойные мысли. Не могу
примириться с передышкой. Тянет меня к вершинам. Чувствую, не высижу в
лагере день.
Вижу, Василий Николаевич, развесив на стоянке белье, берет бинокль,
усаживается на камне, внимательно осматривает горы -- значит, и у него в
голове такие же думки и ему невмоготу сидячая жизнь. Что же делать? Перед
глазами та самая гора, что утром напомнила мне Будду и на которую я
собирался идти завтра, чтобы взглянуть на Ивакское ущелье.
Но почему завтра, если можно сегодня? К тому же мне необходимо добыть
для своей коллекции несколько экземпляров снежных баранов. Где, как не
здесь, это удобно сделать: есть много зверя и есть время.
Со мною на вершину идет Улукиткан. Ему тоже охота взглянуть на Ивакское
ущелье, по которому он проходил семьдесят лет назад. Старик напросился сам,
а я не стал отговаривать, хотя и знал, что подняться ему на такую вершину
нелегко.
Беру карабин, бинокль, рюкзак с гербарной папкой, сошки. Записная
книжка, нож всегда со мною. В кармане остается несъеденный утром кусок
лепешки. Улукиткан идет со своей неизменной берданой, без котомки, налегке.
Собаки поднимают протестующий вой...
-- Ни пуха ни пера! -- кричит нам вслед Трофим.
Мы пересекаем марь, за ней сейчас же начинаются плотные непроходимые
стланиковые заросли. Погружаясь в них, ты невольно ощущаешь их необъятность,
загадочность. Зеленая чаща прикрывает плотным руном каменистые откосы,
стекает густой чернотою в глубину ущелий. Стланик встречает нас густым
сплетением стволов, сквозь которые можно пробраться, работая и ногами и
руками. Но мы к этому привыкли, как и ко многим прочим препятствиям, без
которых наше путешествие не было бы интересным.
За ручьем, собирающим воду с перевальных котловин, сразу начинается
подъем. Видимо, древний ледник, некогда покрывавший хребет, успел только
оконтурить скалами будущий цирк, но выпахать из него коренные породы не
хватило сил. Так и остался цирк незаконченным.
Поднимаемся левым краем котловины. Улукиткан отстает. Какое беспокойное
чувство гонит старого эвенка на эту скальную вершину? Крутизна отнимает у
него силы, легким не хватает воздуха, он весь трясется, а все же идет,
выискивая проход между крупных обломков, заплетенных стлаником и прикрытых
лишайниками. С нами поднимаются по утесам ели, хватаясь цепкими корнями за
угловатые камни и упираясь острыми вершинами в небо. Сюда же, к верхним
скалам, выбегают небольшими табунами ольхи.
Но вот мы взбираемся на последние утесы, нависающие над чащиной. Дальше
идти легче. Измельчал стланик, стало просторно. За пологим гребнем виднеется
широкая седловина, прикрытая мелкой россыпью да зелеными альпийскими
лужайками.
Я усаживаюсь на камень отдохнуть, а Улукиткан, устало опершись грудью
на обломок, смотрит на седловину...
Огромное солнце давно миновало зенит. Сквозь фиолетовую дымку знойного
дня смутно обозначаются контуры отрогов, пятна снегов, ребристые грани
откосов. Даль почти не просматривается, чуть-чуть синеет, сливаясь с пустым
небом. В тайге сейчас, наверное, душно, как перед июльской грозою, а здесь,
на утесах, прохлада, сквозят шальные ветерки. Они несут сюда, на каменистые
вершины, запах жизни, что-то бодрящее, не угасающее. С ними долетает и крик
кедровок, шныряющих по стланикам в поисках осенних похоронок.
Вижу, Улукиткан забеспокоился.
-- Однако, на седле кто-то ходит... Смотри хорошо, может, там наша
удача.
Я поднимаюсь, смотрю на седловину, вижу, как что-то маленькое
прокатилось по зеленому фону и тотчас же вернулось на исходное место.
Напрягаю зрение и поражаюсь: все лужайки будто краплены светлыми пятнами.
Замечаю, что все они находятся в непрерывном движении, то кучатся, то
растекаются по седловине.
-- Неужели это бараны? -- спрашиваю я старика,
-- Эге, бараны. Больше тут никто не живи.
-- Почему же они такие маленькие?
-- Ничего, что маленькие. Когда мяса нет, то и вчерашние кости хорошо.
Мы обходим гребень слева, осторожно подбираемся с северной стороны к
седловине. Где-то близко стадо. Я его не вижу, но чувствую по тому, как
тревожно бьется мое сердце. Кажется, вот сейчас подкрадемся к краю россыпи,
и за ней...
-- Ходи сзади, -- шепчет Улукиткан, -- хорошо смотри, что я делаю, ты
то же делай. Баран глаз шибко далеко хватает, -- и он припадает к земле.
Мы почти на четвереньках добираемся до края россыпи. Улукиткан липнет к
камням, грозится пальцем и вытянутой ладонью отсекает верхнюю часть головы
по нос, показывая, насколько можно высовываться. А на озабоченном лице
строгость.
За краем россыпи уже близко седло. Место почти ровное. Слышится
реденький стук камней. Я не свожу глаз со старика. Вижу, он достает из
кожаной сумочки иголку, вдевает длинную нитку. Понять не могу, что он хочет,
и не знаю, нужно ли и мне повторять эту процедуру. А Улукиткан срывает
большой круг почти белого ягеля и, к моему удивлению, пришивает к передней
части шапки. Когда же он надел ее на голову, ягель напомнил мне белый лоб
барана. Беру я у него иголку и тоже пришиваю к своей шляпе белый лишайник, с
блин величиною.
Старик сползает с россыпи, еще раз предупреждает .. меня об
осторожности и ложится пластом на влажную землю. Теперь остается проползти
метров пятьдесят до камней на седловине, а там -- что будет.
Улукиткан ползет бесшумно, как-то смешно растопырив руки и ноги.
Бердана на спине, он ее держит зубами за ремень, перекинутый через правое
плечо, а ложе отодвинуто к левому боку -- так бердана не мешает
передвигаться. Устраиваю и я на спине карабин, покорно следую за стариком.
В том, как он бесшумно ползет, как вытягивается на земле, есть что-то
рысье.
Ноги устают от непривычных движений. От волнения не хватает воздуха.
Еще небольшое усилие, и мы у цели. Остается просунуть в щель ружья и
разрядить их. Старик натягивает глубоко на лоб шапку с пришитым ягелем,
начинает бесшумно подниматься. Я подбираюсь поближе, не свожу с него глаз. А
он высовывается, заглядывает вперед, и знакомая улыбка растягивает его сухие
губы. Где же тут удержаться, я тоже выглядываю и тоже улыбаюсь: метрах в ста
от нас беспечно пасется большое стадо, состоящее исключительно из молодых
самцов -- от двух до трех лет. Я не вижу среди них ни одного взрослого
барана. Словом, мы наткнулись на настоящий мальчишник. Что это, случайное
скопище или так положено у снежных баранов?
Одни из них пасутся, другие забавно играют, и только некоторые лежат на
плитах. Нас они не замечают, видимо, этому возрасту еще присуща беспечность,
к тому же и белые пятна на наших головных уборах служат хорошей маскировкой.
Мы продолжаем наблюдать. Молодь, своей игрою, движениями, мне живо
напоминает домашних ягнят. Бараны бодаются, стукаются лбами, разбегаются и
снова бьются. То вдруг поднимутся на задние ноги, угрожающе потрясут
головами и, успокоившись, начнут пастись. Видимо, уже с этого раннего
возраста самцы тренируют себя для будущих схваток!
Некоторые ягнята держатся парами, ни на минуту не разлучаются. Это --
близнецы. Они, вероятно, надолго, а может быть, и до старости, сохранят
родственную привязанность, будут жить вместе, беспечно кочуя с другими
самцами по тропам, проложенным в этой горной теснине их предками. А,
повзрослев, один раз в году, в начале зимы, когда у снежных баранов
наступает брачная пора, близнецы возненавидят друг друга, будут смертельно
биться за обладание самкой... Но пройдет эта любовная пора, угомонятся
страсти, и они снова будут вместе бродить по скалам.
Все это проносится в голове буквально за несколько секунд, пока
Улукиткан просовывает вперед ствол своей берданы. Но в этот момент налетает
сзади ветер. Он набрасывает запах человека на седловину, и ужас охватывает
животных. В одно мгновенье все стадо бросается вниз и исчезает с глаз.
Только один баран проспал. Его будит удаляющийся стук камней, он вскакивает,
тревожно оглядывается, нюхает воздух, не понимает, что случилось, и, как бы
ускоряя роковую развязку, выбегает на пригорок. Тяжелым выстрелом
разряжается бердана старика. Чужой, незнакомый звук тревожит скалы,
расползается далеко по отрогам и глохнет за гранью крутых скатов.
Рассеивается пороховой дым. Баран лежит на пригорке с пробитым сердцем.
Старик остается свежевать его, а я тороплюсь на голец, чтобы взглянуть на
Ивакское ущелье и зримо представить себе наш путь, которым нам, возможно,
придется идти к Алданскому нагорью. Но прежде всего нужно занести в записную
книжку несколько фраз о таком необычном мальчишнике и некоторые мысли,
зародившиеся при наблюдении за молодыми баранами.
Наблюдения за жизнью животных и растений в этих, забытых человеком,
пустырях я считаю своей священной обязанностью, хотя к моей непосредственной
работе все это никакого отношения не имеет. Нужно быть слишком равнодушным,
чтобы проходить мимо, не замечая извечной борьбы растений с курумами,
поединка леса с ветрами, крошечных цветов с холодом, не замечать
удивительной приспособленности снежных баранов к скалам.
Но разве не странно, что дикие животные, в том числе и снежные бараны,
обитающие на малодоступных вершинах гор, от рождения не видевшие людей,
смертельно боятся встречи с ними? Запах человека приводит зверей в ужас, и
это в одинаковой степени относится как к парнокопытным, так и к хищникам.
Видимо, за свое существование на земле человек так насолил диким животным,
что у тех выработался врожденный страх перед ним.
Теперь я окончательно убедился, что ягнята-самцы; уже в двухлетнем
возрасте покидают матерей и общество самок, ведут самостоятельный образ
жизни, сбившись в стада или присоединяясь к старым рогачам и предпринимая с
ними путешествия по хребтам. И летом, и зимой бараны не составляют общего
табуна с самками, кроме брачного периода. Они держатся строго отдельно,
предпочитая более высокие и скалистые вершины и горные цирки, тогда как
самки, скажем, здесь, на Становом, занимают границу стлаников, горные
котловины, распадки. Только во время «нашествия» гнуса они вместе с ягнятами
взбираются на скалы и там, на ветерке, проводят весь день.
Я поднимаюсь по голому пустынному гребню. Холодком веет от россыпей.
Спадает жара, но воздух все еще сухой и теплый. В остывшей синеве
прорезаются седовласые макушки гор. Мирно, спокойно кругом, только неровный
стук камней под ногами выдает мое присутствие. И как-то некстати вьется
дымок костра над темно-зелеными стланиками, что глубоко внизу окружают наш
лагерь. Откуда-то слева с легким посвистом крыльев взвивается пара
белохвостых стрижей. Они описывают надо мной круг и, не замыкая его,
спиралью уходят высоко в небо. Невольно завидуешь им, легкости их полета, их
стремительности.
К сожалению, с гольца мне не удается увидеть полностью Ивакское ущелье:
даль еще окутана дымкой, а ближнюю часть ущелья закрывает пологий отрог,
высунувшийся от вершины на север. Придется идти туда, иначе наши усилия
оказались бы напрасными.
На минутку сажусь на камень отдохнуть. Горы тонут в синеве, горизонт
сливается с дымкой. В воздухе остатки зноя, смешанного со смолистым ароматом
стлаников, приносимым из мрачных провалов. Радостно бьется сердце при мысли,
что ты достиг вершин первобытных гор. Может быть, все, что видно с этой
высоты, впервые обозревается человеком. Как необъятны богатства нашей
страны! Сколько нетронутых богатств хранят в своих складках недра, богатств,
до которых еще не дотронулись пытливые руки советских людей и до которых,
даже при наших темпах, может быть, еще не скоро дойдет черед. Но дойдет!
Вижу, еще пара стрижей взвивается над вершиною и неровной спиралью
уходит в небо. За ней появляется вторая пара, третья... Кажется, наступил
час их состязаний, и птицы торопятся занять свои места в просторном небе. Их
уже много, не сосчитать. Это не вечерняя кормежка и не забава, а, видимо,
серьезная ежедневная тренировка, иначе им не удержать мирового первенства по
скорости. И трогательно, что все они летают только парами. Как стремительны
и необычно легки они в полете, как согласованы движения, точно «звено» из
двух птиц составляет одно целое!
В прохладе уже тает дымка. Поднимаются горбы Станового и у горизонта
отделяются от неба зазубренной чертою. Иду к краю отрога звериной тропой по
узкому гребню, -- вернее, по верхней кромке высоченных скал, урезающих
гребень справа. Вниз страшно смотреть: там -- бездна. Кажется, падая, скалы
дробились, скатывались вниз, но вдруг останавливались, цеплялись одним краем
за гору, повисая над пропастью.
Вот я и на краю отрога. Теперь подо мною лежит Ивакское ущелье,
прикрытое старенькой рванью из хвойных лесов, марей и россыпей. По дну его
блестит река, прижимаясь почти на всем своем протяжении, до слияния с
Утуком, к левому краю. Дно ущелья просторно, и с высоты путь на север
кажется свободным. Только от перевала и до устья большого правобережного
притока, огибающего голец, на котором я нахожусь, лежит сильно вспученная
местность, склоны которой заросли стланиковой чащей. Я делаю зарисовку
ущелья, отмечаю препятствия, более доступные проходы, как они кажутся с
высоты птичьего полета.
Хорошо вижу и западную часть хребта. Она и отсюда не внушает доверия.
Неужели с оленями не пройдем?
Возвращаюсь своим следом. Набегающий ветерок дышит вечерней свежестью.
Спешу к Улукиткану. Старик ждет меня и, вероятно, беспокоится.
Вижу, впереди, на одной из зазубрин скалы, внезапно вырастает рогатый
силуэт. Он появляется всего лишь на секунды, точно для соблазна, и исчезает
в провале.
...Если бы я знал, решившись преследовать баранов, что со мною
произойдет!
Тороплюсь дальше. Болью отдается во мне стук камней под ногами. Пугливо
смотрю на закат, времени остается немного.
Вот и знакомая скала. Осторожно высовываюсь из-за камней. За скалою
тоже скалы, нависающие над пропастью неровными рядами. Вижу, дальше на
гребне появляется крупный баран. Он останавливается, поворачивает голову в
мою сторону, долго стоит, четко вырисовываясь на шафрановом закате. Я
прикладываю карабин к плечу, ловлю на мушку барана, но выстрел
задерживается, мишень кажется далековатой.
А тем временем на гребне появляются, один за другим, еще шесть взрослых
рогачей. Они выстраиваются в одну цепочку и, лениво покачиваясь на коротких
ногах, уходят в тишину, не нарушая своим присутствием сонливый покой гор. В
их движениях полная беспечность, будто в этот торжественный час заката
смягчаются сердца врагов. Ни один не оглянется, не проявит хотя бы
любопытства к окружающей местности. Животные не подозревают, что из-за
скалы, оставшейся у них позади, следит за ними человек с винтовкой.
Бараны взбираются на верх утеса. Занимают места по карнизам, как в
амфитеатре, и, повернувшись к закату, ложатся. Кажется, что все им тут
привычно, знакомо, будто в течение всей своей жизни они ежедневно выходят на
этот утес проводить солнце, насладиться вечерней прохладой и их никто здесь
не беспокоит.
Начинаю скрадывать баранов, пытаясь во всем подражать Улукиткану.
Обхожу скалу по прилавкам, над самым провалом. Страшно смотреть вниз.
Но азарт и дух соревнования захватили меня: неужели то, что смог старик
(пусть при его опыте, но зато и в его возрасте), недоступно мне, человеку
гораздо более молодому и, несравненно, физически более сильному.
Остается выбраться на боковой гребень, за ним недалеко и рогачи. И
вдруг из-под ног срывается камень. Он падает вниз, сталкивая на пути другие,
и все вместе они с шумом летят в пропасть.
Долго ворчат разбуженные скалы. С досадой думаю, что вспугнутые бараны
теперь далеко, и горькое разочарование сменяет надежду на удачу.
Вижу, впереди кружится ворон, что-то рассматривает сверху...
Крадусь... Протискиваюсь между двух камней, выглядываю и приятно
поражаюсь: все бараны лежат на карнизах, облитые яркой позолотой заката,
напоминая бронзовых сфинксов. Значит, их не спугнул стук камней. Нас
разделяет расстояние в сто метров.
Сколько величия в их окаменелых позах!
Присматриваюсь, какого бы выбрать из семи почтенных рогачей? Все они
соблазнительно хороши, крупные, длинные, достойные быть представителями
своего рода в музее.
Замечаю у одного необычно большие рога, черные, сильно вывинченные
наружу. Его-то я и избираю в жертву. Однако стрелять не могу, он показывает
мне только переднюю часть головы, а туша спрятана за соседа. Решаюсь
отползти назад метров тридцать, и тогда баран будет виден хорошо.
А ворон все кружится перед глазами, то взлетит, то приземлится, и
что-то бормочет простудным голосом.
И тут же слух ловит тревожный крик куропатки. Знаю, не зря кричит
птица, однако сейчас не до нее. Подбираюсь к расщелине, взбираюсь на
гребень, но баранов не вижу, заслоняет большой камень. Ползу на четвереньках
по узкому карнизу влево.
Вот и край. Разгибаю спину, приподнимаюсь... Ничего не видно.
Становлюсь левой ногою повыше на выступ, упираюсь носком в большой камень...
Они, бараны! Лежат. Любуются небесным пожаром.
Прикладываю карабин, -- и в этот самый момент впереди ворон
стремительно пикирует куда-то вниз, и тотчас же оттуда с неистовым криком
выскакивает куропатка с табунком цыплят. Ощущаю, как вздрогнула мушка
карабина. Выстрел задержался!
Ворон молча набрасывается на выводок, пугает взмахом сильных крыльев,
грозит клювом, но куропатка с материнским героизмом защищает малышей. То она
распустив крылья и приняв грозный вид, налетает на ворона, то вдруг
притворно падает, бьется на земле в предсмертных судорогах, отвлекая на себя
врага. Из соседнего ложка на помощь торопливо летит отец семейства. Крик,
тревога усиливаются, цыплята в панике то бросаются к родителям, то ищут
спасения в камнях. А хищник наглеет, куропатка не выдерживает натиска,
пытается увести выводок под навес.
Этого-то, видно, и хочет хищник. Он настигает заднего цыпленка,
смертельно бьет по голове клювом, поднимается, бьет второго...
«Ах, -- думаю, -- стервец! Вот я тебя сейчас...» Ловлю его на мушку, и
выстрел потрясает тишину.
И в тот же миг что-то подо мной уползает вниз, уже сыплется щебень. Я
хватаюсь руками за край скалы, силюсь удержаться. Выпущенный карабин, падая
через плечо в пропасть, больно рассекает мушкой щеку.
В сознание врывается ужас нелепой развязки.
Чувствую, как сползают пальцы, прилипшие к граниту. Напрасно пытаюсь
правой ногою достать край карниза.
Последним взглядом ловлю край неба, еще освещенного гаснущим закатом, и
падаю!
Что-то острое скользнуло по животу, больно ударило по челюстям,
оттолкнуло, потащило вниз...
Забытье было долгим и тяжелым.
Что привело меня в сознание -- не помню, но оно вернулось как-то сразу,
вместе с мучительной болью. Долго не могу понять -- где я, что за светлячки
маячат в темноте перед открытыми глазами и почему не разгибается спина.
-- Гу-у! У-гу-гу! -- доносится из тишины, и я узнаю голос Улукиткана.
Пытаюсь приподняться и слышу, как сорвавшийся из-под меня камень с
гулом летит в пропасть. Догадываюсь, что лежу на краю карниза, за которым --
черная бездна. Хочу крикнуть, позвать на помощь старика, но что-то острое не
дает пошевелиться языку. С трудом откашливаюсь, сплевываю кровь вместе с
обломанными зубами и хриплым голосом даю о себе знать. А сам боюсь
пошевелиться, чтобы не сорваться в пропасть.
Что, если Улукиткан не услышит меня?!
-- У-гу-гу! -- снова доносится до слуха.
Я отвечаю, зову, жду. Опять тишина.
Вижу перед собою густую темь ночи, прошитую холодным мерцанием звезд,
да жуткие силуэты скал, нависающих надо мною.
Я беспрерывно кричу. Слышу, как осторожно, ощупью, приближаются шаги
вместе со стуком камней.
-- У-ю-ю... -- какой худой место! Зачем сюда ходи? -- возмущается
старик, спускаясь ко мне на четвереньках. Дышит он тяжело, прерывисто.
Одну руку он подает мне, другой, кажется, держится за выступ. Но стоит
мне пошевелиться, как в пропасть летят обломки и оттуда доносится глухой
шум, словно ропот каких-то чудовищ, обитающих в этих мрачных скалах. Силюсь
привстать и не могу преодолеть боль в левом боку, в ногах, не могу поднять
отяжелевшую голову. Страшное состояние беспомощности охватывает меня. Как
выбраться из этой западни? А камни все сыплются и сыплются в пропасть.
Вдруг пробудилось страстное желание сопротивляться бессилию, и я,
опираясь на одну руку, со стоном приподнимаюсь. Не знаю уж, с каким
напряжением и с каким риском для себя Улукиткан помог мне выбраться с
карниза.
Старик заботливо выводит меня на гребень, усаживает между камней, сам
присаживается рядом.
-- Думал, ты баран стрелял. Скоро ходи сюда, хотел помогать шкуру
сдирать, да совсем никого не нашел. Как так получился?
Я подробно рассказываю старику о случившемся, и сам удивляюсь, что
сравнительно легко отделался.
Улукиткан неодобрительно качает головою, хочет что-то сказать, но,
видимо, щадит меня. Знаю, с ним этого не случилось бы.
-- Однако, ходить отсюда будем, тут холодно, -- говорит он. Но в голосе
его неуверенность: смогу ли я сейчас передвигаться.
-- Нет, я никуда не пойду...
-- Хорошо, я буду ходи, -- говорит он, к моему удивлению, -- только ты
сюда сядь, за большой камень, тут теплее. -- И старик, подослав мох, помог
мне перебраться на новое место.
Он накрыл мои ноги своей телогрейкой, сделал из камней заслон от ветра
и, не сказав ни слова, исчез. Я не спросил, куда он пошел... Отдаляющийся
стук камней отмечал его путь в темноте.
Снова я один во власти молчаливых скал под звездным небом. Кажется,
сразу усилилась боль. Все тело ноет, словно полк солдат прошелся по мне
коваными сапогами. Во рту все еще неприятный привкус крови, хочется пить...
Боюсь пошевелиться, а думы плывут и плывут неровной чередою.
Человек со всем быстро свыкается, и меня уже не удивляет застывший
перед глазами пейзаж -- скученные скалы, поднявшиеся в темноту безоблачного
неба, развалины утесов, безмолвие ночи. Живут только звезды. Как страстно,
живо светят они! Я мог бы всю ночь любоваться картиной далеких миров,
наблюдать переливы разноцветных огней, прослеживать пути созвездий. Но боль
снова и снова возвращает меня к печальной действительности.
Как холодно стало! Скорее бы день!
Слышу, где-то справа и далеко стукнул камень. Кто бы это мог быть?
Напрягаю слух, жду.
А утро вдруг распахивает восток, и оттуда, из-за зубчатых хребтов
Станового, сочится нежный, голубеющий отсвет наступающего дня. А нижние
отроги еще тонут в свежести июльской ночи.
Опять стукнул камень, но теперь ближе и яснее.
Пытаюсь разгадать, чьи шаги тревожат покой гор, и с болью вспоминаю
пропавший карабин. Без него жутко в этом молчании, среди скал. Но вот вижу,
кто-то высунулся из-за гребня в порозовевшую полосу утра и замер
бесконтурной копной. Узнаю Улукиткана.
Он молча спускается ко мне, снимает с плеч дрова, тяжело, устало
садится на камень рядом.
-- У-ю-ю, -- вырывается из его груди старческий вздох.
Мы оба молчим, оба захвачены одним хорошим чувством удовлетворения,
которое трудно выразить словами. Как я благодарен ему за заботу, за то, что
он не покинул меня, за эту молчаливую сцену!
Старик разжигает костер, помогает мне пересесть поближе к огню.
Совсем уходит ночь. Все становится понятным, доступным, исчезают тайны
звездного мира. Косые потоки света обливают далекие вершины, нашу убогую
стоянку, падают на рыхлый туман, упрямо ползущий со дна обширного ущелья.
В безмятежной синеве неба парит беркут.
Я достаю кусок лепешки, пристраиваю его к огню. Старик тоже извлекает
из-за пазухи лепешку, отогревает ее, и мы молча жуем.
Все вокруг заполняется сумраком, превращает огромные горы в ничто. За
его пеленой чудится страшная пустота.
Вдруг где-то на отроге прогремели камни.
-- Однако, баран мой след нашел, убегает, -- говорит Улукиткан,
подсаживаясь к огоньку и доедая лепешку.
Стук отдаляется, затихает, потом снова зарождается и совсем близко.
Видим, из тумана к нам вырываются два черных пятна...
Это Бойка и Кучум!
Собаки с ходу налетают на нас. И судя по тому, как свисают у псов
языки, они преодолели большое расстояние.
Бойка ложится на камень поодаль от огня, вытянувшись во всю длину и
откинув голову, а Кучум усаживается на задние лапы, смотрит внимательно мне
в глаза.
-- Зря отпустили собак, они могли наскочить на баранов -- и тогда ищи
ветра в поле! -- говорю я.
-- Однако, с ними человек сюда ходи, -- отзывается уверенно старик. --
Скоро туман кончай, день хороший будет, нас увидят.
-- Ты думаешь, распогодится?
-- Обязательно. Смотри хорошо, как Бойка лежи.
-- Обыкновенно, по-собачьему. Он улыбается моему ответу.
-- Головой думай. В плохую погоду собака обязательно клубком лежи, а
сейчас голова, ноги в разный стороны, как в жаркий день, значит, чует:
близко тепло. Правда говорю, день хороший жди.
И, как бы в доказательство, что у Бойки такая поза не случайна, точно
так же ложится и Кучум.
...Снизу долетает бодрящий крик кедровки. Проснувшийся ветерок еле
уловимым дуновением набрасывает из ущелья сочную свежесть утреннего леса.
Туман сначала медленно, потом все торопливее, потом уже панически отступает.
Его пронзают и разгоняют горячие лучи солнца. Как добрые волшебники,
освобождают они из его цепкого плена горы...
Я устраиваюсь полулежа, прислонившись спиною к камню, Улукиткан
засыпает сидя. Обхватив руками согнутые ноги и положив на них уставшую
голову, старик начинает похрапывать. Огонек перед ним давно погас.
Я закрываю глаза и тоже пытаюсь уснуть. Ничего не выходит. В какие-то
просветы памяти ползут пугающие воспоминания, кажется, будто еще не
закончился вчерашний день, что я все еще нахожусь над обрывом, и грохот
падающих камней больно отдается во всем теле.
Одинокий выстрел поражает слух. Открываю глаза. Бойка и Кучум уже
умчались на звук. Старик вскакивает и, заслоняя ладонью свет солнца, смотрит
на иззубренный край гольца, куда убежали собаки. Затем собирает сухой ягель,
поджигает его, и клубы тяжелого дыма, поднимаясь в небо, точно указывают
нашу стоянку.
Мы видим, как по россыпи спускаются к нам люди. Их трое. Понять не
могу, что заставило товарищей покинуть лагерь? Не случилась ли беда?
Какой-то неприятный холодок пробегает по телу.
-- Здорово! Далеко забрались, -- бодро говорит Василий Николаевич,
подходя к нам.
Он окидывает нашу стоянку пытливым взглядом, как бы ища какую-то
разгадку, смотрит на Улукиткана, переводит глаза на меня, и вдруг болью
искажается его загорелое лицо. Подходят остальные и молча, сочувственно
смотрят на меня.
-- Ну и помяло же вас! Где это? -- спрашивает Трофим.
-- Когда голова не знает, что делают ноги, так бывает, -- отвечает за
меня старик.
Принимаюсь еще раз вспоминать вслух все, что произошло вчера вечером.
-- Значит, не зря мы торопились, -- говорит Василий Николаевич,
подсаживаясь ко мне. -- Вчера до полуночи сидели, костер жгли, да напрасно:
утром ждали -- нету, ну и решили: не иначе -- случилась беда. Давай
собираться, харчей взяли на два дня, веревки, собак с собою захватили. Долго
ли тут обмишуриться!
Мы знали, что наше отсутствие вызовет беспокойство на стоянке, но что
люди уже утром пойдут на поиски -- этого я не ожидал. Тем дороже и приятнее
был их неожиданный приход!
-- Как же с карабином? Нельзя бросать! Надо искать, без ружья как в
тайге?! -- говорит Глеб.
-- Оно верно, -- подтверждает Василий Николаевич.
Все мы соглашаемся с ними. Отправляю Улукиткана за печенкой к убитому
барану, а остальных веду к месту катастрофы.
«Веду»... Как громко сказано. Это они меня ведут, поддерживая. Как
отяжелели шаги, будто целую вечность не ходил! Да и земля под ногами
потеряла прежнюю устойчивость.
Ориентиром мне служит утес с вогнутым западным склоном, напоминающим
амфитеатр, откуда бараны любовались закатом. По нему без труда нахожу убитых
вороном цыплят, а затем и край гребня.
Только теперь, заглядывая вниз, я понял, какому безрассудному риску
подвергал себя, подчинившись охотничьей страсти.
Василий Николаевич наклоняется над пропастью, морщит лоб, чешет
затылок, удивляется.
-- Эко, недобрая занесла вас сюда! Стоило из-за барана так рисковать!
-- говорит он. Но в голосе его фальшь, ведь сам он из-за добычи черт знает
куда полезет! -- Ну что ж, -- добавляет он, -- надо спускаться... Поищем
потерю.
Я остаюсь на гребне.
Василий Николаевич, Трофим и Глеб сбрасывают котомки и скрываются за
гранью отвесных утесов. Гул падающих в пропасть камней пробуждает дремлющие
в полуденной тени скалы. Изредка слышны голоса товарищей.
День, кажется, прекратил свой бег, застыло над землею горячее солнце.
Наконец, из-за развалин показывается голова Василия Николаевича.
-- Карабин видно, да достать-то его не знаем как. Сбросьте веревку, --
кричит он мне.
Долго еще снизу доносится говор вместе с грохотом скатывающихся в
бездну обломков. Потом вдруг голоса стихают, шорох камней приближается,
показываются люди.
За плечами у Глеба я вижу свой карабин. Что с ним сталось! Ложе все во
вмятинах, мушка сбита, прицельной рамки нет. Но он еще способен стрелять, а
это самое главное. Остальное отремонтируем.
Через несколько минут мы уже медленно шагаем по крутой россыпи,
взбираясь на верх гребня.
Сам удивляюсь, что силы начинают возвращаться. Все-таки друзья помогают
мне.
На гребне нас поджидал Улукиткан с печенкой, но товарищи не хотят
терять времени на обед, решают добираться до лагеря.
Василий Николаевич остается со мною «сопровождающим», остальные уходят
быстрее. По пути они захватят мясо убитого Улукитканом молодого барана.
Стихают последние дуновения ветра, редкие голоса птиц, и беспредельная
тишина словно убаюкивает просторы. Сколько торжественности, великолепия в
этих встречах двух начал. Посмотрите, какими красками играют последние лучи
угасающего дня, как в густой пурпур опускается солнце, как покорно
погружаются горы в густые сумерки.
Еще несколько минут какого-то равновесия, и день уходит. Затухающее
солнце посылает на мир последний вздох успокоения.
Мы пересекаем котловину, где наблюдали с Улукитканом «мальчишник», и не
торопясь добираемся до крутого спуска в ущелье.
Надо отдохнуть. Садимся лицом к закату.
Василий Николаевич достает бинокль и начинает осматривать горизонт.
Видимость изумительная. С каким-то откровением дальние горы
приближаются к нам, и на их крутых склонах становятся различимыми выступы
скал, морщины. Даже отдельные деревья!
-- Неужто мне мерещится? -- говорит вдруг Василий Николаевич, не
отрывая бинокля от глаз и продолжая осматривать горизонт. -- Кажется, я вижу
пирамиду... Ей-богу, вижу! Взгляните-ка вон на тот комолый голец.
Я беру бинокль, кладу его на камень для большей устойчивости и
пристраиваюсь к нему лежа.
Да, это действительно пирамида, но еще не законченная: поднято только
две ноги с болванкой. Ниже на выступе ясно виднеется белое пятно, --
кажется, палатка.
-- Наши, да? -- не терпится Василию Николаевичу.
-- Вероятно, Пугачев со своим подразделением, больше некому.
У моего спутника радостью загораются глаза. Он долго смотрит на вершину
гольца, четко видимую на фоне затухающего заката. Мысленно Василий
Николаевич уже там, у Пугачева, нашего общего большого друга и неугомонного
исследователя.
Близко люди!..
Теперь у нас не может быть иного решения: на запад по хребту на встречу
с Пугачевым. Он своим появлением на Становом облегчит нашу задачу.
Мало-помалу тускнеют, гаснут печальные отблески вечерней зари. Горы
погружаются в сумрак. На смену дня из таинственных расщелин выходит ночь. На
душе вдруг стало свободно и легко.
Мы с Василием Николаевичем спускаемся с гольца и пробираемся по
стланиковой непролазной чаще, чуточку освещенной скупым мерцанием звезд. Над
нами необъятные небеса и тени пустынных гор. Белесый туман, сползающий с
отрогов, копится в бесконтурной тьме ущелья. Он встречает нас холодящим
прикосновением и уводит в свой сказочный чертог.
В потемках бродим ручей на дне каменистой ложбины и взбираемся на
берег. Мои ноги еле-еле передвигаются. Вдруг из тьмы доносится запах
отварной баранины. Сразу обнаруживается пустота в желудке. Одежда цепляется
за сучья, то и дело попадаем в плен густо сплетенных стволов. Но запах
надежно ведет нас к цели. Вот и знакомая марь. Яркий свет костра
просверливает мрак и, не потухая, горит впереди, приветливо мигая запоздалым
путникам.
Идем по кочковатой земле, торопимся. И опять туман настигает нас. Все
снова исчезает, ни звезд, ни огонька, ни каменных истуканов... Кажется, не
добраться нам сегодня до костра, до бараньего мяса, до покоя!
Под ногами черным серебром плещется вода. Кое-как иду, задерживая своей
медлительностью Василия Николаевича.
Какая-то странная сегодняшняя ночь: то она обвеет тебя приятной негой,
то вдруг окутает проклятым туманом. Где же наш отдых, сколько шагов,
километров, часов до него?
Силы покидают меня. Хочу присесть, ищу под собою подходящую кочку и на
этом думаю закончить мучительный путь, но совершается чудо: туман вдруг
расступается, легкий ветерок подбирает с мари жалкие, его лохмотья. И снова
над нами играют небесные светлячки, тайга дышит ночной, бодрящей свежестью,
и впереди, совсем близко, ярко пылает костер.
Вот и лагерь.
Нас давно ждут. Накрыт «стол». Над огнем котел со свежим бараньим
мясом, пахнет только что испеченными пшеничными лепешками.
-- Пугачева обнаружили, -- бросает сдержанно Василий Николаевич,
пристраиваясь к костру покурить.
Все поворачиваются к нему, а Трофим, вытянув по-гусиному шею, с
удивлением заглядывает в лицо Василия Николаевича.
-- Что ты сказал?
-- Пугачева обнаружили на гольце, привет тебе прислал.
-- Рехнулся ты, что ли, откуда ему взяться? -- и он вопросительно
смотрит на меня.
-- Пугачев здесь в горах, километров сорок по прямой. Строит пункт.
-- Тогда совсем хорошо! Давайте заедем? Вот обрадуется!
-- Непременно, это наша обязанность. Да и повидаться надо с ним, как он
там командует своими богатырями?
После чая долго не могу уснуть. В голове новые планы. А что, если с
кем-нибудь уйти без оленей к Пугачеву? Надо ж захватить его на гольце, иначе
заберется далеко -- не найдешь.
Меня сразу всего захватывает это решение. Я готов. Засыпаю с мыслями о
предстоящем походе.
Сон был всего лишь короткой передышкой. Прибежали олени -- и с ними
полчища гнуса. Улукиткан разжег дымокуры, и только тогда люди выбрались из
пологов.
У меня болезненно распухли десны. Это серьезно осложняет решение идти к
Пугачеву, заставляет на день задержаться на перевале. За чаем я рассказываю
о своем плане, и мы сообща его разбираем. Кто-то один пойдет со мною.
Остальные, во главе с Улукитканом, поведут караван вниз по Иваку до слияния
этой реки с Утуком. Но если по пути найдут след Пугачева, -- свернут к нему,
и там мы все встретимся.
Трофим усаживается за рацию. Вызывает штаб, просит радистов всех
полевых партий следить за переговорами.
Я сообщаю о том, что в горах мало снега. Даю команду приступить к
заброске грузов. И, наконец, разрешаю полностью разворачивать
геотопографическую работу на Становом восточнее Ивакского перевала.
Мое сообщение как бы подытоживало наш тяжелый путь в эту дикую горную
страну, через безбрежные пустыри, с вечно стылой землею, с кочковатыми
марями. Мы достигли, чего хотели, но путь еще далеко не закончен.
-- Кто же пойдет со мною? -- обращаюсь я ко всем.
-- Конаться и попусту спорить не будем, очередь Трофима. У него новые
сапоги, а мои ичиги не выдержат такого похода, -- говорит Василий Николаевич
с явным сожалением.
-- Ты готов, Трофим? -- спрашиваю я Королева,
-- Да.
-- Предупреждаю, это будет тяжелый поход.
-- Я пойду. Даже с радостью. Пусть будет трудно, клянусь, не отстану.
-- Ну, коли так, собирайся, выступаем рано.
-- Нам, однако, подождать надо тут три-пять дней, может, не пройдешь,
назад вернешься, -- говорит Улукиткан, обеспокоенный за нас.
-- Нет, ничего не случится. Вы тоже утром покинете перевал. И вам тоже
предстоит трудная дорога, так уж поспешите, чтобы не ждать вас на устье
Ивака. Ты меня понял, старик?
-- Как не понял!.. Все будет, как сказал.
Люди настроены оптимистически, и это сказывается на наших сборах. Все
стараются помочь нам: напоминают, что надо взять, помогают укладывать.
Не исключено, что мы уже не застанем Пугачева на гольце, и тогда
ограничимся только своим обследованием Станового. Это плохо. Если я не
посещу сейчас подразделения, то позже кому-то из руководства экспедиции
придется идти сюда, чтобы проверить работу Пугачева.
Итак, с завтрашнего утра мы полностью во власти суровой природы
Станового, а уж она, конечно, не пощадит нас в трудную минуту!
Но мы ко всему готовы.
Берем один полог на двоих, гербарную папку, все необходимое для
препарирования птиц, соль, карабин, бинокль, телогрейки, плащи, починяльную
сумку, продовольствия на пять дней: на весь путь не взять, рассчитываем на
баранов. Как мы ни были скупы при отборе вещей и продовольствия, все же
котомки получились килограммов по двадцать пять. Это много, но мы утешаем
себя тем, что их вес с каждым днем будет неизбежно уменьшаться.
Закончены сборы, сложены и вьюки.
Над Ивакским перевалом ночь. Спят вершины Станового, близкие небу,
утомленные вечным безмолвием. Спит нагая земля. Спят звери, птицы, и только
одна-единственная пташка пытается перекричать ручей, да костер тщетно
борется с наседающим со всех сторон мраком. Лагерь засыпает. Звездное небо
обещает назавтра солнечный день.
Итак, утро разделит нас: Улукиткан с Мищенко, Глебом и каюром Николаем
Лихановым поведут караван на север, а мы с Трофимом уйдем на запад, чтобы
среди моря вершин и бесконечных провалов разыскать отряд Пугачева и самим
разобраться в сложном рельефе Станового, встретиться с его обитателями,
собрать гербарий альпийской зоны.
Не преодолев смутного беспокойства, я уже укладывался спать возле
костра, когда ко мне подсел Улукиткан. Лицо озабочено.
-- Помни, -- говорит старик, -- прямо на закат пойдешь, обязательно
речку Утук увидишь, она в озеро Токо бежит, это не забывай, может,
пригодится. Если что случится и до места не доберешься, назад ходи своей
тропой. Новый след не делай, мы тут, на перевале, вам продукты положим. А
заблудитесь по туману, упаси бог, не бегай туда-сюда, как на Джегорме,
пропасть можно. Надо сразу садиться и ждать, пока солнце не увидишь. Это
хорошо знай. Да смотрите, огонь не пустите, тут ему много работы...
-- Все твои заповеди, Улукиткан, мы будем свято хранить, ты только не
беспокойся за нас, все обойдется хорошо.
-- Как не беспокойся! Худой человек тот, у которого сердце не болит за
друга. Самому бы надо идти с тобою, да ногам не осилить горы. Стар
Улукиткан, ой, как стар!
-- Напрасно ты горюешь, впереди у тебя еще длинная тропа и много удач.
Старик бросил на меня пристальный взгляд, и лицо его вдруг помрачнело.
-- Не говори так. Скала и та от времени падает. Из тайги донесся шум,
треск, залаяли собаки. К лагерю табуном прибежали олени.
-- Однако, медведь, а то и волки близко, -- говорит старик, выбираясь
из-под полога.
Он достал из своей потки кожаную сумочку с солью и, гремя пришитыми к
ней когтями, ушел в темноту. За ним следом кучей ушли и олени. Оттуда еще
долго слышалась его однотонная песня, охраняющая спокойствие стада.
Рано утром двадцать шестого июня мы только сняли палатки, как с
перевальной седловины донесся торопливый стук камней -- это, заметив нас,
куда-то на запад бежит стадо снежных баранов-самцов.
-- Идите их следом, -- говорит старик, обрадованно кивая головою в
сторону удаляющегося грохота. -- Однако, у рогачей тут дорога, может, как
раз к самому месту приведет.
Мы прощаемся. Глеб долго держит мою руку. Вижу, какие-то мысли тревожат
его.
-- Говори, что у тебя? Бежать собираешься? Он отрицательно качает
головою.
-- Вот видишь, как неладно у нас с тобою получается: расстаемся, может
быть, надолго, и сказать нечего друг другу.
Глеб отводит глаза, опускает голову.
Караван уходит вниз и исчезает в провале. Мы с Трофимом поднимаемся на
седловину. С нами Кучум. Идем следом рогачей, как советовал Улукиткан.
III. ТРОПОЮ СНЕЖНЫХ БАРАНОВ
I. В глубину неисследованных гор. Круторогие проводники. Темное пятно
на снежнике. Одинокий крик ягненка.
Еще свежо, но яркий свет солнца распахивает дали. С чувством смутной
тревоги и неуверенности мы с Трофимом покидаем Ивакский перевал. Тропа ведет
нас выше, дальше на запад от седловины. Идем тяжело, спины под котомками уже
мокрые. Далеко впереди, за разлохмаченной грядой отрога, замечаем стадо
баранов. Может быть, действительно, их путь совпадает с нашим, и рогачи
помогут нам добраться до цели?
Кому, как не этим чудесным прыгунам, жителям верхних скал и цирков,
известны проходы по сложному лабиринту провалов! Кто, кроме них, знает
надежные обходы опасных мест? Главное для нас сейчас не потерять стадо из
виду, ведь тропа заметна только в узких местах.
Привязанный своркой к поясу, Кучум нервничает, неотрывно обнюхивает
тропу, по которой недавно прошли бараны. Вот и узкий гребень, сложенный из
развалившихся черных скал. Вдруг из-за него раздается беспорядочный стук. Мы
бросаемся наверх, но уже поздно: в глубину провала вместе с грохотом
падающих камней уходит то самое стадо, которое мы боялись спугнуть. Оно
скрывается за изломом, и оттуда еще долго доносится гул скатывающихся
камней.
Какая досада!
Задерживаемся на гряде. Надо взглянуть на предстоящий путь. Трофим
усаживается на камень, достает бинокль, рассматривает местность. Я стою
очарованный утренней панорамой. Перед нами обширное горное пространство,
едва ли известное до нас кому-нибудь в своих деталях.
С гребня, куда мы выбрались, хорошо видна главная водораздельная линия
Станового.
Дикая картина. Горы привораживают взор непередаваемым хаосом. Они
толпятся здесь, на краю материка, уже охлажденные, навеки уснувшие, со
следами давнишней катастрофы. Их вершины кажутся бесконечно старыми и
уставшими. Нигде не видно ничего молодого, живучего. Но горы еще сохраняют
свое былое величие и недоступность.
Пожалуй, только большой поэт, стоя здесь, на орлиной высоте, нашел бы
нужные слова и краски, чтобы изобразить эти нагие и бесплодные, наводящие
уныние, горы.
Гребни, острые, как лезвия ножей, выступают из мрачных ущелий, еще
забитых утренним туманом. В эти темные глубины, через зубчатые грани скал,
текут горячие потоки солнечного света, и потревоженный ими туман колышется,
бродит ленивыми волнами. А дальше, насколько хватает глаз, камень и камень,
то в виде развалин, то в виде столбов, то в виде больших нагромождений. И
все это серое, безмолвное, давно умершее, прикрытое стареньким-стареньким
небом.
Обычно в горах утрами воздух наиболее прозрачен, и мы без труда
опознали голец, на котором сейчас работает Пугачев. В бинокль видна еще не
достроенная пирамида и белое пятно примостившейся на карнизе палатки. Мы
стараемся запомнить очертания гольца, его покатые плечи, ржавые пятна на
бедрах и зубцы скал, опоясывающих его со всех сторон.
Голец заметно возвышается над всеми северными отрогами Станового.
Напрямик по азимуту к нему ни за что не пройти. Решаем пока что продвигаться
по главной водораздельной линии хребта на запад, насколько это будет
возможно, и там решим, где удобнее свернуть к гольцу.
-- Смотрите, смотрите, бараны! -- кричит Трофим и подает мне бинокль.
По дну широкой седловины, что лежит за первым от Ивакского перевала
гребнем, бегут все те же рогачи. Выскочив на поляну, они внезапно обрывают
свой бег и начинают пастись, продолжая медленно перемещаться в западном
направлении. Присматриваюсь. В стаде девять голов. Один из баранов, самый
крупный, с огромными черными рогами, сильно хромает. Они проходят седловину,
начинают подниматься на склон противоположного отрога. Не показывают ли они
нам проход на верх этой мрачной стены?!
Я взбираюсь на выступ гребня, заглядываю в провал и не могу поверить
глазам своим: на дне седловины, где паслись бараны, огромное озеро! Оно
будто отдыхает в каменной колыбели, под охраной гранитных стражей.
Спускаемся вниз. Вот и озеро. Мы стоим на его каменистом берегу. Оно
действительно большое, густо-черное в тени и почти бирюзовое под солнечным
светом. На его гладкой поверхности ни единой морщинки, ни единого всплеска,
будто оно навеки застыло вместе с отображенными в нем скалами, небом и
одиноким облачком. Но прошумел ветерок, и озеро всколыхнулось серебристой
рябью, словно стая каких-то невидимых птиц, пролетая мимо, коснулась
крыльями его поверхности.
Озеро мертвое, в каменном ошейнике. К нему не ведут звериные тропы,
поблизости не живут птицы, отступила далеко от края и зелень. Только бури
иногда прорываются к этому уединенному водоему, чтобы гулом волн разбудить
спящих на дне его горных духов. Так и хочется поверить, что именно духи из
этого водоема воют на хребте в непогоду.
Проходим седловину. Чуть заметная звериная тропинка, по которой только
что прошли бараны, ведет нас на верх западной скалы. Она буквально подавляет
нас своею неприступностью. Под ногами ветхие ступеньки, узкие, обманчивые.
Тропинка бежит по ним, огибает нависающие карнизы, рвется, скачет, исчезает.
Трофим задает быстрый темп. Мы с Кучумом отстаем -- крутизна слишком
велика. И чем выше, тем труднее, опаснее.
Мой спутник явно изматывает силы. Не слишком ли он понадеялся на себя?
Кажется, да. Не добравшись до верху метров тридцать, он пластом падает на
плиту, не может унять разбушевавшееся сердце.
-- Ты еще не совсем поправился, к чему гонка?
-- Хотел испытать себя. Но вы не беспокойтесь, я пойду до конца.
-- Разве есть другой вариант?
На верху отрога небольшая поляна среди крупной россыпи, усеянная
одинокими цветами. Как приятно увидеть среди древних развалин свежую,
жизнеутверждающую зелень. Тут и куропаточья трава, с плотными вечнозелеными
листьями, мытник шершистый, соссюрея розовая, горлец узколистый, одуванчик
монгольский, а там, где повлажнее почва, растет густо-зеленый сибирский лук.
Жители альпийских лугов выбрались из ущелий ближе к солнцу, чтобы
отпраздновать на крошечной площадке запоздалую весну. Меня всегда удивляет и
радует это сожительство на большой высоте вечно холодных камней с хрупкими
живыми организмами, случайно попавшими на бесплодные вершины.
Мы заполняем гербарную папку, набираем за пазуху луку и шагаем дальше.
Всюду нас подкарауливают пропасти. За нами следят безмолвные вершины
Станового.
Тропа не всегда доступна, часто теряется, и тогда на помощь приходят
рогачи с хромым вожаком. Они нет-нет да и промелькнут где-то впереди, в
складках гор. Стадо определенно целится на запад, ведет за собою и нас.
Мы не торопимся. Перед нами раскрывается картина грандиозных
разрушений. Некогда возвышавшиеся над хребтом скалы, под действием внешних
условий, развалились и теперь лежат под нашими ногами в виде обломков.
Ледники и вода расчленили горы, углубили ущелья. И еще не окончен спор о
границах между представителями растительного мира: рододендронами,
крошечными ивками, фиалками, одуванчиками, с одной стороны, и россыпями -- с
другой. Здесь, на вершине Станового, нарядно видны созидательная сила земли
и разрушительный процесс времени; борьба жизни и смерти.
Жизнь здесь, на каменных громадах, не прекращает своей дерзкой попытки
перейти границу курумов. Она терпит постоянные неудачи, сотни лет пропадают
в бесплодных усилиях подняться всего лишь на несколько метров высоты. И
все-таки жизнь неустрашимо продолжает свою кропотливую работу и со временем
прикроет зеленым ковром нагие вершины Станового.
За океаном вершин меркнет солнце, и красный медлительный свет заполняет
глубину пространства. Пора подумать и о ночлеге. В двух километрах мы видим
стадо рогачей с хромым вожаком, уходящее на запад. Как благодарны мы им за
тропу! Больше, видимо, не встретимся.
-- Прощайте, круторогие проводники! -- кричу я, и эхо звонко катится по
вершинам.
Спускаемся на седловину и на этом решаем закончить первый день
путешествия.
Трофим отстает.
-- Ты почему прихрамываешь, ушиб ногу?
-- Нет... Какому-то черту надо было пришить гнилые переда, видите, что
осталось! Трех дней нет, как надел сапоги, а уже босой.
-- Батеньки мои, как же ты дальше пойдешь? -- ужаснулся я.
-- Вот я и думаю вернуться, да не найти этого мастера. А надо бы! -- И
Трофим сжал перекошенные гневом губы.
-- Ладно, не волнуйся, на стоянке попробуем починить.
-- Починить... -- он безнадежно махнул рукой.
На ночь нас приютила крошечная полянка, окруженная толпой зеленых
стлаников.
Гаснет закат. Мрак уплотняется... Уплывают вершины. Какая-то пташка,
жительница поднебесья, силится сложить из однообразных звуков прощальный
гимн ушедшему дню.
Трофим, примостившись на краю камня и зажав между колен сапог,
пришивает латку. На лице, освещенном бликами костра, озабоченность: шутка ли
остаться босым на этих пустынных горах. Я достаю из котомки пшеничную
лепешку, мясо, два кусочка сахару и в ожидании чая подсаживаюсь поближе к
огню. Борюсь с усталостью. Чувствую, как тепло настойчиво овладевает мною,
как голод отступает перед ним, и я незаметно для себя засыпаю.
Когда я проснулся, была глубокая ночь. В густой синеве неба теплились
звезды. Вдали чернел зубчатый горизонт, придавленный свинцовой тучей. Давно
погас костер, и только несколько бусинок горящих угольков еще светилось
из-под пепла. Возле меня нетронутые лепешки, мясо, два кусочка сахару и
почти пустой чайник.
Рядом спит Трофим.
Бедняга, он сполз с камня, да так и уснул с зажатым между ног сапогом,
с иголкой в руке. Его будит треск оживающего костра. Он подходит к огню,
отогревает продрогшее тело. Садится за починку. Я пришиваю латку к его
второму сапогу.
Еще не успело утреннее солнце осветить вершины, как мы уже тронулись в
путь.
Жизнь пробуждалась на наших глазах. Из скал, где обрываются кровеносные
жилы земли, капля за каплей сочится вода и начинает свой долгий путь от
холодных гольцов к океану. Увидав солнце, прозябшие за ночь цветы доверчиво
раскрывают ему свои лепестки. Та же крошечная пташка, что вечером слагала
гимн ушедшему дню, теперь поет его солнцу. И голодный беркут в небесной
синеве полощет в лучах восхода упругие крылья.
Без этих сочащихся капель влаги, без хрупких цветов, укрывшихся от
холода за камнями, без крика орлана в небе, без алмазных крупинок росы в
лишайниках было бы невыносимо тяжело на этих окаменелых вершинах.
Наше первое желание -- не сбиться с главной линии водораздела. Хорошо
бы увидеть рогачей, но их нет. Что-то гонит животных дальше. Баранов не
соблазняют ни дневная прохлада цирков, ни альпийские лужайки, их не утомляют
скалы -- они явно куда-то торопятся. Но куда, разве разгадаешь?
Сразу обнаруживается, что поблизости нет тропы. Сворачиваем вправо и
попадаем на боковой отрог. Пытаемся разобраться в рельефе, но это,
оказывается, не просто даже опытному глазу -- так все здесь однообразно и к
тому же затянуто густой дымкой. Склоняемся к выводу, что и тропа и
водораздел остались позади. Решаемся идти напрямик, хотя много раз на
горьком опыте убеждались, во что обходится такой путь.
Боже, какие невероятные мучения мы претерпели в этот день, пока искали
водораздел и звериную тропу! То попадали в вековые стланики, с густо
переплетенными стволами, и тогда не шли, а ползли, то путь нам преграждала
топкая высокогорная тундра или отвесные скалы, обход которых отнимал у нас
много сил. А ключи, цирки, комары! Словом, в этот день мы поняли, где
находимся и что такое Становой. Трофим окончательно разбил сапоги.
Но в этих трудностях, в этом непосредственном контакте с дикой
природой, несомненно, есть прелесть для исследователя. Ничего, что тело в
синяках и лицо исцарапано. Это пройдет, забудется, а что пережито, что
увидено, что в мыслях зародилось -- останется надолго в памяти.
И как ни странно, Становой все больше и больше захватывает нас своею
грандиозностью: конусами, вонзающими острия в небо, бездоньем своих
пропастей уводит наши думы далеко в глубь веков, к началу мироздания. И мы
невольно проникаемся к этим уединенным горам какой-то немой привязанностью.
Оказывается, можно полюбить и это дикое, неустроенное, уродливое!
Солнце уходит за полдень. Мы вырываемся из плена расщелин, выползаем на
верх отрога и тут же даем себе клятву не ходить больше напрямик. Хватит и
того, что осталось позади!
Трофим тяжело валится на землю и, откинувшись на котомку, подставляет
потное лицо горячему солнцу. «Не надо было брать его в этот тяжелый
маршрут», -- с запоздалым раскаянием подумал я.
-- Ты, Трофим, устал, но мы должны идти, добраться до Пугачева, ближе
никого здесь нет. Там отдохнешь и сменишь сапоги, -- успокаиваю я спутника.
Он лежит с открытыми глазами, молчит. Кучум все время умоляюще смотрит мне в
глаза, просит отпустить его со сворки. Я сочувствую ему, но на большее не
решаюсь.
Где спрятан водораздел? Как разыскать его в этом хаосе однообразных
хребтов и отрогов, в этой дымке?
Я вспоминаю золотые слова Улукиткана: «Если злой дух запутает твой
след, ты не теряйся, посиди, отдохни, хорошо подумай, потом догадаешься,
куда идти». Надо послушаться старика, не поддаваться унынию. Кстати...
поднимается ветерок и редеет дымка над горами.
Воздух становится прозрачным. На фоне неба четко выкраиваются линии
отрогов. Тихо-тихо. Мы попали в удивительный мир -- царство безмолвия. Мы,
двое чумазых, оборванных бродяг, с лицами, опаленными ветром и солнцем,
гордо смотрим на эти древние каменные руины, заполнившие все видимое глазу
пространство. Вот она, первобытность! Было бы невероятным увидеть здесь
дымок паровоза, услышать скрежет машин или взрывы.
Становой еще спит непробудным сном.
Трофим отдыхает. Я брожу по вершине с гербарной папкой. Окончательно
проясняются дали. Вижу водораздельную линию хребта!
Через полчаса мы уже идем звериной тропой. Давно хочется пить, но
здесь, наверху, нет воды. Придется потерпеть до ночевки. Одолевают комары.
Впереди хорошо видна конусообразная вершина отрога, заваленная глыбами.
Обрыв, по-над которым мы идем, врезается в нее под прямым углом, образуя
глубоченный цирк корытообразной формы с отвесными стенами, со снежником и с
маленьким озерком на плоском дне впадины.
Пробираемся по восточной стене цирка. Жажда высушила рот.
-- Смотрите, не бараны ли? -- кричит Трофим, показывая на
противоположную сторону цирка.
Я достаю бинокль, смотрю и удивляюсь: навстречу нам к скалистой вершине
идет небольшое стадо старых рогачей. Раз, два, три... их девять. Неужели это
те бараны, чьим следом мы шли от Ивакского перевала? Присматриваюсь -- так и
есть: один из баранов хромает! Животные, по-видимому, возвращаются к родным
вершинам. Интересно, куда и зачем они ходили?
Баранов осаждает мошка. Они выскакивают наверх и располагаются на
выступах, сливаясь с серым фоном скал. Только напряженно присматриваясь, я
различаю их тяжелые головы, обращенные к цирку. Оттуда на них сочится
благодатная прохлада, отпугивающая мошку.
Мы открыто шагаем по кромке цирка. Нас обгоняет ветерок. Рогачи вдруг
вскакивают и, явно не разобрав, откуда он наносит запах человека, бросаются
почти в нашу сторону. И в этот момент с выступов, к которым мы подходим,
срывается второе стадо из самок с ягнятами. Оно несется по узкому карнизу
навстречу рогачам. Кажется, вот-вот оба стада столкнутся на отвесной скале и
все разом сверзятся в пропасть. Мы невольно останавливаемся в ожидании
развязки.
Камни, срываясь, сбивают по пути другие, увлекают за собою массу
щебенки, все это нагромождается на дне цирка, заполняя его непрекращающимся
гулом. А рогачи и самки вдруг, как по сигналу, одним потоком бросаются вверх
по шероховатой скале.
Со скалы срывается одна из самок. На лету она как бы разворачивается,
вытягивается во всю свою длину, принимая горизонтальное положение и,
раскинув в стороны ноги, как летяга, падает в пропасть. Мы видим, как она
ударяется о выступ и бесформенным комочком прилипает к белому снежнику на
дне цирка.
Выскочив на вершину, бараны задержались, будто поджидая отставшую
подругу. Но вдруг разделились: самки убежали дальше на запад по своему пути,
рогачи же направились к Ивакскому перевалу.
И вдруг какой-то жалобный крик острой болью пронзает сердце. Снова
падают камни. Видим на обрыве движущуюся точку. Это -- ягненок.
Он спускается вниз, тревожно озирается, издает долгий, жалобный крик.
Малыш ищет мать. Он, несомненно, видел, как она упала на снежник, и
торопится к ней, все кричит: не то зовет, не то подает матери свой голос.
Нам кажется, он вот-вот сорвется с узеньких уступов, но ягненок проявляет
чудеса ловкости, как взрослый баран, скачет, торопится вниз по прилавкам. Мы
с замиранием сердца следим за ним. Вот он уже у подножья скалы, бежит по
щебенистому скату цирка к снежнику.
В поле зрения бинокля теперь попадает ягненок вместе с самкой. Он
кричит. В этом крике и протест, и тоска, и внезапный страх одиночества. Крик
будит умирающую мать. Я вижу, как она приподнимается, поворачивает голову
навстречу ягненку, тянется к нему. Какой-то неясный звук вырывается из ее
горла, и она падает замертво.
Ягненок подбегает к ней, по-звериному осторожно обнюхивает. Он не
понимает, почему она не встает. Опять кричит, пугливо оглядывается. Наконец,
решительно бодает ее лбом, бьет передними копытцами -- будит и, отбегая к
скалам, зовет ее с собою. Та лежит на снегу серым бугорком. Ягненок
возвращается к ней, еще энергичнее, еще настойчивее будит ее и снова
кричит...
Мы не можем без волнения наблюдать это зрелище. Где малыш теперь утолит
свой голод, кто заменит ему мать? Мы же совершенно бессильны оказать ему
какую-либо помощь...
Между тем ягненок вдруг бросается своим следом вверх по стене цирка. Не
надумал ли он догонять своих сородичей? Малыш быстро устает, ноги его теряют
упругость, прыжки заметно сужаются Сыплются камни и, падая по снежнику,
засыпают погибшую мать.
Мы стоим. Ягненок выбирается на верх скал. Снова слышится его крик.
Теперь в нем вместе с тоскою жалоба.
Идем дальше. Тропа неожиданно сворачивает влево, подводит нас к стенкам
цирка.
-- Пройдем? -- спрашиваю я Трофима, а сам с опаской поглядываю на
карниз, на котором видны свежие следы баранов.
-- Чем черт не шутит, авось пройдем! -- отвечает он и смело шагает
вперед.
Я пропускаю за ним Кучума. Продвигаемся осторожно. Цепляемся за
шероховатую поверхность каменных стен, чтобы, не дай бог, не повторить
трагического прыжка, свидетелями которого мы только что были. Но карниз
неожиданно выклинивается Мы останавливаемся Дальше вместо карниза торчат
разрозненные выступы, прилипшие к отвесной стене, совершенно недоступные для
человека. А внизу пугающая пропасть, распахнувшая свою хищную пасть.
Вспугнутые нами самки бежали именно здесь, прыгая с выступа на выступ,
то вверх, то вниз с удивительной ловкостью. И совсем уж трудно представить,
как это ухитрялись проделывать слабенькие ягнята!
Куда идти, к тому же надо торопиться, скоро ночь! Вижу, Трофим
нацеливается обойти стену верхним карнизом.
-- Как бы глупостей мы тут с тобою не наделали, -- говорю ему, --
может, вернемся, обойдем эту пропасть по вершине отрога? -- предлагаю я
спутнику.
Но до него не доходят мои слова, он даже ленится поднять голову, чтобы
взглянуть на подъем. Вижу, хватается руками за угол выступа, просовывает
разорванный носок сапога в щель и начинает карабкаться вверх. Мне
страшновато. Где-то в глубине сознания шевелится недоброе предчувствие...
Я вообще равнодушен к высоте, люблю лазить по скалам, но такого
отчаянного скалолаза, как Трофим, я никогда нигде не встречал. Какая
чертовская в нем смелость! Он свободно ходит по карнизам, даже если они
шириною со ступню ноги. Он может надолго виснуть над пропастью в несколько
сот метров, зацепившись пальцами за край прилавка.
Я не могу задержать его, поднимаюсь за ним. У меня под ногами путается
Кучум на сворке. Можно бы отпустить его, но он мигом уйдет за стадом
баранов, и тогда сутки придется дожидаться.
Пока что все хорошо. Подъем в действительности сказался не таким уж
опасным, как он представлялся снизу. Скоро и верх.
Я задерживаюсь отдохнуть. Трофим с ловкостью кабарги скачет с прилавка
на прилавок, исчезает за изломом. Я так не могу. Иду осторожно. Жмусь к
стене. Висну над сильно скошенным карнизом. В самом узком месте опасность
слишком близка.
Кучум идет легко, ни разу не натянул поводок.
Остается преодолеть скалу высотою в три метра. Дальше виден свободный
проход к западному краю цирка.
Теперь мой черед. Я передаю Трофиму Кучума, начинаю подниматься. Пальцы
судорожно хватаются за углы гранита. Весь напрягаюсь. И тут вдруг осознаю
глубину провала, физически ощущаю близость опасности. Отступаю назад,
припадаю к выступу, даю успокоиться сердцу.
Трофим не выдерживает. Привязывает Кучума к моему поясу, делает рывок
вперед, липнет к стене. Я подставляю ему свое плечо, он становится на него
ногами, легко взбирается на рубец -- уже на ступеньку выше, подбирается к
грани стены. Вслепую ногами нащупывает последнюю опору, выгибает спину,
хватается руками за верхний выступ.
-- Подай Кучума, -- кричит он.
И вдруг... -- во мне все цепенеет: -- выступ отламывается, вместе с ним
падает Трофим. Бросаюсь на помощь. Ловлю его за ногу. Но удержать почти на
весу эту тяжесть не хватает сил. Под ногами тает опора, и мы оба начинаем
сползать к краю отвесного карниза...
Напрягаю остатки сил, всю волю. Чувствую, скала наклоняется над
провалом, бесцветное небо отплывает куда-то назад. Меня охватывает внезапный
ужас глубины.
-- Держись! -- слышу в последний момент крик Трофима.
И в это самое мгновение, когда нас готова была проглотать пропасть,
меня вдруг что-то сильно потянуло назад, и этого оказалось достаточно, чтобы
восстановить равновесие. Трофим к тому же успевает ухватиться рукою за
выступ.
Еще не понимаю, что произошло, кричу обрадованно:
-- Потерпи, Трофим. Сейчас я зацеплюсь!
Я расклиниваю ноги, прижимаюсь спиною к скале. Только теперь вспоминаю
про Кучума, привязанного своркой к моему поясу. Собака, упершись лапами в
камень и скрючив от натуги спину, все еще натягивает поводок. Верный мой
Кучум! Это он помог нам удержаться. Удивительно, как не лопнул ремешок,
соединявший наши жизни!
Трофим глухо стонет. Его худые пальцы прилипли к карнизу, в глазах
непережитый ужас. Я с трудом приседаю, ловлю рукой друга за пояс,
подтаскиваю к себе. Хочу сместиться ниже, помочь ему встать, но Кучум
упирается, не пускает меня, приходится отстегнуть ремешок.
Кое-как мне удается оттащить Трофима от опасного места. Сидим рядом над
обрывом, молчим, а где-то внизу гулко грохочут камни.
-- Видно, не тут наша с тобою, Трофимушка, последняя остановка, --
наконец произнес я.
Трофим размазал рукавом по лицу грязный пот, расчесал дрожащими
пальцами взлохмаченные волосы и, заглянув вниз, где тени скал уже прикрыли
чернотой и снежник, и озерко, сказал, прерывисто дыша:
-- Глубина-то какая!.. Пока долетел бы донизу, и душа из тебя вон...
Никаких сапог не надо, -- глубокомысленно заключил он, глядя на вытянутые
ноги.
-- Давай-ка подобру-поздорову убираться отсюда.
Солнце, вишь, как низко. Не застала бы нас ночь тут
на камнях.
-- Посмотрите, отчего это у меня спина мокрая?
-- Ого, милый мой, да у тебя же рана во весь хребет. Снимай-ка рубашку!
-- То-то я чувствую, что гимнастерка липнет к телу, а теперь и больно
стало...
Глубокая ссадина перечеркнула спину разлохмаченной бороздой. На голове
свежие метки, лицо исцарапано. К несчастью, у нас не было ни капли воды,
чтобы обмыть раны, пришлось оставить их открытыми до ночевки.
-- Вставай, Трофим, попробуем спускаться. Пойдешь на поводу. -- Я
пристегнул свой пояс к его ремню.
Спускаемся осторожно. Пользуясь малейшим предлогом, он приседает, не
успевает смахивать с лица ручьями стекающий пот. В пропасть летят обломки
камней, и снова цирк переполняется зловещим гулом. В левой руке несу котомку
Трофима, в правой держу связывающий нас ремень, все это сковывает мои
движения. Случись что с Трофимом -- упади он или споткнись, в таком
положении я бы не помог ему, а наоборот, ускорил бы развязку. Но эта
тревожная мысль пришла в голову позже, когда мы заканчивали спуск. Последние
метры для Трофима были особенно мучительны.
Вот и большой последний карниз. Мы вне опасности. К нам подбегает
Кучум, веселый, в глазах озорство, в движениях нерастраченная сила. Я ловлю
его, пристегиваю ремешок к ошейнику. Пес тотчас мрачнеет, словно в капкан
попал. В скошенных на меня глазах -- обида.
Ладно, Кучум, не обижайся. Конечно, за сегодняшний подвиг ты достоин
другого, но сейчас нам не до нежности и не до веселья. Здесь нам нельзя
разлучаться, в этом ты и сам убедился...
Трофим стоит, подпирая плечом стену и потупив глаза...
-- Может, нам лучше остаться здесь, на карнизе, до утра?
-- Что вы! -- спохватился он. -- Ночью тут будет страшно. Да и без
костра, без воды куда годится! Как-нибудь пойдем дальше.
Я не стал настаивать, эта задержка ничего радостного нам не сулила.
Наоборот, как оказалось после, она принесла бы нам большие неприятности.
Связываю в одно место две котомки. Трофим не в силах ничего нести. С
трудом уговариваю его надеть мои сапоги. Они на два номера больше, пришлось
натолкать внутрь мху. Я заматываю свои ноги в портянки, привязываю ремешком,
и мы трогаемся. Сапоги Трофима несу в рюкзаке.
Я с Кучумом иду впереди. Не торопясь подбираемся к вершине. Подъем
завален шаткими обломками; всюду подстерегающая пустота. Что бы я отдал
сейчас за глоток, за каплю освежающей влаги! Увы, привал где-то еще далеко,
по ту сторону вершины. Но при мысли, что там нас ждет костер, горячий чай и
сон под сенью вершин и звездного неба, ноги шагают быстрее и легче кажется
ноша.
Цель уже близка. Обходим нагромождения крупных обломков, еще небольшая
крутизна, преодолеваем скальный гребень, и вольный ветер обжигает лицо...
Сразу пришло облегчение, точно мы взяли десятитысячную высоту.
Присаживаемся на обломки. Над нами необъятный купол неба, почти синий в
вышине и кровавый к горизонту. По курчавым отрогам бегут холодные,
густо-лиловые тени.
А на восточном краю пустынного неба, над каменной линией горизонта
поднимаются из провалов тяжелые тучи, словно сказочные богатыри.
С моря на них давит густой туман. Он кучится косяками на гребнях. И вот
с какой-то грозной внезапностью громады тучевых башен валятся на зубцы скал
медленно, бесшумно, одна за другой. Туман поглощает их в себе. Миг -- и
ничего не осталось от туч. Только туман и туман, как безграничное море,
заполняет все, и от него, словно из преисподней, несет сыростью.
Очевидно, тут, у западной оконечности Станового, и вдоль всего
Джугджурского хребта сталкиваются невидимые глазу враждебные атмосферные
потоки, идущие с моря и с материка.
Обширная горная область, расположенная восточнее этой линии, подвержена
постоянному влиянию Охотского моря, его чрезвычайно суровому и капризному
нраву. На его морском просторе зарождаются те затяжные холодные ветры,
которые в течение длительного времени контролируют прибрежную территорию.
Зимой они сопровождаются невероятной стужей, от которой буквально цепенеет
вся природа, все живое, гибнут деревья, кустарники, мхи, бегут звери.
Эти холодные ветры способствуют, как нигде, разрушительному процессу в
горах.
Охотское море несет свое губительное влияние и в глубь материка.
И где-то здесь, на точно не установленной границе, туманы натыкаются на
мощные атмосферные потоки, идущие с материка, противоборствующие лютым
морским ветрам.
Эти западные потоки, в свою очередь, стремятся проникнуть к самому
Охотскому побережью, чтоб воскресить погибшее, В этих столкновениях сил
природы, подобных тому, что видели сейчас мы, чаще побеждает море, и тогда
оно бросает далеко за линию Джугджура густой туман вместе со снегопадом или
затяжным дождем...
Мы покидаем вершину, выходим на край гребня. Под нами глубокое ущелье.
По нему и по склонам бесчисленных отрогов, словно черная рябь, лепятся
стланики. Спускаемся на седловину. Вот и награда нам за тернистый путь!
Находим площадку, и на ней располагаемся на ночевку. Остается натаскать
дров, мха для постели, принести воды, и мы устроим настоящий пир богов: у
нас есть кусок баранины, на второе будет сладкий чай с горячей пшеничной
лепешкой, а на третье -- сон, и какой сон! В уютном пологе, под барабанный
бой дождя. И мы, снова почувствуем себя самыми счастливыми людьми на нашей
планете!..
Негреющее солнце вот-вот скроется за гранью крутого отрога. На горы
ложится сизый пепел сумерек, а по небу еще колышутся кумачовые полотнища
отсветов. В воздухе сыро.
Близко ночь, загадочная, тревожная.
Вдруг откуда-то сверху долетает крик ягненка. Это, вероятно, тот самый
сирота. Он все еще зовет мать, все еще надеется, что она придет. Его
одинокий призыв тоскливо звучит в равнодушном пространстве, болью отдается в
моем сердце.
Ягненок приближается к нам, мы слышим все отчетливее, как стучат камни
под его копытцами. Я бросаю дела и иду к нему навстречу, хотя знаю, что
ничем помочь не могу. И вдруг справа шум. Поворачиваюсь на звук, вижу, по
косогору бежит самка с детенышем, явно торопится на крик. Но, увидев чужого
ягненка, останавливается и, подняв высоко голову, глядит на него. Тот с ходу
бросается к ней, но самка угрожающе трясет головою, дескать, не подходи,
наколю рогами. А малыш хочет есть, он еще плохо разбирается в нормах
поведения своих сородичей, ему кажется, что все взрослые такие же добрые,
какой была его мать. Ягненок тянется к соскам и получает пинок в бок. Однако
в действиях самки нет открытой враждебности, может быть, материнским чутьем
она догадывается, что с этим бедняжкой стряслась какая-то беда.
Видимо, для порядка она еще раз погрозила ему рогами, еще раз
настороженно осмотрела его и потянулась со своим детенышем на верх гольца.
Следом за ними молча бежал и сирота, очевидно уверовавший в то, что принят в
новую семью. И я подумал, что он не пропадет: уж если самка прибежала на
крик чужого детеныша, значит, у нее доброе сердце.
II. Затяжное ненастье. Кусок лепешки. Схватка с Кучумом. Снова ищем
водораздел. Пара сапог на двоих. Солонцы снежных баранов. Мы надолго
расстаемся с Трофимом.
Быстро организуем приют. Нас поторапливает надвигающаяся с моря
непогода. Уже горит костер, остается принести воды -- и конец мучениям.
Трофим работает через силу, вид у него измученный, он стал совсем
неразговорчивым. Я стаскиваю с него сапоги, надеваю их и отправляюсь за
водою. За мной увязывается Кучум. Спускаемся долго, заглядываю в каждую
лощину, в чащину, а воды нет, или она течет где-то в русле под камнями.
Какая досада! Но не возвращаться же с пустой посудой! А тут, как на грех,
вот-вот накроет темнота. Ветер высоко трубит непогоду. Спускаемся еще ниже,
на дно ущелья, и там нас встречает хрустальный перебор ручья. Мы бежим к
нему. Вода плещется беспокойной струею между скользких валунов. Я припадаю к
ней, пью тяжелыми глотками и чувствую, как приятный холодок растекается по
уставшему телу. Бросаю пригоршнями воду в лицо, радуюсь, как мальчишка.
Ниже, за слиянием двух ручьев, виднеется большая лужайка. Не лук ли там
ярко зеленеет?
Мне захотелось нарвать его на ужин. Как это вкусно будет с мясом! К
тому же лук здесь единственная свежая зелень в нашем однообразном меню, и
она так же необходима для организма, как и хлеб, и мясо.
Бегу к лужайке, а сам с опаской поглядываю кругом, как бы успеть
вернуться засветло на седловину. Перехожу ручей ниже развилок и по
мелкорослому ернику выбегаю на лужайку.
Да, это сибирский дикий лук. Растет он, никем не сеянный на влажной
тундровой почве, пышно, густо. Какой же он сочный, одно объедение! Я
напихиваю его за пазуху, в карманы, набираю в охапку. Затем наполняю водою
котелок, чайник, фляжку и тороплюсь в обратный путь.
За бесконечными грядами гор гаснет последний луч заката. Туман воровски
сползает по гребням на дно ущелья, заполняя лощины зловещим мраком. В душе
копится смутная тревога -- успеть бы выбраться до ночи к Трофиму.
Я перебредаю ручей и иду в темноту.
Кучум бежит где-то впереди. Ветер бросает мне в лицо капли дождя.
Кажется, пора сворачивать. И вдруг сомнение: этот ли поворот? Пытаюсь
вспомнить приметы, но тяжелая, беспросветная темень слепит глаза. Безропотно
иду, поднимаюсь в неведомое, в колючую пустоту. Ни одного ориентира. Ноги
сами, на ощупь выбирают дорогу. Ветки стланика хлещут по лицу, цепляются за
одежду, загораживают проход.
Ветер усиливается. От дождя промокла рубашка. Иду медленно. Из котелка
давно уже выплеснулась вода.
Вдруг снизу ясно доносится шорох. Я оглядываюсь -- меня нагоняет Кучум.
А ведь я думал, что пес впереди. В чем дело? Он-то не мог ошибиться, знает,
где мы шли. Тогда почему же собака оказалась позади меня? Неужели я свернул
не там, где нужно? Я как-то вдруг понял, что на отроге, по которому
поднимаюсь, и крутизна не та, и меньше россыпей, да и стланики не так густы,
как были на спуске в ущелье.
Стою смешной, потерянный. С невидимого неба сыплется густой липкий
дождь. Мокрая одежда холодит тело. Какой дьявол запутал мне путь, обманул
меня, направил не туда, куда нужно? После долгого раздумья поворачиваю
назад...
Иду медленно. Холодно и темно, как в подземелье. В ущелье ловлю Кучума,
накидываю ему на шею ремень, отдаюсь в его распоряжение. Он переводит меня
через ручей, тащит влево и начинает по густому стланику подниматься на
отрог. Узнаю место.
Я иду с закрытыми глазами. Они не нужны в этой темноте, а веткой
хлестнет -- ослепнешь. Не отпустить бы Кучума. Но тут обнаруживается, что
идти сквозь заросли вместе с собакой на одном поводке невозможно. Он чаще
ползком пробирается под стволами стланика, а я должен через них
перешагивать.
Несу пустую посуду.
Еще какое-то время бьемся с чащей. Идти дальше нет сил. Дождь
усиливается, я промок насквозь. Тяжело сажусь на камень. Подтаскиваю Кучума,
прижимаю его к себе. Мы как бы сливаемся с ним воедино и вместе дрожим. У
него, оказывается, еще не промок подшерсток на боках, я запускаю в него
закоченевшие пальцы, зарываюсь носом, вбираю в себя тепло... Бр-р-р... --
даже страшно пошевелиться, все застыло, ни рук, ни ног, только мысли еще
шевелятся, да где-то внутри живет горсточка тепла.
Слышу властный внутренний голос: поднимись, беги отсюда, иначе
пропадешь! Усилием воли заставляю себя встать. Где спасенье? Вспоминаю, что
по-над ручьем выше и ниже того места, где мы спустились в ущелье, виднелись
небольшие скалы. Надо поторопиться туда. Отпускаю Кучума, и он мгновенно
исчезает, оставив позади себя легкий удаляющийся шорох. Теперь я остаюсь
совсем один среди сырой пустыни, в черной, как уголь, ночи, на дожде.
Спускаюсь обратно к ручью. Словно дикий зверь, почуяв свободу, он
бешено скачет в темноте. Всюду вода! Ею уже напитались мхи, лишайники. Она
непрошеным гостем закрадывается под воротник, леденит тело...
Я бреду сквозь темень, один, мокрый, закоченевший. Движение уже не
согревает меня. Мучит голод.
Замечаю, что-то впереди зачернело, поднялось, надвинулось. Скала! Я
пробираюсь к ней через завал крупных камней, прикрытых густым стлаником,
шарю руками по мокрой стене, жмусь к ней, как к живому, близкому существу,
забираюсь в щель и наконец-то нащупываю ногами площадку. Над головою
нависает карниз... Место оказывается сухое, можно укрыться от дождя, даже
развести костер. Чувствую себя прямо-таки счастливым. Скорее за дело! Ощупью
собираю сухие ветки стланика -- топлива тут сколько угодно...
Скорее, скорее добыть огня! Однако прежде надо снять с себя мокрую
одежду, выжать из нее воду и тогда забираться под каменный навес. На все это
уходит много времени, застывшие пальцы до смешного не повинуются мне.
Но вот я наконец под. карнизом, стучу зубами от холода. Тут очень
неудобно, тесно, приходится горбить спину, да и пол покатый, весь в шишках.
Но как-нибудь прокоротаю ночь. Достаю нож, готовлю много стружки, обкладываю
ее лучинками и начинаю священнодействовать: собираю по камням пыль, вытираю
ею насухо руки, отогреваю пальцы дыханием. Из непромокаемой сумочки,
хранящейся за пазухой, достаю коробку, вытаскиваю из нее осторожно, как
драгоценность, спичку. Меж пальцев вспыхивает чудодейственный огонек, и я
бережно переношу его под стружки. Пламя оживает, растет, лижет красным
языком холодный воздух, выхватывает из темноты мрачные стены нависшего надо
мною утеса.
Я припадаю к огню, жадно глотаю тепло -- и радостью наполняется
измученная душа. Но костерок, хотя и мал, а прожорлив и очень капризен, об
этом я не забываю. И, чуточку отогревшись, ухожу в темноту, шарю по
стланику, ищу дров, таскаю их под укрытие, снова мокну под дождем.
Наконец все хлопоты позади. Я устраиваюсь поудобней под карнизом. Горит
костер. Тепло. Где-то рядом в дождливой ночи полощется о камни мутный ручей.
Ну и денек выдался!..
Я бережно подкармливаю огонь сушником. Время уже за полночь. Дождь
усиливается. Плачет скала. Все острее, настойчивее дает себя знать голод. У
меня есть кусок лепешки -- неприкосновенный запас, хранящийся вместе со
спичками в резиновой сумочке. Мысль предательски кружится вокруг этого
кусочка. Нет, я не трону лепешку. Ее можно съесть, как говорит Трофим,
только перед смертью, если, конечно, успеешь это сделать. Обманываю голод
луком, но это не очень-то мне удается.
На выручку приходит сон.
Он беспокойный. Я беспрерывно верчусь, подставляя огню то спину, то
грудь, и, по мере того, как затухает костер, все больше дрожу, согнувшись в
три погибели. Вдруг слышу, что-то влажное и теплое коснулось моего лица. В
испуге открываю глаза -- Кучум! Он тяжело дышит, видно, бежал издалека,
торопился.
-- Кучумка, родной мой пес, пришел!
Кучум то и дело стряхивает с шубы воду, смотрит "а меня умными глазами.
Он наверняка был на седловине, где Трофим устроил его спать под пологом, в
тепле. Но разве мог этот преданный друг успокоиться, забыть обо мне,
оставшемся где-то в глубоком ущелье?! И вот вернулся. Его появление сразу
рассеивает мое одиночество, и от этого становится как будто теплее.
Кобель забирается под карниз, долго занимается своим туалетом, слизывая
воду с лап и боков. Я подбрасываю в костер дрова, жмусь к огню, но так
холодно от скалы, так сквозит сыростью, что я решаю сидя дождаться утра.
Теперь мне легче -- со мною Кучум.
В холодную сырую темень скачет гремучий ручей. Глухо постукивают о дно
ручья камни, перекатываемые водою, а кажется, будто кто-то с бубном ходит по
ущелью...
Как томительно ожидание утра!.. Да и придет ли оно сегодня? Может, так
и останется навечно дождь, мрак, безымянный ручей и этот каменный навес над
головою?
Терпеливо жду. Обнаруживаю дыру на штанах и радуюсь, что нашлась
работа. Выдираю из шляпы подкладку, достаю из кармана гимнастерки
починяльную сумочку, пришиваю латку. От костра отскакивает уголек, падает на
шубу Кучума. Пахнет паленым. Кучум вскакивает, словно ужаленный, дико
озирается по сторонам, зевает и снова ложится.
Немощный рассвет несмело, медленно теснит ночной мрак. Ночь уползает,
словно сытый зверь в свою берлогу. Пора и нам в путь. Сборы недолги, все при
мне. Бросаю в костер остатки дров, хочу запастись теплом на дорогу. Кучум не
встает, ему неохота покидать нагретое место. Малюсенькими глазами следит он
за мною. Жаль и мне расставаться с огнем. А дождь все идет, по-прежнему
плачет утес.
Странно, будто и посветлело, а вокруг ничего не видно. Густой туман
липнет к скалам, заслоняет утро. Идти не решаюсь, можно заблудиться, и Кучум
не поможет.
Бедный Трофим, он ждет, прислушивается к малейшему шороху, молит небо и
мучается от сознания, что не может помочь мне. А я чувствую, что начинаю
слабеть. Лук может быть хорош как приправа для мяса, необходим нам как
противоцинготное средство, но он не одолевает голода. Да и лук-то весь
съеден. Мысль опять возвращается к сумочке с лепешкой. Велик, ой, как велик
соблазн! Чтобы не думать об этом черством куске хлеба, я отправляюсь в дождь
за дровами...
Снова у костра сушу одежду. Кучум встает, лениво потягивается, широко
распахивая зубастую пасть. Подходит ко мне, садится на задние лапы, смотрит
голодными глазами. В них и мольба, и какое-то предостережение.
-- Ты-то, Кучум, за что страдаешь, иди к Трофиму! -- Я подтаскиваю пса
к себе, ласково беру его обеими руками за бакенбарды и долго смотрю в
золотистые собачьи глаза.
Кучум, высвободившись из рук, припадает носом к моей гимнастерке, туда,
где спрятана лепешка, долго с наслаждением втягивает в себя хлебный запах.
-- Нельзя, Кучум! Нельзя, милый! Мы должны терпеть и только терпеть, --
уговариваю я собаку.
А сам еле удерживаюсь от соблазна, ощущая тошнотворную пустоту в
желудке... Кажется, весь окружающий воздух наполнен свежим хлебным ароматом.
Чувствую, как, вопреки сознанию, правая рука крадется за пазуху, ощупывает
сумочку...
-- Нет, нельзя! -- кричу я громко, отбрасываю руку прочь. Кучум
вздрагивает и тревожно смотрит на меня, точно угадывает происходящую во мне
борьбу. Он ложится рядом со мною на плите, вытягивает передние лапы, кладет
на них голову. Морда у него обиженная. Прищурив глаза, он напряженно следит
за мною, видимо, боится, чтобы я тайком от "его не съел лепешку. Лежим с ним
долго, охваченные одной всепоглощающей болью...
А ветра все нет. Туман густеет, становится холоднее. На землю,
напоенную до отказа водою, сыплется бесконечный дождь.
Надо чем-то отвлечься от мрачных дум. Таскаю камни. Делаю из них заслон
от сквозняка, обкладываю им огонь. Нагреваясь, камни долго хранят тепло в
нашем логове. Затем собираю мох, лишайники, высушиваю их и устилаю ими пол.
А дождь все идет и идет. Медленно, очень медленно тянутся часы.
Наступили третьи сутки нашего заточения. Я окончательно отощал. Живу в
полузабытьи. Все труднее собирать дрова. Одежда моя вся в дырах,
простреленная огнем.
И вот наступает минута, когда воля наконец сломлена приступом голода.
Трясущимися руками я достаю из сумочки лепешку. Прячу ее от Кучума. Понимаю,
как это омерзительно, но не могу совладать с собою, точно дьявол какой-то
залез в душу. Лепешка всего с ладонь, черствая, пахнет плесенью, но как
дьявольски соблазнителен и этот запах!.. Вижу, Кучум уже рядом. Глаза
звериные, смотрят неласково, в позе -- решимость. Он требует своей доли,
голод лишил его обычной покорности. Пес видит, как я отламываю крошечный
кусочек хлеба, кладу его в рот, медленно разжевываю... Собака судорожно
облизывается и сглатывает слюну...
-- Вижу, Кучум, ты тоже наголодался, но на этот раз прости, друг, я не
могу с тобой поделиться... Ты выносливее меня, -- говорю я каким-то чужим
голосом.
Но Кучум не отступает, смотрит на меня зло, укоризненно, нервно
переступает с лапы на лапу, как перед схваткой.
-- Не проси, не дам! -- убеждаю я собаку и вдруг спохватываюсь,
вспоминается карниз над пропастью, где Кучум спас нас от гибели, чувствую,
как краска стыда заливает лицо. И та же рука, что воровато достала из-за
пазухи этот драгоценный кусочек, бросает псу остаток лепешки.
Он ловит ее на лету, разламывает зубами и мгновенно проглатывает. Мне
даже обидно, что он так быстро покончил с лепешкой, не пожевал ее, не
насладился ее вкусом...
Сидим с Кучумом рядом, примирившиеся, близкие. Мирно потрескивает
костер. Льет дождь -- небо возвращает земле ее слезы.
Наконец, день уходит, беспомощный, жалкий. Наступает четвертая ночь.
Все погружается во мрак. Теперь уже вся жизнь представляется мне долгой
ночью. В полузабытьи все чаще рисуются картины развязки. Может быть, утром
рискнуть разыскать седловину? Нет, надо ждать, беречь силы. Тут, под скалою,
сухо, и с нами костер.
Под утро я уснул. Но даже сон бессилен был увести меня от
действительности: снились тот же костер, скальный навес, заслон от
сквозняка. Так же мучительно во сне терзал меня голод.
Слышу, будто кто-то спускается по стланику. Узнаю шаги Трофима. Он
несет ужин. Я уже чувствую запах жареного мяса. Хочу крикнуть ему, позвать,
но голос мне не повинуется.
Трофим проходит мимо, и его шаги смолкают в отдалении. Досадую на себя,
на свою нерасторопность и с горечью пробуждаюсь. Поправляю костер, снова
ложусь к огоньку, засыпаю с надеждой, что Трофим вернется.
Так и есть. Вижу, выходит он из темноты весь в черном, как видение.
Распахивает полы незнакомой мне одежды, показывает куски горячего, только
что сваренного мяса. Он завертывает их в черную шкуру, кладет под карниз и
исчезает. Какая радость! Подкрадываюсь к свертку, как голодный хищник,
хватаю его, но вижу, что обманулся, в руках Кучум, неуступчивый, одичавший.
Он по-звериному набрасывается на меня, но я не сдаюсь, ловлю его пальцами за
горло, сжимаю изо всех сил.
Ну, теперь кто кого! Мы разом падаем на что-то твердое, катимся по
россыпи куда-то вниз, в пропасть... Я чувствую, как больно бьется моя голова
об острые камни...
...Я вскакиваю. Не могу отдышаться и не понимаю: был ли это сон или все
случилось наяву. Костер разбросан, и на дожде дымятся головешки. А Кучум
стоит в стороне, следит за мною безумными глазами, настороженный, чужой.
Зову его к себе, хочу обласкать, но он выскакивает на дождь и из темноты
пронизывает меня своими волчьими фарами.
Неужели я хотел задушить любимого пса? Проклятый голод!
Но Кучум даже и теперь не ушел к Трофиму на седловину, не бросил меня.
Уже не верю, что непогода вернет когда-нибудь солнце, песни птиц,
дневную суету, синеющие дали. Увижу ли я еще под ногами тропу, поднебесные
вершины, бескрайнюю, всегда манящую к себе тайгу, семью, друзей? Буду ли я
еще бороться, жить, или судьба предрешает мне медленно истлеть под этой
мрачной скалою?
Вижу, из тумана осторожно выходит пес, крадется кошачьей поступью под
соседний карниз, ложится, а сам весь насторожен. Нащупывающим взглядом
пронизывает меня, что-то хочет понять своим собачьим умом. На мои ласковые
слова отвечает враждебным оскалом. Проклятый голод!
Наступило утро четвертого дня. Мерзкое, сырое. Не пойму, почему подо
мною подстилка мокрая. Откуда взялась вода? Приглядываюсь и обнаруживаю
ржавчину. Она сочится из щелей скалы, как кровь из раны. Где-то в глубине
пластов лопнула жила, или вода, проникнув в сердце гранита, потекла из
старых ран. Теперь не уснуть и некуда податься, всюду вода.
Сижу у костра. Сверху чуть слышно доносится музыка. Она медленно
выплывает из щели, приближается ко мне. Я не могу понять, что это,
галлюцинация? Нет, это поет голодный комар свою заунывную песню. Как приятна
его песня здесь, в долгом одиночестве, словно я услышал голос друга. Видно,
и он не в силах превозмочь тоску.
Комар покружился надо мною и смолк так же внезапно, как и появился.
А вот и еще гость: сверху спускается паук. Он осторожно касается
ножками влажной земли и, будто чего-то испугавшись, поспешно поднимается по
паутине вверх. Я начинаю присматриваться. Какие-то малюсенькие букашки
появились на сухом камне. Их даже трудно различить невооруженным глазом.
Неужели эти крошечные создания предугадывают погоду, а само небо ничего еще
не знает и продолжает немилосердно поливать землю?
Поднялся и Кучум. Он, кажется, все мне простил, глаза ласковые, лениво
потягивается и добродушно зевает. Это тоже к перемене погоды. И только я
один ничего еще не чувствую.
А дождь на глазах мельчает. Светлеет. Ну, скорей же, ветер! Свистни
по-молодецки, растолкай туман, верни земле жизнь!
Туман тает. Просторнее становится под скалою. Кучум косым взглядом
сторожит старую лиственницу. Кто там мелькнул серым комочком?
Белка!
Бедняжку так рано, поутру, выжил голод из теплого гайна. Она скачет
вверх по шершавому стволу, мелькает в зеленой кроне и вдруг замирает, еле
удерживаясь "а краю веточки. И я вижу, как белка становится свечой, срывает
прошлогоднюю шишку. Каким вкусным должен ей показаться первый завтрак после
четырехдневной голодовки! Она торопится, но замечает нас и замирает, прижав
лапками шишку к белой грудке. Мы не шевелимся. Белка не отрывает от нас
бисерных глаз. Она удивлена, тревожно цокает и роняет шишку...
Из стланика доносится внезапный писк какой-то маленькой птички, а затем
и предсмертный трепет ее крыльев. Это разбойничает горностай. Не стыдится и
утра. Кучум уже там, где слышался шорох, гонит хищника куда-то вниз вместе с
грохотом камней и вдруг обрывает свой бег... Через минуту возвращается
назад, морда у него довольная, облизывается.
Жизнь на глазах пробуждается от долгой спячки. Мы наблюдаем ее первые
шаги, ее возвращение. Она осторожно выползает из щелей, из дупел, из нор и
начинает заполнять обычной суетой промокший мир. И тут же сразу, кто во что
горазд: одни подкарауливают добычу, другие ловят ее в стремительном полете,
третьи подбирают остатки чужих трапез. Но все знают: не зевай, берегись, зря
не высовывайся, сразу сожрут более сильные! Таков безжалостный закон жизни.
На огне догорают остатки дров. Сжигаю и подстилку. Конец мучениям!
Туман уходит к вершинам, рвется о колючие гребни отрогов, тает. В небе
голубеют проталины, по стланику бежит неровными струями ветерок. После
четырехдневного заточения, после холодных ночей, мрачных до отупения дум как
приятен наступающий ясный день!
Пора. Мы прощаемся со скалою. Может, когда-нибудь сюда заглянет
пытливый разведчик и удивится, узнав, что до него это безымянное ущелье
посетили люди. С первого взгляда он, наверное, примет наш приют за
первобытную стоянку дикарей. Но это только с первого взгляда. Потом он
догадается, что заставило человека поселиться под этим крошечным навесом,
для чего был сделан заслон. А остального, что пережил человек здесь, под
горбатым утесом, ему не узнать. И чтобы не мучить его догадками, я на скале
еще вчера выгравировал острым ножом свое и собаки имена и дату нашего
пребывания.
Хорошо бы набрать с собою луку, но ручей так разбушевался, что его ни
за что не перебрести. Вода, вздымаясь зеленоватыми валами, клокочет, пенится
и уносит с собой в глубину ущелья грозный рев.
Кучум, не дождавшись меня, спешит к Трофиму с радостной вестью. Я иду
медленно, берегу силы.
В ярко-голубом небе, сполоснутом дождем, дотлевают остатки тумана.
Сквозь сонные вершины пробились лучи восхода. И потекла теплынь на
исстрадавшуюся землю! Закурились стланики, запылали алмазы в зеленых кронах
лиственниц, упал "а землю торжествующий крик коршуна, празднично парящего в
вышине.
Идти мне тяжело, и все-таки жизнь, черт побери, стоит продолжения!
Далеко до седловины меня встречает Кучум. Следом за ним показывается
Трофим. Радости нет предела! В одиночку мы тут, в горах, ничто, а вдвоем нас
не так просто поймать в ловушку.
-- Почему не вернулись в тот день, неприятность какая? -- и Трофим
обнимает меня.
-- Хотел угостить тебя луком, ну и запоздал, захватил туман, пришлось
отсиживаться под скалою.
-- Хорошо, что догадались переждать непогоду, могло быть хуже. А я
сегодня утром небольшого барана убил, приношу его на табор, и Кучум
заявился. Надо, думаю, идти искать.
...Трофим помогает мне выйти на седловину. В этот день нечего было и
думать идти дальше.
Какое горячее солнце! Но мы так намерзлись в эти дни, что тепла не
хватает. Трофим нанизывает на деревянные шомпура печенку, мясо, пристраивает
их к жару.
Пока готовится обед, мы говорим о пережитом. Мне не без стыда
приходится рассказать о схватке с Кучумом...
Обед готов. В руках увесистый шомпур и горячая лепешка. В течение часа,
без передышки, с упоением набиваю давно истосковавшийся по пище желудок.
Трофим, видя, как я зверски расправляюсь с печенкой, отдает мне половину
своей порции, и все это я быстро проглатываю вместе с двумя кружками чаю.
Теперь я, кажется, напоминаю удава, проглотившего барана.
Мир остается верен себе. Снова мы ощущаем могущество жизни, и пережитое
начинает уходить безвозвратно, терять свою остроту. О нем когда-нибудь
напомнят скупые строчки дневника.
Помогаю Трофиму таскать дрова, и вместе с солнцем засыпаем. Ни комара,
ни мошки.
Тревожные мысли о том, что мы можем не захватить Пугачева на гольце,
подняли меня до. рассвета. Встал и Трофим. После довольно горячего спора я,
кажется, доказал своему спутнику, что идти могу, и мы быстро свертываем
полог, раскладываем мясо по котомкам, покидаем стоянку.
От седла крутой подъем ведет нас к вершине. Ноги мягко ступают по
бархатистому ковру лишайников. Впереди скачет по камням чуть заметная
тропка, сзади нагоняет рассвет.
Выходим на вершину. Унимаем одышку. Утро сдернуло с вершин Станового
пелену.
Как не любить горы! Посмотрите на них в этот ранний час восхода! Еще
клубится над провалами "очная мгла, еще не растопилась прозрачная
предутренняя дымка, спят вершины в мертвенном оцепенении, в беспредельном
безмолвии, а из-за далеких хребтов, из бездны уже льются потоки света.
Дрожащие лучи лижут бездонную синь неба, уходят в далекие миры, чтобы
медленно, осторожно, бесшумно опуститься на землю. Вот они уже реют над
сонными хребтами, будят вершины нежным прикосновением и вдруг сливаются с
ними в долгом страстном поцелуе.
-- Давно я не видел такого! -- кричит Трофим, охваченный восторгом.
Справа и немного западнее от нас из-за колючих гребней маячит знакомый
силуэт гольца. На его макушке теперь возвышается полностью отстроенная
пирамида.
-- Палатки-то нет, неужели Пугачев ушел? -- сокрушенно произносит
Трофим.
Я внимательно осматриваю вершину. Палатки действительно нет.
-- Не дождался, -- подтверждаю я, пораженный этим открытием.
Какая неприятность!
И все же мы горды за маленький отряд из семи смельчаков, проникший в
эти, непробудно спавшие от дня творения, дебри и поставивший себе памятник
на одной из главных вершин Станового. Теперь отряд ушел на другой голец и,
может быть, далеко. Вряд ли встретимся.
-- Вот и сменил сапоги у Пугачева! -- говорит Трофим с явной досадой.
-- Не отчаивайся. Надо подумать, куда идти. -- И я сбрасываю котомку,
присаживаюсь на скошенный край камня.
-- Было бы в чем идти... Босому одинаково далеко теперь. Вот уж верно:
не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
-- Давай смотреть с практической точки зрения. К гольцу нечего идти,
там нет Пугачева. Я готов отказаться от дальнейшего обследования, вернуться
на Ивакский перевал, но мы и там будем слишком далеко от своих. Пойдем на
запад, сколько сил хватит, ничего другого не придумаешь. У нас на двоих есть
пара добротных сапог, не будем унывать. Там где-то, на Утуке, наши с
оленями. Может, и закончим обследование. У тебя есть какое предложение?
-- Пойдем на запад. Но мне до Утука ни за что недотянуть...
-- Тут нам никто не поможет. Только идти, и в этом - тебя не нужно
убеждать.
...Идем по главному хребту, по линии Великого водораздела. Здесь
происходит распределение вод. Воды от дождей, падающих на горы в этом
районе, сбегают в виде ручейков в ущелья, где сливаются в мощные потоки,
образуют реки и текут широкими артериями в моря и океаны. Вода с северных
склонов Станового, в силу естественного уклона, течет на север, прорезая по
пути тысячи километров скучной земли с бедной растительностью и вечной
мерзлотой... Но вода от того же дождя, упавшая на другую сторону
водораздела, устремляется на юг к плодородным амурским землям, с богатой
тайгой, с густым населением.
Нас охватывает чувство большого удовлетворения: мы находимся на линии
этого самого северного сибирского водораздела. Мы видим с одной
возвышенности истоки, несущие свои прозрачные воды к суровым и холодным
берегам Ледовитого океана, и истоки, убегающие к Тихому океану.
Идем дальше, стараемся не терять звериную тропу. Она ведет нас по
гребням, через седловины, по-над нависшими карнизами, взбирается по
выступам, обрывается у края пропастей. И тогда мы сами выбираем путь, строго
придерживаясь западного направления и всячески избегая стланиковых зарослей.
Надо отдать должное снежным баранам -- они умеют находить проходы.
От Ивакского перевала на запад по главной линии водораздела хребет
круто обрывается к югу, образуя на большом расстоянии трудные, а для
каравана совсем недоступные склоны. На север же от водораздела мы все время
видим большие горы километров сорок шириною -- угрюмые отроги Станового,
расчлененные бесчисленными речками. Уже можно наверняка сказать, что работы
в этих горах надо разворачивать непременно с севера, со стороны Алданского
нагорья.
Мы также определили, какого типа и какой высоты, в зависимости от
рельефа, должны быть знаки на этих горах, и решили другие вопросы.
Впереди заметное понижение рельефа, не Утук ли это?
Я разрываю пополам свою нательную рубашку, -- портянки Трофим уже все
износил, помогаю ему завернуть в лоскуты ноги, перевязываю ремешками.
Отрезаю от его сапог голенища, кладу в рюкзак.
Пора идти. Трофим отстает в пути, но у меня нет жалости. Я тороплюсь,
хотя твердо знаю, что мы недосягаемо далеко от цели.
В полдень мы попадаем в котловину, зажатую высокими гребнями. Из
маленького озерка, обросшего осокой, вытекает студеный, до синевы прозрачный
ручей. До вечера далеко, но мы разбиваем здесь табор. У Трофима настроение
подавленное.
Неожиданно из далекой синевы доносится гул. Я вскакиваю. Это самолет.
Распластав тупые крылья, он бороздит пустое пространство.
-- Смотрите, это же наша машина! -- кричит Трофим.
-- Узнаю. Видимо, начали съемку Станового.
-- Эй вы, черти слепые, сбросьте кто-нибудь сапоги, -- орет Трофим.
Самолет, пролетев над нами, растворился в далекой голубизне.
Из глубоких расщелин Станового приходит ночь.
Спать нам нельзя. Трофиму не в чем идти. Пожалуй, единственный выход --
сшить из голенищ поршни, но и их хватит всего на пять-шесть километров по
такому пути. Беда еще в том, что ноги Трофима в ранах, кровоточат, распухли.
Он прикладывает к ним теплую золу. С болью думаю, что же будет завтра,
послезавтра?.. Не дойти до своих с одной парой сапог. Об этом, вероятно,
думает и Трофим.
Поблизости нет тальника, не из чего связать лапти. В это время и кожа
барана настолько тонка и слаба, что ничего из нее сделать невозможно.
Мы молча поужинали, молча улеглись спать, боясь заговорить о завтрашнем
дне.
Пробудился по обыкновению перед рассветом. Твердо решаю поделить с
Трофимом свои сапоги. Это, конечно, не выход из положения, но немного
облегчит его мучения. На одну ногу натягиваю поршень, вторую засовываю в
сапог.
-- Вы это бросьте, иначе я не пойду, -- слышу протестующий голос
проснувшегося Трофима.
-- Не противься, мы должны идти вместе. Вдвоем мы сильнее
обстоятельств, ты понимаешь, о чем я говорю?
-- Понимаю. Но не хочу, чтобы оба тут остались.
Вы идите в сапогах, а я уж как-нибудь в поршнях. Ничего не поделаешь,
если так получилось. -- И он с явной досадой бросает в огонь головешку.
-- Мы с тобой делили и не такое в жизни, а уж сапоги-то как-нибудь
разделим. Надевай без разговоров!
Через полчаса мы уже пробирались сквозь стланиковую чащу, напоенную
ночной росою.
Опять подъемы, спуски, стланики, карнизы, цирки, тяжелые одышки и немые
проклятия. Какое колоссальное напряжение сил требуется от человека, чтобы
преодолеть хотя бы небольшое расстояние в этих горах!
Продвигаемся без тропы, она осталась слева, вместе с главной линией
хребта. Мы намереваемся добираться до Утука по отрогу и расплачиваемся за
это остатками сапог.
Выходим на хребет и попадаем на тропу, вернее, на настоящую звериную
дорогу. Она проложена в мягком грунте глубокой бороздой. Видно, много-много
лет, веками, ею пользуются снежные бараны. Тропа вся усыпана пометом,
кажется, будто только что по ней прогнали отару овец.
Кто додумался проложить ее по этому изорванному гребню, пренебрегая
более доступными местами? Ведь совсем рядом с тропою пологий отрог, без
скал, но рогатые «дорожные мастера» почему-то предпочли другой, более
(рискованный, обрывистый проход. Объясняется это, видимо, не только любовью
баранов к скалам, а чем-то другим, еще нами не разгаданным.
Во всяком случае, тропа ведет нас в нужном направлении. По пути в нее
вливаются новые и новые тропки, и она еще больше зарывается в землю.
По широкому каменистому отрогу выходим к краю глубоченного цирка,
какого мы еще не видели на Становом.
Цирк поистине грандиозный. И, видимо, ни один человек еще не стоял на
бровке его скал, не любовался им. Здесь только камни, следы разрушения и
ощущение полного отсутствия жизни. Но как ни странно, эта суровая и скупая
картина поднимает наше настроение. Человека обвораживают не только щедрые,
одетые богатой растительностью, горы, но и дикий хаос безжизненных
нагромождений.
На дне цирка к снежнику выскакивает черным комочком Кучум. Сегодня он
получил свободу, вести его на привязи у нас нет сил. Видим, он огибает
озерко, отмеряет дно цирка саженными прыжками. Вдруг впереди него
взметывается стадо баранов-самок с малышами.
Бараны усыпали дно цирка, изо всех сил жмутся к скалам. Но хитер Кучум,
ой, хитер! Он отрезает им путь, вот-вот ворвется в стадо -- и тут уж не жди
пощады! Мы видим, как от стада откалывается одна самка, отстает. Кучум
налетает на нее, но та делает отчаянный прыжок вниз. Собака мажет, падает,
но быстро справляется и бросается за самкой. А бараны тем временем успевают
взобраться на уступы и оттуда, так же как и мы, наблюдают за поединком.
Самке удается обмануть Кучума и увести его от стада в глубину цирка, к
обрывам. Там она. среди родных скал вне опасности и теперь не торопится уйти
от -Врага. Обезумевший пес все еще надеется догнать ее, бежит следом, в
спешке срывается с выступов, снова карабкается и отстает. А самка не
торопясь прыгает с карниза на карниз, задерживается, наблюдает, как собака
неумело лазит по карнизам. Наконец, взбирается на остроконечный выступ и
замирает, сжавшись в комочек. Кучум уже рядом. Он неудачно осаждает шпиль
снизу, но самка не покидает убежище. А тем временем стадо с малышами уходит
далеко...
Мы спустились в ущелье по левой стене цирка. Идем -медленно, с
величайшей осторожностью. Вся нагрузка и у меня, и у Трофима ложится на одну
ногу, вторая, обутая в поршень, служит больше для равновесия. Мы уже дважды
меняли сапоги. У Трофима лицо злое.
В трудные минуты мы всегда обращаемся к прошлому и невольно испытываем
чувство какого-то смущения, когда сравниваем усилия, неудачи, порою
невероятные мучения наших предшественников-землепроходцев с тем, что
испытываем мы. Беринг, Лаптевы, Дежнев, Пржевальский... Ими всегда будет
гордиться человечество.
Нам теперь в тысячу раз легче, легче потому, что в нашем скромном труде
объединен их опыт.
За седловиной тропа неожиданно подводит нас к пещере. Мы свободно
заходим под ее свод, все наши недоумения рассеиваются. Это солонцы. К ним и
ведут тропы из восточного района Станового, именно сюда из-за Ивакского
перевала и спешило стадо старых самцов, следом которых мы шли. Они проделали
этот путь только для того, чтобы полизать или погрызть черный туф,
насыщенный солью. Сюда направлялось и стадо самок с ягнятами.
Сколько поколений снежных баранов должно было посетить эту туфовую
гору, чтобы вылизать в ней целую пещеру?!
От пещеры на запад идет мощная, четырехколейная тропа. С отрога, куда
она вывела нас, видно широкое ущелье -- несомненно Утук. До него километров
восемь, не больше. Надо непременно сегодня добраться до него.
Но у скалы тропы неожиданно поворачивают влево, пересекают верх отрога
и снова подводят нас к солонцам. Издали видны глубокие норы, выеденные
баранами в туфе. Всюду кучи помета, клочья шерсти; на пыльной подстилке
множество следов. Все вокруг вытоптано, съедено.
Как бы мы обрадовались в другое время такому открытию! Сколько
интересного можно здесь увидеть, затаившись на сутки в камнях. Но нам сейчас
не до наблюдений, не до снежных баранов. Давно сброшены с ног поршни, у
Трофима загрязнились раны, появилась подозрительная чернота. Не заражение
ли?
Нам сегодня не добраться до Утука.
Решаемся заночевать в логу.
Я забираю у Трофима рюкзак, помогаю ему спуститься. Ночь надвигается
вместе с грозовыми тучами. Надо успеть до темноты поставить полог, натаскать
дров.
Солнце давно утонуло в бесконтурных тучах. Над дальними горами уже
полощется дождь. Ветер мечется, рыщет по лощине, шумит по ерникам, треплет
маленькие лиственницы, окружившие толпой нашу стоянку. Уже горит костер.
Прибежал Кучум, усталый и голодный.
Мой спутник начинает разматывать портянки, на его лице отчаяние.
-- Вы видите, куда же мне завтра на них идти, -- говорит он, отдирая от
раны прилипший лоскут.
-- В нашем распоряжении еще ночь, отдохнешь.
-- Нет, -- бросает он категорически. -- Тут, видно, и край.
-- Не отчаивайся, посмотрим утром. До Утука теперь недалеко.
Он молчит.
В ущелье врывается яростная буря. Лес гудит, стонет. Мрачная обстановка
действует на нервы. И вдруг над нами лопается грозный свод неба. Молния на
миг освещает гребень, горбатые лиственницы и дотлевающий костер. На зеленый
ковер мелкорослого леса, на горячие от дневного солнца камни, на полог
сыплется крупный дождь.
Гроза новым взрывом потрясает горы. Кучум в смятении бросается в кусты,
затем к россыпи и, не найдя убежища, поспешно забирается к нам в полог.
Ничего, что тесно, зато все вместе.
Под ливнем слепнут угольки костра, и вокруг нас смыкается мрак ночи.
Проклятье! Что за погода!
Полог мокрый. Вода подбирается под постель. Всем не сладко. Да и не
уснуть. Не знаю, не могу решить, с чего начинать завтрашний день.
Трофим сидит сгорбленный, растирает загрубевшими ладонями больные ноги.
Оба мокрые.
Буря неистовствует. Полог трепещет на тонких оттяжках. С силой отчаяния
держим борта. Кажется, вот-вот нас сдует в пропасть. Мы совершенно отупели
от крайней усталости, сознание затуманено.
Неожиданно буря обрывается, точно разбившись о скалу. Светлеет. Но мы
все еще не спим. Возвращаются думы.
-- Нам бы, Трофим, как-нибудь добраться до Утука, тут уж рукой подать,
-- начинаю я снова разговор.
Он не отвечает. За пологом окончательно стихают звуки. Только ручей
бушует в темноте.
-- Ты не тревожься, ноги заживут, все кончится хорошо. Там, на реке,
что-нибудь придумаем. Может, самолет нас заметит.
Я ничего не вижу, но чувствую, он поворачивает ко мне голову, обдает
лицо горячим дыханием.
-- На чем идти, на костылях? Будь что будет, я остаюсь, а вы идите, --
отвечает он твердо, и его слова звучат, как приговор.
-- Ты сумасшедший, ты не понимаешь, что говоришь. Как можно бросить
тебя здесь одного, обезноженного!
-- Другого выхода нет... Мы, видимо, не договоримся. Давайте спать, --
и он натягивает на голову полу телогрейки.
Я полон тревоги. Ответственность за судьбу Трофима лежит на мне. Что
придумать? Как убедить его идти, хотя бы ценою мучений?
Он лежит ко мне спиною. Мы как будто уже разделились: у него своя
началась жизнь, а у меня -- своя. Ему действительно идти нельзя. А что
делать мне? Бросить больного здесь, самому выходить к устью Ивака, искать
своих? Найду ли? Запутаюсь в щелях, ослабну -- и конец. Может, остаться с
больным, ждать, пока нас найдут?
Как не ошибиться? Как не нарушить нашей с Трофимом давнишней сердечной
связи? Мы отрезаны от всех людей. Мы расплачиваемся за то, что в этих горах
переступили границу запрета. Но мы не можем поддаться панике. Не так уж
безнадежно наше положение! И когда я прислушиваюсь к голосу разума, он
подсказывает мне идти, оставив Трофима здесь, найти как можно скорее своих.
Другого выхода действительно нет.
Засыпая, уже перед рассветом, я окончательно принял это решение.
Утро застает нас под пологом. Не спим.
-- Если не можешь идти, то тебе лучше остаться здесь, -- обращаюсь я к
Трофиму. -- Тут не пропадешь, на солонцах мяса добудешь, проживешь, а тем
временем я разыщу своих по Утуку, вернемся за тобою.
-- А если это не Утук? -- В голосе Трофима слышится безнадежность.
-- Не может быть, выбрось из головы эту мысль! Улукиткан говорил, что
воду всех рек здесь собирает Утук. Но предположим -- мы ошибаемся, тогда
пойду этим ущельем, и оно непременно приведет меня к Утуку. Другое дело --
как пройти по ущелью. Вдвоем мы бы пролезли где угодно, а одному трудно.
-- И мне тут с такими ногами невесело будет.
-- Только бы добраться до своих, в первый летный день тебе сбросят с
самолета все необходимое, а затем и мы придем на оленях, -- утешаю я
спутника, хотя знаю, что в действительности спасение Трофима будет гораздо
сложнее.
-- Торопись, -- говорит он без колебаний.
-- Я тебе оставлю карабин, а Кучума возьму с собою. Ты не должен далеко
отлучаться от стоянки, в ясные дни держи дымокур, пока не найдут тебя
летчики. Но... если в течение двух недель к тебе никто не придет и не
обнаружит с воздуха, ты выбирайся сам -- значит, и я не попал к своим.
Его нисколько не обескураживают мои последние слова, все уже им
продумано. Он твердо решил остаться здесь.
Сколько усилий, риска, и вот результат: должен бросить больного
товарища, одного в самой глубине этих диких гор. Знаю, это жестоко, и в
случае неудачи мне никто не простит, но я иду на это во имя спасения его
жизни.
Меня все больше охватывает тревога. Есть что-то нереальное в наших
планах на будущее. О Пугачеве совсем не думаю. Мысли приковывает Трофим.
Жуткое одиночество поглотит его с первой минуты, как только мы с Кучумом
покинем стоянку. Не сойдет ли он с ума от бездеятельности?
Вот и солнце взошло! На нашу убогую стоянку упал сноп ярких лучей.
Трофим не может сделать и шагу, греет у костра опухшие ноги. Мне бы надо
торопиться, но Трофим в таком состоянии, что ему не до охоты. Надо, прежде
чем покинуть стоянку, обеспечить его мясом хотя бы на первое время.
Решаюсь подняться под скалу к солонцам и отстрелять из первого
попавшегося стада небольшого барана. Хочу надеть сапог, в котором шел
Трофим, но не могу: нога сильно распухла, не лезет в сапог. Я очень удручен
этим, но ничего не говорю Трофиму. Разрезаю часть переда и голенища,
обуваюсь. Беру карабин, рюкзак для мяса. Кучума привязываю к поясу.
Только отошел от стоянки -- и приятная неожиданность: по россыпи
спокойной, размеренной походкой, чуть заметно покачивая спинами, идут три
рогача. Они взбираются по карнизам на верх небольшой скалы в двухстах метрах
от нас.
Их появление кажется настолько необычным, что я жмурю на секунду глаза.
Нет, не померещилось! Это снежные бараны. Они не замечают нас. Мне не успеть
вскинуть карабин, животные вот-вот скроются за обломком. Резкий свист
пронизывает тишину, это Трофим приходит мне на помощь. Бараны замирают на
краю скалы тесной группой, повернув головы на звук. Прицел -- и выстрел
потряс ущелье.
Пуля выбила из тройки самого крупного барана. Мы видим, как он
огромными прыжками рванулся в пропасть, ударился рогами о выступ и скатился
по россыпи почти до ручья. Остальные бараны мгновенно скрылись.
-- День начинается удачей, видно, и дальше все пойдет хорошо! -- говорю
я, обрадованный легкой добычей.
-- Я бы променял удачу на пару старых сапог! -- грустно отвечает
Трофим.
-- Не отчаивайся. Если нам повезет, не дольше как через неделю будем
вместе.
Мы быстро свежуем барана, делим тушу на мелкие куски. Мякоть Трофим
закоптит на черный день, а остальное сложит под мох на мерзлоту и долго
будет лакомиться костями.
Я беру из наших запасов спичек, соли. Укладываю в котомку куски
отваренного мяса и половину лепешки. Допиваем чай и еще раз уточняем наше
условие.
Прощаемся молча. Долгое, крепкое объятие.
-- Если не выйду отсюда -- не поминайте лихом! -- говорит он, и крупные
слезы катятся из немигающих глаз.
-- Мне бы не хотелось оставлять тебя с таким настроением. Все
переживется, и скоро будем вместе!
Он повел плечами и, не высказав какой-то мысли, еще раз обнял меня.
-- Если сможете, делайте по пути заломки, чтобы не исчезнуть вам
бесследно, -- глуховатым голосом просит Трофим.
-- Обязательно. Помни о нашем уговоре: две недели ты неотлучно живешь
здесь.
Мы с Кучумом уходим вниз по ущелью. Боюсь оглянуться, прочесть на лице
Трофима упрек. Не дай бог, если я ошибся, не нашел правильного решения, что
тогда будет?
III. Неожиданное открытие. Где же мать? Мы получили подарки. Путь по
Утуку. Свежие следы оленей. Хутама покидает нас.
Едва я отошел от табора, как меня поглотила чаща. А день тихий, теплый.
Солнце сзади. Давно растаял туман. Появился гнус. Больные ноги все больше
тяжелеют...
В душе одно желание -- не обмануться, выйти на Утук. С бокового ущелья
наплывает тайга с ее неспокойной жизнью, с буреломами, с пугливыми
обитателями и задумчивой тишиной. Лес мне больше по душе, чем угрюмые горы,
и я тороплюсь покинуть царство курумов, холодное каменное безмолвие гор.
Под ноги нет-нет да и попадается хожалая тропка, неизвестно кем
проложенная по ерниковой чаще. Она, как пугливый зверек, норовит вильнуть в
сторону, то исчезает, то появляется. А там, где ручей, взбаламученный
крутизной, стремительно бросается по скользким плитам на дно ущелья,
тропинка неожиданно отклоняется влево, вьется по стланику совсем в сторону
от ущелья. Я в недоумении останавливаюсь -- куда же она идет?
Ради любопытства выбираюсь наверх, но там, в стланиках, тропка
исчезает. Ну и хорошо! Хочу вернуться на дно ущелья, но Кучум упрямо тянет
меня вверх, храпит в потуге, впивается когтями в землю. Понять не могу, что
творится с ним! Угрожаю расправой, пытаюсь насильно увести его, но пес
делает отчаянный прыжок и тащит меня дальше. «Ну ладно, пройду немного и
вернусь», -- думаю я, ослабляя поводок.
И вдруг набросило дымом. Я словно прирос к земле, не могу сдвинуться с
места. Нюхаю воздух. Неужели люди? Не Пугачев ли? Мысли и чувства
перепутались, и все окружающее неожиданно становится самым дорогим. А Кучума
готов расцеловать!
Он горячится, тащит меня за собою. И снова неожиданность -- слышу
какой-то странный звук, будто кто-то плачет. Кажется, ребенок... Нет, не
может быть, откуда ему взяться здесь, в этих непролазных дебрях?!
Забываю про больные ноги и, уже не выбирая пути, выбегаю с Кучумом на
поляну -- и несколько секунд стою, словно пораженный громом. У почти
затухшего костра стоит четыре оленя, отбиваясь ногами от наседающего гнуса.
А рядом, под старой лиственницей, лежит эвенкийский скарб: потки с
продуктами и дорожными вещами, свернутые в трубку берестяные полотнища чума,
чайник, седла, одежда. Из груды вещей, сваленных кое-как, доносится
неистовый крик ребенка.
Где же люди?
А малыш орет. Бросаюсь к нему на помощь. Откидываю палатку и из вороха
вещей извлекаю крикуна. Он смотрит на меня малюсенькими глазенками, черными
как уголь, и орет, дуется до красноты, вот-вот лопнет.
Я больше обескуражен, чем обрадован. Встаю с ребенком, не знаю, как
заставить его замолчать? И вдруг слышу еще один тоненький голосок из той же
кучи вещей. Не сон ли это, не галлюцинация ли? Я смотрю по сторонам, ищу
людей, мать, но никого нет. Что же это будет? Укладываю одного на дошку,
затем достаю другого, стаскиваю с них пеленки. Мое сердце, загрубевшее в
походах, размякло.
Смотрю на черномазых крикунов, а сам не без смешинки думаю: надо же
было забираться в такие дебри, столько претерпеть неприятностей, бросить
друга -- и все ради такого «открытия».
Это близнецы-мальчики. Симпатичные ребята! Они удивительно похожи друг
на друга: оба плосколицые, узкоглазые, смуглые, типичные эвенки, и оба
отменно голосистые. Орут изо всех сил и брыкаются плоскостопыми ножками, а
я, как квочка, оставленная утятами на берегу речки, не знаю, что делать?
Чего только я им не предлагал: и колыбельную пою, и соловьем свищу, то
угрожаю, то изображаю зайца, медведя... Но увы, ничто не помогает! Орут пуще
прежнего! Чувствую, что в этом деле у меня полнейший пробел, никакого опыта.
К тому же малыши, вероятно, не слышали русского языка, и как бы я сладко ни
пел, для них это явно непонятные звуки. Они проголодались, требуют мать -- и
довольно-таки энергично.
Но где же она? Неужели ее не тревожит детский крик? А вдруг с людьми
что-нибудь случилось в этой трущобе, и они, возможно, больше не вернутся на
табор? Что я буду делать с близнецами, чем их кормить? Не бараниной же! При
этих мыслях меня охватывает страх и ощущение полной беспомощности.
Вот тебе и счастливый день: кажется, из одной беды я попал в другую,
еще более горькую!..
Солнце над головою. Никто не появляется, и я не знаю, что мне делать.
Близнецы орут, просят есть, я уж и не рад этой встрече. Присаживаюсь к ним,
беру на руки, и они немножко успокаиваются, но еще продолжают всхлипывать,
будто передразнивая друг друга.
Однако они быстро обнаруживают, что нянька из меня никудышная, и снова
поднимают энергичный крик, вынуждают встать. Я брожу с ними по поляне,
баюкаю, и малыши умолкают. Вот и хорошо! Но стоит мне остановиться на
секунду, как они дружно принимаются за свое...
Подумать только -- уже три часа, как я вожусь с буянами! Теперь нет
сомнения, что с людьми что-то случилось и мать уже больше не вернется к
детям, иначе как могла она бросить грудных детей на такое время? Что же мне
делать с ними? Я забываю даже о Трофиме, мучительно раздумывая над судьбой
этих несчастных, изголодавшихся малышей. Если мать не вернется, они обречены
на голодную смерть, и все это должно произойти у меня на глазах!..
Бывает ли в жизни человека положение нелепее, чем то, в какое я попал?
Знаю, не уйти мне с поляны и не бросить на произвол эти две маленькие
беспомощные жизни. И в то же время чувствую со всей остротою свою полнейшую
беспомощность, будто я попал в иной мир, где весь мой жизненный опыт и
навыки оказываются бесполезными... Как же, как все-таки накормить малышей?
Время тянется медленно. Я не заметил, как ушли от дымокура олени.
Знойный воздух полон гнуса. Бедные близнецы, они охрипли, до неузнаваемости
искусаны мошкой. Поблизости нет воды, и я не знаю, как далеко она от
стоянки.
Вдруг Кучум вскакивает, замирает, насторожив острые уши. Я
прислушиваюсь, но ничего не улавливаю. Только ветер, проносясь мимо,
задевает невидимыми крыльями макушки стлаников, да гудит комар, как перед
непогодой. Но собака, сбочив голову, раздувает ноздри, внюхивается в воздух
и, очевидно, что-то слушает.
Я снова, напрягая зрение и слух, жду. И вот в дальнем углу поляны чуть
качнулась ветка, другая, и оттуда доносится непонятный звук. Еще минута, и я
вижу, как из чащи высовывается рогатая голова оленя, затем показывается
седок и еще один олень, идущий в поводу.
Это несомненно она -- наша затерявшаяся мать! Олень под нею устал, не
отдышится, широко раздувает ноздри. Но женщина поторапливает его,
подталкивает в бока пятками. На ее озабоченном потном лице испуг и тревога.
Словно совсем не замечая меня, она молча выезжает на поляну, привязывает
оленя к кусту, сбрасывает седло с переднего и вьюк со второго оленя, которые
тут же валятся на землю.
А я, бесконечно обрадованный, стою с близнецами на руках и слежу за
женщиной.
-- Здравствуй! -- глуховато бросает она и, чуть задохнувшись от
последних шагов, кидается ко мне с сердитым возгласом:
-- Ты разве не был отцом, как держишь детей? Откуда взялся?
Она забирает у меня близнецов, и те мгновенно умолкают. Настает такая
благодатная тишина, делается так легко на душе, что даже хочется
рассмеяться. Несколько секунд мы молча глядим друг на друга.
-- Ты скорее корми их, а я схожу за водою, чай вскипячу, потом
рассказывать буду, -- наконец смущенно выговариваю я.
Женщина молода, смугла до черноты, в полном расцвете сил. Чуточку
плоское, крупное, но красивое лицо с высоким лбом и свежими, слегка
припухшими губами озарено какой-то мыслью, на нем ни капельки смущения.
Черные бусинки глаз, выглядывающие из-под тяжелых век, кажется, не выражают
ни восторга, ни удивления, в них светится ум.
Какое-то необъяснимое, но поразительное сходство с окружающей природой
живет в этой женщине, и можно безошибочно сказать, что она родилась где-то
здесь в скупых горах, обездоленных ветрами, в чахлых лесах, распластавшихся
облезлой шкурой по дну широких долин, сбегающих к Зее.
Она по-девичьи свежа, по-матерински заботлива и, видимо, по-человечески
добра.
-- Неси воды, чай пить надо, -- спокойно приказывает она, усаживаясь,
как гусыня, на землю и укладывая малышей на коленях.
Она долго целует детей в крохотные губки, в заплаканные глаза,
прикладывает к губам их розовые и мягкие детские пятки. «Вот, оказывается,
что им нужно!» -- думаю я. А буяны, почувствовав близость матери, ее ласку,
потешно гукают и от удовольствия пускают пузыри.
Я с наслаждением наблюдаю эту нежную картину. Впервые за много лет
общения с эвенками я оказался свидетелем таких страстных излияний
материнского чувства. Мне ни разу не приходилось видеть, чтобы женщины этого
племени целовали своих детей. И вдруг такая картина! Очевидно, это пришло к
ним с новой жизнью.
Мать привычными движениями высвободила из платья налитые, тугие груди,
и близнецы, приникнув к ним, начали сосать, аппетитно причмокивая влажными
губами. Только теперь, при этом соединении с сыновьями, на лице матери
появилось выражение блаженства, ее взгляд потеплел и засветился.
Я отправился искать воду. Огненный диск солнца уже скатился по
прозрачной синеве неба к краю земли, но было еще душно и жарко.
Когда я вернулся на поляну, крикуны уже спали под ситцевым пологом,
заботливо натянутым матерью. Горел костер. Олени ушли кормиться. Мать сидела
у костра, чинила детскую рубашонку. Поджидая, когда вскипит чай, мы
разговорились.
-- Ты спрашиваешь, как меня зовут? -- охотно говорила женщина. --
Хутама, по-русски значит -- краснощекая. А река эта -- Утук, ты угадал.
Шибко худой речка, как бешеный...
-- Куда же ты идешь?
-- К матери в Альгому, -- Хутама ощупывает меня любопытным взглядом. --
А ты был в Альгоме? Нет? Будешь близко -- заезжай, все равно что город, семь
домов, магазин...
-- Зачем бросила надолго малышей, ведь они от одного крика могли
умереть?
-- Олень с вьюком отвязался на тропе, а я сразу не заметила, только
здесь спохватилась. Вот и вернулась за ним. Думала, скоро найду, а оно,
видишь, весь день пропал... Теперь бы как далеко была!
-- А раньше здесь люди ездили?
-- Может, и ездили, не знаю. Старики пастухи сюда меня послали,
говорили, что по Утуку можно пройти до озера Токо правой стороной. Тут
где-то солонцы, эвенки раньше добывали баранов. Вот я и поехала. А дорога-то
шибко худой, кругом стланик, камень, пропастина. Однако, напрасно
послушалась стариков.
-- И ты не побоялась одна ехать?
Она удивленно скосила на меня свои черные малюсенькие глаза.
-- Чего бояться? И одному человеку в тайге хорошо: если на себя
надеешься. Ты далеко идешь? Где ружье, топор, есть ли спички? Тут без этого
пропадешь...
-- Ружье у товарища, он недалеко остался, на солонцах.
При этих словах Хутама совсем оживилась:
-- Солонцы, говоришь, тут близко, а почему твой котомка без мяса?
-- Полную котомку нести мне тяжело. Мы там утром убили большого барана,
я немного отварил мякоти на дорогу и ушел, а товарищу не в чем идти, сапог
нет, понимаешь? Ноги сильно поранил. Я его оставил там.
Хутама посмотрела строго, обвиняюще.
-- Ты, однако, худой человек! Зачем товарища бросил?! Такого закона нет
в тайге. Пьем чай -- и надо ходить за ним.
-- Я его оставил на несколько дней, чтобы прислать за ним с устья Ивака
оленей.
-- Разве тут близко еще есть люди?
-- Да, есть, эвенки и русские. Это экспедиция.
-- А-а-а, -- протянула нараспев Хутама, будто это слово сказало ей все.
-- Проводник у них Улукиткан. Знаешь такого?
-- Из Покровского, которого в прошлом году слепого собака к Джегорме
привела? Давнишний старик?
-- Да, да! Вот эта собака, Кучум, спасла его.
-- Эко здоровенный, как медведь! -- удивилась женшина. -- Видишь,
собака товарищ лучше, чем ты. Чего смотришь, я правду говорю! Подкладывай
дров, пусть скорее чай кипит, ходить буду за твоим другом.
Хутама свернула починяльную сумочку, завернула ее в распашонку,
положила в потку.
-- Улукиткан хороший люди. Его язык не знает худой слова, его руки умей
делать добро, кто ходил его тропою, не видел горя -- так у нас говорят. Все
его знают. Добро, как ветер, далеко ходит по тайге.
Скоро мы пили чай.
Хутама оказалась пастушкой колхоза «Ударник», Как свободно она
чувствует себя в этих диких горах, как далека она от многих условностей
городского общежития! Ее дом -- зимою полотняная палатка, а летом --
закопченный берестяной чум. Ее одежда и обувь сшиты своими руками. Друзья
Хутамы -- тайга, костры, пурга, а желания -- дали.
Пастухи-эвенки, жители этих мест, в силу необычных условий содержания
оленей, принуждены весь год кочевать с колхозными стадами по широким
просторам Приохотского края. Они сохранили в своем быту все лучшее, что
дошло до них от предков -- лесных кочевников. И в то же время впитали в себя
много нового.
Там, в глуши лесов, вдали от поселений, у дымных очагов, рождаются и
дети этого отважного племени. Нужны ли будут в будущем эвенку олени -- это
решит судьбу пастухов. А пока что они свободны, как соколы, живут вместе с
семьями в тайге, идут, куда ведут их стада.
Хутама допила чай, вытерла подолом чашку и вместе с блюдцем спрятала в
потку.
-- Говоришь, убили барана? Жирный? -- почему-то вспомнила она и, не
дождавшись ответа, добавила: -- Баран мясо хорошо! -- Она вдруг поднялась и,
захватив узды, молча направилась за оленями. Минут через двадцать Хутама уже
была готова покинуть стоянку: Кроме ездового, она взяла с собою трех оленей
под вьюки. Расспросила коротко о пути, строго наказала:
-- Не забудь, дров припаси, с мясом ночь будет длинная...
Хутама бросает беглый взгляд на солнце, как бы засекая время отъезда,
косит ласковые глаза на полог, где спят малыши, и покидает табор.
-- Мод... мод... -- покрикивает она, скрываясь в чаще словно
привидение, неслышными шагами. Следом за нею бесшумно, почти не касаясь
земли, исчезают послушные олени. Красный платочек на голове Хутамы мелькает
в стланиках.
Я долго стою, смотрю ей вслед, взволнованный ее мужественной простотой,
и все еще мне трудно понять, как можно женщине одной отправиться в такой
далекий путь по дикому Утуку к Алданскому нагорью. Сколько жизненного опыта
нужно человеку, да еще с грудными близнецами на руках!.. Для нас это
героизм, а для нее -- будни.
Томительно тянутся часы ожидания. День близится к закату. Уже конек
творит вечернюю молитву. Вот он взлетает над дремлющими в тиши макушками
леса, замирает, страстно трепеща в воздухе крылышками, и роняет с высоты
свое однообразное: «Тир... тир... тир... сиа... сиа... сиа...»
Тяжелый сумрак давит туман. В потемневшей синеве неба, низко над
пылающим закатом прорезался кособокий месяц. Зажглись первые звезды.
Караван вернулся потемну. Хутама вела трех навьюченных мясом оленей, а
Трофим завершал шествие верхом. Оживший костер осветил стоянку.
-- Ну и повезло же нам, пожалуй, за всю эту неделю привалило счастье!
-- сказал весело Трофим, здороваясь.
-- Кто мог подумать, что в этих дебрях мы встретим человека, да еще
такого доброго и мужественного, как Хутама, -- ответил я.
Пастушка устало бросила на землю повод, снова превратилась в заботливую
мать. Снова ее строгое лицо озарилось внутренним светом, она припала лицом к
голым малышам, покрывая их тельца горячими поцелуями. От нас она,
по-видимому, не ждет каких-либо изъявлений благодарности, -- так уж положено
у лесных людей, -- считать чужое горе своим...
Мы с Трофимом развьючили оленей, отпускаем их пастись, и я принимаюсь
готовить ужин. Наконец-то за много дней путешествия по Становому мы имеем
возможность по-человечески поужинать, уснуть спокойно, не терзаясь
сомнениями о завтрашнем дне. С нами Хутама, опытный советчик и проводник.
Троим нам куда легче и проще закончить путешествие. Тревога слетела с плеч!
Трофим достает из рюкзака круглую железную коробочку с леденцами,
хранившуюся у нас как «НЗ». При виде ее у Хутамы от удивления поднялись
брови, но через миг, от какой-то догадки, в глазах мелькнуло торжество. Она
отобрала у Трофима коробочку, раскрыла ее, несколько штук плоских леденцов
бросила в рот. Крепкие зубы мигом размололи их, и сухие крошки падали с
пухлых губ на подставленную ладонь.
-- Эко добро, слаще переспелой брусники! У тебя па-верное еще есть, а
это я повезу Альгома, дарить буду матери, -- и, плотно закрыв коробочку, она
поспешно засунула ее глубоко в свою потку.
-- Ты достойна большего, но у нас ничего нет, кроме этих леденцов и
добрых слов, -- ответил Трофим.
Глухая полночь. Уходит с неба месяц. На севере уже схлестнулись зори.
Ужинаем молча. Хутама угощает нас на удивление белыми пышными лепешками. Как
сосредоточенно и быстро она ест, забыв про нас, ничего не замечая, кроме
жирной баранины. Кажется, что автоматически работает у самых губ острый нож,
отсекая один за другим сочные кусочки баранины. С горячего мяса стекает по
ее рукам белое, как вата, сало. Оно стынет узорными кольцами на пальцах,
охватывает запястье широким браслетом. Хутама слизывает с рук белый налет,
запивает его жирным бульоном и продолжает работать ножом.
Как далеко сейчас мы с Трофимом отброшены в прошлое, где ничто не
напоминает о современной культуре, о жизни на Большой земле. Наш приют под
толстой лиственницей, эвенкийский скарб, пасущиеся олени живо напоминают
стоянку лесных кочевников из далекого прошлого. Да и сама Хутама, с ее
удивительной для нас непосредственностью, с открытой, по-детски, женской
душой, с незапятнанной совестью, с древними застольными привычками и
вкусами, тоже будто явилась из безвозвратно ушедших первобытных времен...
Мы с Трофимом уходим от праздничного неба, от гостеприимной
лиственницы, от костра под сень ситцевого полога. Разве была когда-нибудь
такая чудесная ночь! Даже если бы сейчас разверзлись небеса и на тайгу
свалилась грозовая буря, ночь для нас не потеряла бы своей прелести. Мы
заплатили за нее немалой ценою и благодаря только доброму сердцу Хутамы
снова оказались вместе. Вот мы лежим на хвойной подстилке, раскрепощенные от
тяжких дум, нежимся в атмосфере уюта. Мир кажется нам блаженством, а будущее
полно радостей. Мы засыпаем счастливцами.
Пробудился я перед зарею. В небе доспевали звезды. Серебрилась поникшая
трава. Из лесной глубины разливался по долине, то затихая, то возрождаясь,
загадочный звон колокольчика. И только он один, этот неровный металлический
звук, жил во всеобщей дреме.
Пастушка, сгорбившись у огня, что-то шила.
-- Хутама, ты почему не спишь, уже скоро утро? Хутама повертывает ко
мне лицо, зарумяненное костром, смотрит на меня усталыми глазами и тихонько
говорит:
-- Спать не буду, тебе штаны надо, твоему товарищу олочи надо. Как
пойдете дальше? Тут лавки нету...
Меня растрогали ее слова. Я не знал, что сказать этой женщине, случайно
появившейся на нашем горьком пути.
Хутама не прилегла в эту ночь. Мне она преподнесла «насовсем» свои
штаны, только что расклиненные ею цветным лоскутом, а Трофиму олочи, сшитые
из лосины. Мы в восторге, не находим слов благодарности. Снова поражаемся ее
удивительной простоте, ее материнской заботе о нас.
На чащу обрушивается солнечный ливень. Близнецы давно проснулись,
позавтракали и теперь блаженствуют на оленьей шкуре у огня. Они в крошечных
трикотажных носочках и в белых фланелевых распашонках фабричного пошива.
Мать одела их с явным желанием подивить нас, чего и добилась, заставив меня
смутиться. Ведь еще вчера я считал дикарями этих крохотных, голых,
завернутых в кабарожью шкуру и связанных ремнями малышей, а сегодня,
пожалуйста, это -- щеголи, все на них европейское, и они, негодники,
кажется, еще и посмеиваются надо мной своими беззубыми ртами...
А вообще это удивительно дружные братцы, до чего же они копируют друг
друга! Стоило одному подать голос, как второй не заставил себя ждать.
У матери много времени уходит, чтобы сложить из походного имущества
вьюки. Мы с Трофимом собрали оленей. Близнецы раскричались на всю тайгу.
-- Чего они хотят? -- спросил я Хутаму.
-- Ехать надо. На олене кричать не будут, -- ответила пастушка
деловито, готовя сыновей к отъезду.
Прежде чем спеленать ребят, Хутама принесла из леса сухой пень,
раздробила его ногою, отсеяла труху, размяла в ладонях и пересыпала ею у
детей в паху.
-- Что ты делаешь? -- крикнул Трофим.
Та, закончив свое дело, сказала сухо и. назидательно:
-- Так хорошо, преть не будет!
Затем она стащила с ребят распашонки, носочки и, невзирая на энергичное
возмущение малышей, завернула их в пеленки из шкуры.
Мы помогли Хутаме навьючить на оленей весь скарб. Затем она взялась за
близнецов. У каждого лубочная люлька с приподнятым изголовьем. Связав люльки
ремнем, Хутама перекинула их через седло и крепко при-вьючила. Пока она все
это делала, близнецы неистовствовали, но стоило оленю сделать первые шаги,
как крик прекратился и не возобновлялся на протяжении всего пути.
Вот так, с раннего детства, эти будущие пастухи или разведчики
привыкают к кочевой жизни. С этого возраста им прививается привычка к
скитальческой жизни, любовь к просторам и движению.
Мы выстраиваемся гуськом: Хутама ведет караван, следом иду я, Трофим
верхом завершает шествие. Наш и пастушки путь идет к устью Ивака.
От поляны недалеко начинается спуск в ущелье. Впереди чуть заметно
вьется тропка. Как осторожно, легко, неслышно спускает передний олень с горы
близнецов, точно понимая, какой на его спине ценный груз. Он, как ящерица,
извивается между деревьями, боязливо скользит по чаще, не заденет люльками,
не толкнет. И малыши, по-видимому, довольны, не подают голосов, возможно,
даже спят, убаюканные плавным движением.
Мы на дне ущелья. Оно никогда не продувается ветрами, воздух здесь
сырой, затхлый. Слева ревет Утук.. Справа дыбятся, убегая в синеву, откосы.
Небо пятнистое, чуть просматривается сквозь кроны лиственниц.
В поисках проходов через крутизну нам часто приходится вплотную
прижиматься к Утуку. Река распилила глубоким шрамом дно ущелья, почти
скрылась в каменную твердь, простившись с солнцем, небом, окутанная мраком.
Только стланики, склонившись над пропастью, видят, как в темной глубине ее
бьется в вечных судорогах Утук, силясь раздвинуть камень, очистить себе путь
и обзавестись заводями, где бы можно было на минутку оборвать свой бег.
Караван наш взбирается на высокий обрыв, останавливается. Хутама, не
снимая люлек с оленя, поочередно кормит сыновей, и мы идем дальше.
Наша проводница все чаще замедляет шаг, осматривается, прислушивается,
то вдруг припадет к земле, ощупывает рукою чьи-то, заинтересовавшие ее,
следы.
-- Однако, где-то близко люди есть. Олень тут вчера ходил, -- кричит
она, догоняя меня.
-- Может, это след сокжоя? -- переспрашиваю я.
-- Не слепая, чтобы ошибиться. Говорю, люди близко есть!
-- Неужели наши? -- и я прибавляю шаг, весь наполняюсь радостью
ожидания.
Слышу, где-то далеко-далеко, словно в подземелье, лает Кучум. Все чаще
и сам вижу свежие следы оленей.
В ущелье становится свободнее. Небо раскинулось надо мною шире,
просторнее. Справа показалась глубокая лощина. По дну ее течет большой
правобережный приток Утука, собирающий воду с огромной территории,
обойденной нами с юга. Река, вырываясь тугой струею из-за утесов, падает
кувырком вниз по камням, точно сброшенная со страшной крутизны какой-то
дьявольской силой. Ниже, среди крупных валунов, она схлестывается с седым
Утуком в буйном объятии, да так, обнявшись, и мчатся обе реки навстречу
новым порогам и перепадам.
Я осторожно перебредаю студеную, как лед, реку и выбираюсь на большую
площадку, расклинившую тесное ущелье Утука. Если здесь есть люди, то они
непременно воспользовались этой равниной и редкой лиственничной тайгою.
Вдруг издалека, откуда слышался лай Кучума, доносится выстрел. Это
озадачивает меня. Куда идти? Решаю сначала обследовать площадку, а затем уже
идти на выстрел.
И вскоре новое открытие, да еще какое, заставляет сильно забиться
сердце -- поднимаю с земли свежий окурок цигарки, свернутой из знакомой
бумаги, на которой геодезисты делают свои вычисления. Как я обрадовался этой
находке! Ноги сами несут меня вперед, не разбирая, что под ними -- валежник,
рытвины или пни...
Вдруг позади себя слышу какой-то шорох, оглядываюсь.
-- Бойка! Бойка!.. -- исступленно кричу, узнав свою собаку.
Она с разбегу бросается мне на грудь, визжит от радости. Я прижимаю ее,
ласкаю, как дорогое, родное мне существо. Где-то близко мои спутники!
А вот и Кучум. Он чертовски, как горец, ревнив. Сразу вклинивается
между мною и Бойкой, и та, как всегда, по-матерински, уступает ему свое
место возле меня.
Я тороплюсь дальше. События как-то сразу захватывают меня своей
неожиданностью. Впереди, сквозь густые кроны лиственниц, пробился свет,
деревья неохотно расступились, и я, не помня себя и не чувствуя усталости,
выбегаю на поляну. И тут, среди низких стлаников, передо мною возникает
чудесное, как мираж, видение -- полотняный лагерь, кажущийся сейчас целым
светлым городком!
По тому, как расставлены палатки, как по-хозяйски все прибрано к месту
и еще по каким-то необъяснимым признакам, давно знакомым глазу, узнаю лагерь
Пугачева.
И, уж совсем пораженный, вижу среди палаток свой цветной полог,
аккуратно натянутый, поджидающий меня! Значит, здесь все наши. Наконец-то мы
все вместе!
Но где же люди? Ни единой живой души! Не дымится костер. Затухли
дымокуры, куда-то разбрелись олени. Заглядываю в первую из палаток -- пусто.
Во второй -- неубранные постели и туча комаров...
Вдруг до слуха долетает какой-то неясный звук. Я заглядываю за палатку
и глазам не верю: на сложенном вдвое брезенте лежит, раскинув ноги,
здоровенный мужчина, а Пугачев, нагнувшись над «заказчиком», скрипящими
ножницами кроит из брезента по нему штаны.
-- Ну и вытянуло тебя, Алексей! Как чертополох, со всякими излишками.
Брезента-то не хватает в длину! -- озабоченно ворчит Пугачев.
-- Сам маюсь: ни ватника не подобрать, ни сапог... Девчата смеются,
стропилой зовут, -- добродушно кряхтит лежащий.
-- Вряд ли, парень, из тебя стропило-то выйдет, хлюпкий и ломкий ты,
зря прозвище прилепили...
-- Заказы на пошив здесь принимаются? -- не выдерживаю я.
Пугачев изумленно оглядывается, ножницы выпадают из его рук.
-- Фу ты, господи, наконец-то! Совсем извелись, ожидая.
Мы крепко обнялись.
Невыразимо приятно почувствовать рядом этого человека, с которым
пройден большой нелегкий путь. Всегда вместе -- двадцать с лишним лет,
отданных исследованию окраин Союза. И всегда, разлучаясь даже на какое-то
короткое время, мы скучали друг о друге, ждали встречи.
-- Бородищу-то отпустил, не узнать! -- говорю я, рассматривая Пугачева.
-- В этом-то и сила! Люди у меня на подбор, богатыри, словом не
возьмешь, так я бородою их стращаю. Ничего, получается, -- смеется Трофим
Васильевич и продолжает: -- Мы уже все сроки переждали. Чего только не
передумали о вас. Решили начать поиски. Улукиткан с Василием и двумя парнями
ушли по притоку к вершине, а я должен был подняться по Утуку. Хотел Алексею
штаны сшить и трогаться. А где Трофим? Дьявол, изболелась по нему вся душа.
-- Сейчас подъедет.
-- То есть, как подъедет?
-- Попалась нам на Утуке краснощекая попутчица с оленями... Вот и они!
-- На тропе послышался женский голос:
-- Мод... мод...
Пришел караван. Лагерь ожил, наполнился людским говором.
Два Трофима: Пугачев и Королев -- с детской радостью осматривают друг
друга, а затем надолго сплетаются в объятиях.
Они оба -- воспитанники нашего экспедиционного коллектива, оба давно
стали для меня родными. Эти люди, такие разные по своему прошлому и по
характерам, ни в чем не повторяющие друг друга, связаны нерасторжимой
дружбой, закаленной в труднейших походах.
-- Ну-ка, погляди на меня, воскресший из мертвых! Значит, здорово
прижало на Алгычане? -- растроганно говорит Пугачев, не выпуская друга из
объятий.
-- Все прошло, бурьяном поросло, стоит ли вспоминать!
-- А Нина?
Трофим некоторое время молчит, и какие-то затаенные мысли омрачают его
лицо.
-- У Нины несчастье. Муж умер. Осенью поеду за ней.
-- И сразу свадьбу! -- перебивает его Пугачев.
-- Там видно будет...
-- Пронька, где ты, опять дрыхнешь, айда сюда! -- кричит Трофим
Васильевич, повернувшись к палаткам.
-- Тут я, -- слышится оттуда.
-- Собирай котомку и догоняй Улукиткана, пусть возвращается.
Пронька, огромный детина лет двадцати, молча потоптавшись возле нас и
почесав затылок, собирается и уходит.
А Хутама отчужденно смотрит на всех нас, видимо, ей не все понятно в
наших разговорах и отношениях друг с другом. Она отвела в сторону от палаток
караван и решила обосноваться под одинокой лиственницей. Я помог ей
развьючить оленей, натянул полог. Парни натаскали дров, разожгли дымокуры. И
тут, в тишине знойного дня, над разомлевшим от истомы лагерем, раздаются
голоса близнецов. Их дуэт производит поразительное впечатление на
загрубевших, давно оторванных от своих семей, лишенных ласки людей. Детский
крик напоминает им о многом...
Хутама долго кормила малышей, и что-то ласково, почти шепотом,
рассказывала им на родном языке, и весь лагерь притих, украдкой наблюдая за
этой картиной.
А из-за гор, вдруг потемневших, словно из берлоги, выползали тяжелые
дождевые тучи. Надвигалась гроза. Упряталось солнце. Сумрак наполнил тайгу.
Где-то на юге, за хребтом, баловалась молния, синеватые отсветы трепетали
над всплывшими из мрака вершинами.
Пастушка тревожным взглядом окинула взбунтовавшееся небо и заторопилась
устраивать ночлег. Мы предлагали ей перебраться в палатку, но она отказалась
и решила ставить под лиственницей свой берестяной чум.
А тучи уже нависли свинцовыми глыбами над стоянкой. По притихшей тайге
задул, меняя направление, тугой влажный ветер. Мы общими силами нарубили
Хутаме жердей, установили их конусообразно и молча наблюдали, как привычно и
ловко ее руки раскладывают поверх жердей полотнища бересты. Чум был готов
раньше, чем на землю упали первые капли дождя.
Хозяйка разожгла внутри чума дымокур, перетащила туда вьюки, но сама с
малышами осталась под лиственницей. Она придвинула костер поближе к стволу
дерева, расстелила оленью шкуру и, распеленав близнецов, уложила их на нее,
дескать, смотрите, какая бывает гроза в горах, привыкайте ко всему!
И дети молча таращились на грозовые небеса, слушали, что творится в
мире.
С черного неба на затаившиеся горы обрушились тяжелые раскаты грома.
Они повторялись снова и снова, все ближе, все тяжелее. По тучам шныряли
молнии, осыпая горячим блеском тайгу. Земля дрожала, в воздухе стоял
непрекращающийся гул.
Дождь сразу превратился в ливень и загнал нас в палатки.
Я продолжаю наблюдать за Хутамой. С редкой кроны лиственницы, под
которой сидит женщина, вода сбегает непрерывными струями. Уже залит костер,
уже напиталась водою почва, но возле толстого ствола лиственницы еще
остается крошечный клочок сухой земли, на нем-то и ютится пастушка со своими
полураздетыми близнецами. На лице ее ни тени беспокойства, она будто не
замечает ни потрясающих горы разрядов, ни падающего холодного дождя.
Запрокинув голову, она смотрит безучастным взором в черное небо и о чем-то
раздумывает.
Когда же дождь стал мельчать и гроза отдалилась, Хутама раздула костер
и прикрыла малышей подолом своей широченной юбки, видимо считая, что самое
интересное закончилось.
Позже, когда лагерь осветили косые лучи заходящего солнца, пастушка
переселилась в чум вместе с костром, и оттуда долго слышалась колыбельная
песня.
Куда-то за плоский хребет укатилась гроза. В голубом, прозрачном небе
дотлевают последние лучи. По мокрой тайге расплывается сумрак летнего
вечера.
Как свежо стало в лесу! Ни единого комара, смолкли все таежные звуки, и
только взбухший от ливня Утук, закусив удила, мчится по каменистому руслу.
Из палаток к костру выползают люди. Лагерь наполняется обычной суетой:
кто сушится у огня, кто заканчивает прерванную работу, а некоторые не прочь
что-нибудь поесть. Трофим Королев в палатке стучит ключом рации, посылает в
эфир позывные -- вызывает штаб.
Готовится ужин.
В ясном небе померкло одинокое облачко, и тайгу до краев захлестнула
тьма.
Неожиданно из мрака лесной чащи послышался знакомый окрик Улукиткана,
подбадривающего оленей. Через несколько минут на поляну вышел уставший
караван, и мы увидели стариков, Василия Николаевича и других людей,
отправившихся искать нас по притоку.
-- Сами узнали, без Проньки, что вы пришли, -- говорит Улукиткан,
отогревая у огня закоченевшие руки. -- Уже далеко отсюда были, слышим, чужая
собака лает. Кому, думаю, тут ходить, место худое, следа зверя нет. Потом
угадали, однако, Кучум. Мы стреляли, чтобы вы слышали, и повернули назад.
Почему вы так долго ходи?
-- Погода задержала.
Улукиткан и Лиханов располагаются под лиственницей, вместе с Хутамой.
Возле чума развешивается одежда, старики что-то громко и живо рассказывают
Хутаме.
Остальные собрались у большого костра. Теперь можно рассмотреть всех
обитателей лагеря.
Подразделение Пугачева состоит из шести дюжих, по-гвардейски сложенных
парней и одного маленького, шустрого человечка с быстрыми глазами и огромной
порыжевшей от солнца бородой -- самого Пугачева. Все они крепко спаяны в
один коллектив. Никого не тронь: один за всех, все за одного! Беде тут не
так просто поживиться. Власть Пугачева над всеми безгранична, этому
способствует его опыт и заразительный оптимизм.
У тайги с геодезистами свои давние счеты, особая непримиримость. Не
многие из них выдерживают, а те, кто продолжает, -- сживаются с постоянным
риском, с неудобствами походной жизни, делаются смельчаками, и тогда нет для
них иной жизни, как напряженная борьба с природой. Я гляжу на этих людей,
освещенных скупыми бликами костра, на их истоптанную обувь, многочисленные
латки на штанах и рубашках, на ссадины -- и с гордостью думаю, сколько
дерзновенной силы и воли живет в каждом из этих мужественных землепроходцев,
неутомимых тружеников, создающих карту родной земли.
Карта... Сколько человеческого труда, героизма вложено в нее! Знайте
это, помните об этом, когда рассматриваете карту, когда прослеживаете
взглядом условные голубые змейки рек, зеленые клинья тайги, коричневые
извивы горных кряжей, когда читаете глубины морей и океанов...
Отряд Пугачева еще долго будет трудиться на Становом. Еще только
начало, а впереди огромная территория неисследованных гор. Людям придется
проложить не один проход в глубину, к сердцу хребта, побывать на многих
вершинах и на самых высоких отстроить геодезические знаки.
Не раз у них со спины слезет кожа, натертая котомками, они и
наголодаются тут, и погрустят, и не раз будут наказаны за дерзновенную
попытку обуздать дикое, первобытное.
Но с какой величайшей радостью они, закончив работу, будут смотреть с
последнего гольца на побежденный Становой!
Вот мы и собрались все у костра, чтобы решить: каким маршрутом идти
дальше отряду Пугачева, куда доставить ему продовольствие, материал, когда
выслать смену оленям, на каком хребте он соединится с подразделениями,
идущими к нему навстречу по Зее? Поскольку еще нет на этих горах ориентиров,
а большинство рек и вершин еще не имеет названий, решили опорным пунктом
сделать Ивакский перевал, расположенный примерно в центре работ на Становом.
Ему суждено стать местом будущих встреч, через него пройдет путь
геодезистов, топографов, астрономов, там будет организован склад запасов
продовольствия для всего района. В последующие годы им пользовались многие
поисковые партии, пришедшие сюда после нас.
Поздно люди разошлись по палаткам. Глухая ночь. Под седыми космами
тумана буйствует Утук. И вся необъятная теснина словно колышется.
Мы с Пугачевым одни остаемся под открытым небом. Я думаю о том, как
нелегко достается ему благополучие подразделения, сколько трудностей еще
впереди, на подступах к главной водораздельной линии хребта, и сколько еще
горечи он хлебнет на скалистых вершинах Станового!
Трофим Васильевич сидит напротив, завертывает ноги в сухие портянки,
перевязывает их ремешками -- готовится спать. На освещенном его лице еще не
растаял след забот и тревог прошедшего дня.
-- Тяжело, Трофим Васильевич? -- тихонько спрашиваю я. В отличие от
Трофима Королева, я всегда зову его по имени и отчеству.
-- Не в этом беда, -- отвечает он. -- Ребята у меня золотые, а опыта у
них нет. Не отбери вы весной мои старые кадры, я бы с ними шутя одолел
Становой. А этих сначала ко всему приучать надо, и не все им сразу дается.
Да и места, вишь, какие неподходящие, тут чуть ошибись и -- поминай как
звали человека!
-- А что бы делали без твоих опытных рабочих молодые инженеры, впервые
попавшие в тайгу? Им тоже надо у кого-то учиться...
-- Знаю, надо, но зачем было всех забирать, -- упрямо возражает
Пугачев.
-- Не всех. Думаю, и этих молодцов ты обучишь. Меня беспокоит другое:
управишься ли ты с заданием? Работы много.
-- Сидеть сложа руки не будем, но гарантию дать не могу, кто знает, с
чем еще мы тут можем столкнуться?!
-- А если не завершишь работ -- сам знаешь, во что обойдется на
следующий год их доделка. Рисковать этим не следует. Можем к осени сюда
прислать еще одно подразделение.
Пугачев поднимает голову, косит на меня свои глаза.
-- Зачем?
-- Тебе в помощь.
Он ежится от холода, насупившись, молчит и начинает устраиваться спать,
как обычно, сидя. Натягивает на голову капюшон плаща, сердито поджимает под
себя завернутые в портянки ноги и бросает с обидой:
-- Сами управимся...
Я чувствую, что своей последней фразой неосторожно задел его больную
струну. В ушах звенит его безапелляционное «сами управимся». Искать помощь
на стороне -- этим недугом он не страдает. По-юношески влюбленный в свое
дело, привыкший все додумывать и рассчитывать сам, мог ли он согласиться с
моим предложением? Не промолвив больше ни слова, он и уснул обиженный.
Я долго смотрю на Пугачева, согнувшегося в комочек. Только люди с
неугасимой энергией, для которых никогда не обрывается трудовой день, могут
спать стоя, сидя, в любом положении, как он. Удивительный человек! В городе
вы его не узнаете. У него и рост, и внешность, и голос -- неприметные. Ходит
по улице как-то боязливо, будто по чужой земле, всего сторонится, робеет на
людях. Но стоит ему глотнуть таежного воздуха, увидеть дали, встретиться с
какой-нибудь опасностью, как весь он преображается, и тогда нет предела его
энергии и нет силы, которая бы укротила кипучую натуру этого человека.
Здесь, в тайге, он как будто становится выше, сильнее и красивее. Вот и
спит-то он по-птичьему, настороже, боится проспать восход... И я не знаю
случая, чтобы его опередило утро.
День начался хмурым рассветом. Трофим Королев с вечера предупредил все
наши полевые станции явиться в эфир пораньше, поэтому мы с ним до завтрака
занялись переговорами. А Пугачев уже командовал своим подразделением. Его
властный голос доносился то с одного, то с другого конца лагеря. Он уже
отправил куда-то за грузом свой транспорт; двоих рабочих усадил за починку
мешков; каюров заставил пересмотреть вьючные седла и собрать больных оленей,
чтобы залить креолином раны. Улукиткан, Николай и Хутама под лиственницей
наслаждаются утренним чаепитием и о чем-то беседуют.
После завтрака мы с Пугачевым отправляемся на голец, где только что
отстроен геодезический знак, чтобы на месте принять его, -- и там, обозрев
хребет с большой высоты, окончательно решить все вопросы, связанные с
дальнейшей работой подразделения.
Завтра все мы покинем Утук.
Хутама, узнав, что до устья Ивака отсюда прорублена Пугачевым тропа,
заторопилась к своим, не стала дожидаться завтрашнего дня. Я дарю ей пачку
сахару, Королев -- два метра ситца для близнецов, а Пугачев -- пачку
барнаульской махорки. От своих скромных продовольственных остатков уделяем
ей еще немного муки.
Мы тепло прощаемся с Хутамой, провожаем ее за лагерь, и она исчезает с
глаз в густых зарослях берегового леса.
Через полчаса покинули лагерь и мы с Пугачевым.
-- А вы не пускайте Трофима Васильевича вперед, за ним ведь: не
угнаться. Хорошо бы с пудик голышей ему в котомку подбросить для торможения!
-- шутя говорит кто-то из рабочих.
Пугачев сердито оглядывается, хочет что-то ответить, но довольная
улыбка выдает его.
IV. С Пугачевым на голец. Прощай, Становой! Мы пройдем по Мае!
Последняя переправа. Одинокий крик чайки. Лагерь на берегу Мулама. Маршрут
не отменяется!
Шагается легко, наверное, оттого, что ноги отдохнули и на душе
спокойно. Приятно сознавать, что с тех пор, как мы покинули Ивакский перевал
и не имели связи с подразделениями, в экспедиции ничего тревожного не
произошло, и мы можем сейчас распоряжаться собою так, как этого требует
обстановка.
Я думаю о том, что, вероятно, это мое последнее восхождение на
Становой. С величайшим удовлетворением я еще раз взгляну на первобытные
горы, оставившие так много незабываемых воспоминаний. Затем до осени мы
будем бродить по Алданскому нагорью. Там другое: немая равнина, топкие мари,
бесцветное небо. С удовольствием бы не пошел туда, не расстался с горами, но
работа есть работа.
Идем долго. Свежая тропка с притоптанной травой и раздавленным ягелем,
недавно проложенная геодезистами, ведет нас дикими лощинами. Она то бежит по
стланику, то прижимается к уступам, взбирается наверх к черным туфам.
Когда-нибудь придет сюда строитель. Как обрадуется он, увидев эти горы
чудесного туфа, из которого будут воздвигнуты дворцы культуры, университеты,
города. А пока что огромные, не поддающиеся учету запасы этого невесомого и
прочного материала остаются втуне, как и многие другие богатства, ревниво
оберегаемые суровой природой Станового.
Мы взбираемся на верх скалы и продолжаем путь дальше на восток. За
первым водопадом по дну ущелья пошли террасы -- гигантские ступени, по
которым скачет размашистыми прыжками поток. И снова впереди нас в радужной
испарине водопадов вздымаются голубые видения.
Пугачев верен себе, бежит впереди, забывая, что он не один, а когда
вспомнит об этом, то не останавливается, чтобы дождаться меня, а спешит
навстречу. Он все время в движении.
-- Да присядь ты, отдохни, успокой сердце, -- уже который раз говорю я
ему.
-- А вот за тем поворотом есть утес с хорошим видом, залюбуешься, --
там и отдохнем!
Но за поворотом все та же непролазная чаща, сквозь которую вьется
прорубленная топорами узенькая тропка, а «вид» составляет кусочек неба над
нашими головами.
-- Память подводить стала, -- лукаво оправдывается Пугачев. -- Помню
утес, но он ведь вон за тем носком, недалеко.
-- Нет, хватит! Ты беги туда, а я вот здесь, на валежнике отдохну,
вымотал ты меня, ей-богу, спутывать тебя надо, Трофим Васильевич.
Он виновато смотрит на меня, осторожно присаживается на краешек камня,
прислоняется спиною к стволу лиственницы и на минуту успокаивается.
-- Тебя, кажется, и годы не берут, куда спешишь?
-- Привычка, -- отвечает он спокойно. -- С детства засела во мне
занозой обида, что ростом не удался. Ведь я нарочно подбираю себе в отряд
здоровущих гвардейцев, чтобы доказать им, что я не лыком шитый. Из кожи вон
лезу, хочу сделать лучше их, быстрей, больше. А с котомками пойдем на пик,
боже упаси, если кто обгонит меня -- изведусь! Вот ведь какой во мне черт
живет! Знаю, пора бы остепениться, да что поделаешь с этой проклятой
привычкой, никак руки-ноги унять не могу. Видели плотника Федора, парень с
виду неказист, курносый, молчаливый, как бирюк, но на работе все у "его
горит, удержу не знает. Золотой парень, радоваться бы на него, а нет, сосет
меня зависть, точит втихомолку -- боюсь, обгонит. Одно время так растревожил
меня, хотел уволить, избавиться от него, да совесть не позволила. Вот оно
какие дела!
-- Но ведь так не может продолжаться всю жизнь!
-- Я и то подумываю, что придет время, не за горами оно, когда столкнут
меня с тропы мои же гвардейцы, да еще и притопчут... Тогда уйду из тайги,
брошу к черту работу, вернусь домой, зароюсь, как крот, в свою нору. И конец
Пугачеву: был конь, да изъездился!
-- Надо, Трофим Васильевич, поберечься, нельзя так расточать себя.
-- Да вы же сами, можно сказать, всю жизнь подстрекали меня, а теперь
говорите -- тише на поворотах! Поздно!
-- Но ведь от того, что ты всюду сам, все сам, пользы не так уж много,
других расхолаживаешь...
-- Вот это не верно, -- гневно протестует он. -- У меня без дела никто
не посидит, но примером всем должен быть я... Однако что же мы засиделись!
-- вдруг спохватывается он, как-то сразу взвивается, и ноги привычно несут
его дальше.
Проходим растительную зону. Путь к гольцу открыт. Ноги уже касаются
россыпи, наплывающей на нас с высоты широким потоком. Кажется, нигде так
близко мертвое не прикасается к живому, как именно здесь, на границе
курумов.
Подъем становится все круче. Идем по острой грани откоса. Шире,
просторнее открывается кругозор. Пугачев, конечно, впереди. Я вижу, как он
скачет с выступа на выступ, будто снежный баран, и вероятно сейчас чувствует
себя счастливейшим из людей. И нет другой работы, другого места на земле,
которые бы удовлетворяли его больше, где бы он был нужнее со своим опытом,
сноровкой, чем именно здесь, в диких горах. И я не могу сказать, чтоб он
когда-нибудь расточал понапрасну свою энергию. Нет.
Под макушкой гольца он все же дождался меня, и мы вместе взбираемся
наверх.
Уже показалась пирамида. В лучах солнца здесь, на бешеной высоте, она
выглядит чудом.
Упираясь тяжелыми ногами в края горбатого пика, она, поднявшись,
застыла в гордой позе над покоренной вершиной. Под пирамидой бетонный тур
для установки тяжеловесных геодезических инструментов, а под ним « впаяна в
скалу на веки веков марка. Во всем этом сооружении, еще пахнущем
человеческим потом, нет и намека на тех, чьими колоссальными усилиями
вынесен сюда, на голец, лес, цемент, железо, песок и выстроен на крошечной
площадке пика геодезический пункт.
Узнаю безграничную скромность Пугачева.
А ведь зря! Придут сюда когда-нибудь, а может быть, совсем скоро, люди
и, увидев на скале пирамиду, подивятся работе, но ничего не узнают о ее
творцах. Да и история не сохранит для веков имена героев, первыми
проторивших сюда тропу своими тяжелыми шагами, поставивших на гольце обелиск
советскому мужеству.
Сейчас на вершине гольца еще свежи следы пребывания и работы людей.
Среди щепок, обрезков дерева, комков засохшего бетона валяются изношенный
сапог, лоскуты истлевшей одежды, окровавленные бинты. Вот хотя бы и по этим
жалким остаткам можно примерно судить о цене новой географической карты этих
необжитых районов.
Ведь даже и ныне, в век величайших технических открытий, в том числе и
в области геодезии, авторы карты вынуждены вручную вести многие наземные
работы, сопряженные с большой физической нагрузкой для человека.
Почти час уходит на приемку пункта. Ничего не скажешь -- знак сделан
хорошо. Осматриваю обширный горизонт, залитый солнечным светом. Пугачев
показывает мне вершины, намеченные им для следующих пунктов, километрах в
тридцати на юг и восток. Здесь, на вершине гольца, мы вместе принимаем
окончательное решение о дальнейших работах на Становом.
Можно спускаться вниз. Однако я не могу уйти, не заполнив хотя бы
страничку дневника, не записав своих последних впечатлений об этих горах.
На север от гольца, где мы стоим, простираются безграничные
пространства Алданского нагорья, открытые равнины и плоскогорья, навевающие
уныние даже при знакомстве с ними издали. Нагорье охватывает весь видимый к
северу горизонт, обширное, как море, и, как последнее, беспредельное.
Беспокойное чувство усугубляется еще полнейшим отсутствием на этих равнинах
оседлого населения.
Последний запоминающий взгляд. И вдруг вершины Станового как бы
приподнялись на моих глазах, стали еще более дерзкими. Трудно передать,
какими они все вместе кажутся недоступными! Восемь дней, проведенных мною с
Трофимом на тропах снежных баранов, остаются в воспоминаниях чудесной
страницей.
В лагерь вернулись поздно. Люди еще не спят. Горят костры. Дышит
прохладой звездное небо.
-- Вас ждет у микрофона Хетагуров, -- встретил меня Трофим.
-- Что случилось?
-- У него есть какое-то сообщение.
Я успеваю освежить лицо холодной водою, выпить кружку горячего чая и
забираюсь в палатку Трофима к рации. Там уже Улукиткан, Василий Николаевич и
Пугачев. Остальные разошлись спать.
Трофим дает последнюю настройку. Слышимость хорошая. Голос главного
инженера Хетагурова звучит четко, впечатление такое, будто он сидит рядом за
палаткой.
-- Где находишься, Хамыц, как дела на южном участке? -- спрашиваю я.
-- Хвалиться особенно нечем. Сегодня пришел с Удских марей на устье
Шевли. Был там у топографов, у наблюдателей, дела идут неплохо. С рекою Маей
у нас все еще нелады. А как у вас на Становом?
-- Обследование закончили, все в норме. Завтра уйдем на озеро Токо, к
Сипотенко. Хочу проинспектировать работы на Алданском нагорье, побывать у
наблюдателей, у нивелировщиков. Что у вас за нелады с Маей?
-- Не можем организовать обследования. Надо же было какому-то чудаку
дать бешеной речке такое милое название -- Мая! Никто из проводников не
хочет вести по ней подразделение, все убеждены, что летом по ней не пройти
на оленях, а обходные тропы идут очень далеко от реки. К сожалению, при
проектировании наших работ все это не учитывалось. Надо принимать какое-то
решение, времени остается немного. Майский объект мы должны начать в этом
году, не откладывать же его еще на год.
-- Что ты предлагаешь?
-- Организовать обследование с вершины Маи вниз по течению, говорят,
так будет легче.
-- Кого же туда послать?
-- Конечно, опытного человека, для которого нрав Маи не был бы
неожиданностью. Лебедева или Пугачева.
-- А кто же будет работать на Становом? Тут обстановка похлеще Маи. Не
получится ли так, что хвост вытащишь, а нос завязнет? Маю мы должны
обследовать, это ясно, но как это сделать -- нужно еще подумать. Не наломать
бы дров. О Пугачеве разговора не может быть, у него и здесь дела по горло.
Речь может идти только о Лебедеве. Ты, Хамыц, подожди у микрофона, я вызову
Сипотенко...
-- Я слушаю вас, -- тотчас слышится из эфира голос начальника партии
Сипотенко. -- Лебедев перевалил через Джугджур, вчера был от него нарочный.
-- Сколько еще пунктов остается ему сделать?
-- Пять, работы почти на два месяца. Я протестую против его
откомандирования. Лебедев должен закончить работу здесь, у меня нет
запасного подразделения для его замены.
-- Не торопитесь, Владимир Афанасьевич, с протестом. Мы еще никакого
решения не приняли. Лучше посоветуйте, как сделать, чтобы и ваш объект и
соседний были закончены. Словом, давайте сообща подумаем над этим, а в шесть
утра снова соберемся у микрофонов.
Затем я выслушал информацию главного инженера и начальников партий,
принял сводки и ответил на радиограммы.
Мы с Королевым покидаем палатку последними. Лагерь спит. Груда
затухающих углей прикрылась пеплом. И только седой Утук все буйствует,
шумит, облизывая гладкие утесы.
В пологе кажется душно. От нахлынувших мыслей не могу уснуть,
ворочаюсь. Как заманчива Мая своею недоступностью! Чувствую, как в душу
вползает дьявол соблазна...
Слышу чьи-то шаги. Кто-то пригибается, поднимает борт полога. Это
Трофим. Он усаживается рядом, и мы долго молчим.
-- Ни Пугачева, ни Лебедева снимать отсюда нельзя... -- наконец тихо
произносит он.
-- Говори сразу, зачем пришел, -- не выдерживаю я, усаживаясь на
постели. Молча смотрю на него, а перед глазами Мая, вся в перекатах,
провалах... И как-то сразу, без колебаний и раздумья, приходит решение и
властно овладевает мною.
-- Может, сами попытаемся пройти?
-- Боюсь, не успеем вернуться оттуда, а работы у нас здесь много, --
отвечаю я, не выдавая своего решения.
-- Тогда отпустите меня с кем-нибудь. Я пробьюсь, если не на оленях,
так на плоту!
Чувствую, как он рвется в этот поединок, и радуюсь за него.
-- Нет, Трофим, если уж идти на Маю, то всем.
-- Значит, вы согласны? Я сейчас разбужу Василия, вот обрадуется! -- И
Трофим мгновенно выскакивает из-под полога, а брошенные мною слова:
“Подожди, это еще не решено!” -- он не захотел услышать.
Итак, снова в нашей жизни перелом, крутой, неожиданный.
Все наши вчерашние планы летят в тартарары.
Утром меня будит веселая песня Василия Николаевича. Догадываюсь, откуда
у него такое настроение: уже знает от Трофима, что мы отправляемся
обследовать Маю.
Я лежу и снова пытаюсь прислушаться к внутреннему голосу, проверить еще
раз верность принятого решения.
Прежде всего, конечно, надо посоветоваться с Улукитканом. Он
неодобрительно качает головою.
-- Худой там место: прижим, шивера, кругом скалы, олень совсем пропади.
Зачем тебе речка, можно кругом ходить через большой хребет Чагар, там есть
перевал...
-- Но ведь нам, Улукиткан, непременно нужно осмотреть ущелье.
-- Что тебе, свой голова не жалко? Говорю, худой, совсем худой место.
Там люди и раньше ходить не могу.
-- У людей, может быть, не было в этом надобности, -- пробую я
возражать старику. -- А нас заставляет работа, значит, должны пройти. Только
как лучше пробиться: на оленях, на плоту или на лодке?
-- Глаза человека не видели, что в ущелье летом бывает. Понимаешь?!
Никто не скажет, как туда идти. Ты пойдешь, увидишь, потом нам расскажешь,
-- укоризненно, сердито говорит Улукиткан.
-- А как нам лучше отсюда попасть на Кунь-Манье?
-- Назад ходи надо своим следом, через Ивакский перевал...
-- А если через озеро Токо?
-- Далеко. Там место топкий. Оленю тяжело будет, лучше тут.
После этого разговора я по радио совещаюсь со штабом и с остальными
людьми. Все -- за поездку. Но в план ее вносится одна поправка: сначала я
должен посетить Алданское нагорье, его южный край, хотя бы на очень короткое
время, после чего можно будет полностью заняться обследованием Маи.
Приходим к решению, что Улукиткан с Василием Николаевичем и с Лихановым
уйдут обратно на Зею и дальше на устье Кунь-Манье со всем нашим имуществом и
оленями. Я же с Трофимом и проводником Пугачева отправлюсь к озеру Большое
Токо, в партию Сипотенко и дальше на восток, вдоль барьера Станового до реки
Удюм. Затем через Майский перевал, который обследовали в прошлом году,
спустимся к своим. За время нашего отсутствия Василий Николаевич должен
будет выдолбить лодку. В случае, если мы не пройдем на оленях по Мае,
отправимся втроем по реке на долбленке.
Я сообщаю о своем решении Хетагурову.
-- Очень хорошо! -- обрадованно кричит он в микрофон. -- Когда будете
на устье Маи? Разрешите встретить вас?
-- Наш маршрут по Алданскому нагорью займет не более двадцати дней.
Непременно держи с нами связь. Остальное решим позже. После Маи я, вероятно,
останусь на южном участке, а тебе придется перебазироваться на север. Мы еще
от зимы не отогрелись, а вам, вероятно, тепло надоело.
-- Ни пуха ни пера! До свидания! -- звучит издалека голос Хетагурова.
Пугачев дает команду свертывать лагерь. Все приходит в движение: люди
весело и шумно снимают палатки, упаковывают вещи, вьючат оленей. И судя по
тому, с каким рвением все принялись за дело, можно легко заключить, как люди
ждали этой желанной минуты.
Ко мне подошел Глеб неторопливой косолапой походкой, придающей ему
забавную важность.
-- Ну, а мне куда? -- спросил он.
-- Про тебя-то, Глеб, я и забыл, выпал ты у меня из памяти, вроде как
лишний, никому не нужный.
-- Оставьте меня у Трофима Васильевича.
-- У Пугачева?! -- удивился я. -- У Глухова на рекогносцировке не
ужился, а тут ведь потруднее.
-- Зато денежно, -- перебил он меня обрадованно, точно вдруг сделал для
себя какое-то открытие.
-- Рубль почуял, загорелся?
-- Пусть останется, -- вмешался в разговор длинный Алексей, -- узнает,
почем денежки. В бригаде живо из него сырость выжмут.
-- Слышишь? Предупреждение серьезное.
-- Так уж и выжмут! -- огрызнулся Глеб на Алексея и, повернувшись ко
мне, попросил: -- Пусть Трофим Васильевич зачислит.
-- Пугачев, принимай добровольца! -- крикнул я, а сам так и не
разгадал, что скрывалось за его решением остаться у Пугачева. В этом
подразделении он действительно узнает, почем денежки, а уж фокусничать не
будет.
(Уже зимою, после работы, я увидел Глеба в штабе, он получал зарплату и
был в отличном настроении.
-- Ну как, Глеб, насчет сырости? -- спросил я, искренне обрадованный
встречей.
-- Черти у Пугачева, не ребята! -- ответил он и с восторгом потряс
пачкой денег).
Через час легко нагруженный караван в шестьдесят оленей, управляемый
каюрами, покинул стоянку.
Мы сразу попадаем в тиски залесенного ущелья. Горы все сильнее сжимают
Утук, теснятся над его гремящим потоком. Тропка, прорубленная Пугачевым, то
падает в глубину боковых ложков, то круто взбирается вверх, цепляясь за
малейшие выступы, и часто повисает над рекою.
Олени шагают осторожно, все время прядут ушами в сторону обрывов и
буквально на цыпочках обходят опасные проходы. В узких местах наш караван
разбивается на мелкие связки, по три-четыре оленя.
Продвигаемся все медленнее. Уже не кричат истомленные погонщики, не
лают собаки. Все устают, и короткие передышки не восстанавливают силы. Гнус
буквально осатанел. В тайге летом даже севернее 56 градуса широты бывают дни
необъяснимой, почти тропической духоты, чаще перед грозами.
Но вот откуда-то свалился ветер, он смахнул с оленей гнус, и животные
пошли веселее.
В клину слияния Утука с Иваком с правой стороны скала преграждает нам
путь. Тропа выводит к каменистому берегу. Оборвав свой стремительный бег,
река Утук здесь разливается широким, усталым потоком.
Каюры перед бродом поправляют на оленях вьюки, подтягивают ремни, и
один за другим переводят животных на противоположный берег. За ними
перебираются пешеходы, последними переплывают собаки.
Нас сопровождает дождь.
Вот мы и на левом берегу, в густой лиственничной тайге. Но радоваться
еще рано, через полкилометра предстоит второй брод как раз в том месте, где
грозный Утук сливается с Иваком. Тут все бурлит, словно два заклятых врага
схватились в смертельной схватке. Улукиткан встревоженно поторапливает всех
к броду.
-- Видишь, дождь большой, вода поднимается, олень бродить не могу! --
кричит он мне и направляет караван к излучине.
При первом же взгляде на место переправы нам ясно, что в брод реку
перейти уже невозможно. А резиновой лодкой Пугачева, оставленной здесь для
переброски грузов, воспользовалась Хутама, и теперь лодка находится на
противоположной стороне.
Ничего не попишешь, придется оборвать здесь свой путь, поставить
палатки и ждать утра.
Грозовые тучи правятся на восток, с неба продолжает сыпаться мелкий
дождь. Уже поставлены палатки, кто-то пытается разжечь костер, по лесу
разбрелись голодные олени,
Я стою над обрывом, прислонившись мокрой спиной к корявому стволу
лиственницы, наблюдаю за Утуком.
С крутых берегов стекают потоки мутной дождевой воды. Река уже сменила
свой праздничный бирюзовый наряд на серую рабочую спецовку. Уже задушен
перекат, залиты камни, косы, прибрежные кусты.
...Всю ночь идет дождь. Гул катится по вершинам леса. Где-то недалеко
бушует ручей. Сквозь нависшие тучи медленно сочится сырое утро. Люди давно
проснулись, но никто не встает, все знают -- завтракать нечем. Пока уровень
воды в Утуке не спадет -- невозможно перебраться на правый берег к лабазу за
продуктами, и нам ничего не остается, как терпеливо ждать...
-- Дежурный, почему не разжигаешь костер? -- кричит Пугачев из своего
полога.
-- Буди Федьку, он ведь должен дежурить, -- слышится чей-то сдержанный
голос в соседней палатке.
Федор долго одевается, поправляет брезентовый навес, стучит лениво
топором. Оживает давно затухший костер. Лагерь наполняется людским говором.
Громко зевают собаки. А небо неумолимо крапит тайгу густым мелким дождем.
Пугачев с Трофимом быстро оделись и направились куда-то вверх по реке,
не сказав никому ни слова. Видимо, сговорились и что-то затевают. Я уже
хотел вылезти из полога, но ко мне пришел гость -- Улукиткан. Он долго
устраивается, что-то додумывает.
-- Послушай старика: не ходи Мая, худо там, шибко худо, пропадешь, --
наконец начинает он надтреснутым голосом. -- Люди всегда обходили ее далеко,
никто не знает, какой сатана там живет летом. Не лезь сам в капкан.
-- Дорогой Улукиткан, спасибо за твою заботу, я верю тебе, что поход
будет тяжелым и опасным, но кому-то же надо обследовать эту реку. Надо же
узнать, почему люди боятся ее, какие препятствия там -- без этого нельзя
начинать работу. И уж чем других посылать, а потом болеть за них душою,
лучше самому идти!
-- Говорю, ни тебе, ни другому ходить туда не надо. Помни: орлу без
крыльев не подняться в небо.
-- Но может и так случиться, что пройдем?
-- Случай слепой, как и ты.
-- Я вижу, Улукиткан, ты очень озабочен этим маршрутом. Может быть,
тебе тяжело туда идти, устал, хочешь домой, скажи правду.
-- Да, сердце делается холодным оттого, что ты не слушаешься старика.
Но я пойду, куда пошлешь.
-- Неужели уж так никто летом и не ходил по Мае?
-- Ты думаешь, люди дурной, жить не хочет? Потом сам скажешь, что и я
говорю, если твой язык еще будет работать.
Старик просидел еще с минуту и молча покинул полог.
Знаю, Улукиткан никогда не склонен что-либо преувеличивать, и это
заставляет меня крепко задуматься над тем, как лучше осуществить маршрут. А
о том -- идти туда или нет -- теперь уже не может быть и речи -- решение
принято.
Я выхожу на берег умыться и не узнаю реки: могучий поток мутной воды,
как хищный зверь, крадется по дну глубокого ущелья. Плывет коряжник, мусор;
стучат по дну реки сбитые потоком валуны. Ни перекатов, ни береговой черты,
все приглушено, скрыто, снесено, и только гранитные утесы на поворотах
по-прежнему склоняются над рекою.
Вижу, берегом пробираются Пугачев с Трофимом.
-- Куда это вы ходили по дождю?
-- Смотрели лес. Ждать неохота, когда река передурит. Улукиткан
пророчит надолго дождь. Одному бы проскочить на салике (*Салик -- маленький
плот) к лабазу, а обратно на резиновой лодке продукты привезти.
-- С ума сошли! Куда же вы на плоту в этакую быстрину, снесет черт
знает куда и замоет!
-- А что другое можно придумать? -- говорит Пугачев. -- Резать оленя?
Но так мы совсем без транспорта останемся, если при каждом случае будем
обращаться за помощью к стаду. Конечно, плот снесет далеко, но и нам не
впервые плыть по такой воде.
-- Может быть, не следует рисковать, перетерпим? -- говорю я.
-- Конечно, можно несколько дней поголодать, хотя бы ради профилактики,
а время, его -- не вернешь.
Я чувствую, что уговаривать бесполезно: Пугачев вошел в роль,
загорелся, и теперь уж ничто его не удержит. Вся надежда на его ловкость.
Через несколько часов салик готов. Все обитатели лагеря на берегу.
Пугачев заправляет нательную рубашку в штаны, засучивает их туго выше колен,
становится на плот, упирается босыми ногами в бревна и устремляет
внимательный взгляд на реку.
-- Отталкивай! -- властно приказывает он.
Один ловкий удар шестом, всплеск мутной волны, и мощное течение
подхватывает салик. Пугачев держится спокойно, уверенно, даже не глянул на
провожающих, будто в сотый раз отправляется от этого берега в привычное
плавание. Он выводит свое плоское суденышко на струю, изо всех сил работает
шестом, но своенравная река гонит его к левобережной скале. Все чаще в
воздухе взметывается шест, все напряженней поза человека, пригнувшегося к
салику, все ближе скала...
Мы замираем в немом ожидании.
Я в ужасе закрываю глаза: салик с разбегу липнет к скале. Сквозь гул
потока доносится короткий человеческий вскрик. Мы все бросаемся к повороту.
Бежим долго по густому стланику. Река, сворачивая влево, уносит салик...
На противоположном берегу, среди камней у кромки воды, Пугачев,
торжествуя победу, размахивает руками, прыгает, будто исполняет какой-то
дикарский танец. Очевидно, за второй скалою Пугачев бросил разбитый салик и
вплавь добрался до берега.
Возвращаемся в лагерь, полные восторга и изумления.
-- Да он и без салика переплыл бы! -- горделиво рассказывает кто-то из
гвардейцев. -- Однажды ходил я с ним на рекогносцировку. Полез он на скалу,
место ему надо было осмотреть. И скажи, ведь какой липкий! Отвесная скала,
будто и не за что зацепиться, а ему хоть бы что, пошел и пошел. Уродится же
такой человек.
А дождь льет немилосердно. Пухнет Утук. Я с болью Б душе думаю о
Пугачеве: мерзнет он там один, на противоположном берегу, ради всех нас, а
мы ничем не можем ему помочь. Впрочем, Трофим Васильевич принадлежит к числу
людей, которые глубоко верят в себя, никогда не раскаиваются в своих
поступках и не ищут помощи со стороны.
Через час Пугачев вернулся на резиновой лодке с продуктами, весь
продрогший, злой на непогоду.
Утром все мы перебрались на противоположный берег и отаборились у
лабаза, в двухстах метрах ниже устья Ивака. Улукиткан с нами, а каюры и
олени остались на левом берегу.
Как только мы перевезли свое имущество, дождь перестал. С вершин
спустился туман и стал медленно таять. Река постепенно очистилась от
коряжника, присмирела.
Дружно готовимся к походу. Василий Николаевич получает от Пугачева
продукты, запасную обувь, одежду, тару, словом, все необходимое для
предстоящего нашего похода на Маю. Готовится и Трофим Васильевич в далекий
маршрут на восток, чтобы там, на облюбованной им вершине зубчатого гольца,
воздвигнуть со своими гвардейцами вечный знак. Затем он вернется сюда, к
лабазу, снова запасется продуктами, материалами и уйдет на перевал, к
истокам правого Ивака.
И так все лето, пока из гор осенью не выживет их снег.
Тучи беспорядочными толпами бегут на восток.
-- Однако, хороший погода идет, может, долго простоит, -- говорит
Улукиткан, поглядывая подслеповатыми глазками на мрачное небо.
-- Откуда это видно? -- спросил я его. Он, не взглянув на меня,
поясняет:
-- Хорошо смотри на тучи, это порожняк идет к морю. Обратно вернется
груженый, может, через неделю, а то и больше, -- отвечает он.
Улукиткан умеет предсказывать погоду. Он хорошо знает свой край, знает,
когда и какие воздушные течения приносят сюда дождь или ведро. Мы верим
старику, и тучи, бегущие на восток, действительно кажутся нам порожними.
Пришел конец неустойчивой погоде, и мы сможем беспрепятственно продолжать
свою работу.
На следующее утро наш лагерь не узнать. Палатки сняты, приготовлены
вьюки, пастухи сгоняют оленей. День ясный, обещающий. Вершины Станового
облиты солнечным светом.
Первыми уходят к Ивакскому перевалу Улукиткан с Лихановым и Василием
Николаевичем. Затем стоянку покидает транспорт Пугачева, сам он остается
проводить нас как хозяин. Наконец, покидаем устье Ивака и мы с Трофимом.
Ущелье опустело. Успокоился Утук.
Наш путь идет на север к Алданскому нагорью, куда мы давно стремились
попасть.
С чувством гордости мы покидаем Становой. Все в прошлом. Развеян миф о
его недоступности!
...Там, где сливается Ивак с Утуком, по ущелью раскинулась могучая
тайга, вскормленная прохладой двух рек. По ней на север вьется тропка,
протоптанная геодезистами по звериным следам. Она пугливо обегает скалы и
бурелом, часто теряется. За лесом марь. Вечная мерзлота прикрыта на ней
только толстым слоем бурого мха.
Наш небольшой караван, состоящий из десяти оленей, ведет пожилой
проводник Демидка из Омахты, маленький щупленький человек, прихрамывающий на
правую ногу.
Мы выходим к краю леса, прощаемся с Утуком. Он змеей уползает в узкую
щель, и гранитные утесы скоблят его упругие бока.
Тропа ведет нас вправо, к озеру Малое Токо. Полтора часа бьемся с
топями. Олени и вьюки в грязи, мы мокрые. Проводник охрип от крика и
понукания. С великим трудом добираемся до озера.
Оно поражает нас дикой красотой. Темная сталь воды, вправленная в
резную раму скал, постепенно сужаясь, уходит на восток и там теряется в
прозрачно-сизом тумане. Слева от нас крутой черный откос. Справа с
поднебесной высоты падает Становой, загромоздив обломками скал почти
пятисотметровый спад. Озеро безжизненно: ни всплеска рыбы, ни птицы, только
гладкая синева бездонья.
Караван задерживается. Трофим с Демидкой поправляют вьюки, а я иду
вперед.
Тропа обходит озеро правой стороной по каменистому берегу. Солнце уже
подбирается к зениту. Два огромных облака -- одно в небе, другое в озере --
плывут на север. И вдруг тишину разрывает лай Кучума. Сбрасываю с плеча
карабин, бегу на помощь псу. За поворотом вижу медведя, яростно
отбивающегося от собаки. Почуяв человека, хищник бросается наутек и уводит
за собою Кучума. Все это происходит так быстро, что я даже не успеваю
разрядить карабин.
Иду дальше. Кучума не слышно. В глубине заливчика путь преграждает
густая ольховая чаща. Ищу проход и натыкаюсь на широкую примятую полосу --
кто-то до нас протащил через кусты какую-то тяжесть. Приглядываюсь -- кровь.
Дальше нахожу отпечатки больших лап медведя. Это он тут хозяйничал. Но
почему его следы идут навстречу поваленным кустам? Значит, медведь тащил
свою добычу, пятясь задом. Это в его манере. Тяжести он таскает именно так.
Интересно, что за добыча попалась ему? Судя по потаску, это крупный зверь.
Куда и зачем он его тащил?
Пробираюсь осторожно. А сам на всякий случай держу наготове карабин.
За россыпью вижу странную картину: поодаль от берега все кусты помяты,
вырваны с корнями, с камней содран мох -- и все это сложено большой горкой.
Подхожу ближе. Из кучи на меня жутко смотрит большой глаз крупного
животного. Узнаю сокжоя. Как попал этот осторожный зверь в лапы медведю? Он
мог поймать его разве только сонным, для этого косолапый хищник обладает
достаточной ловкостью. Но могло все это произойти и при других
обстоятельствах: звери, как и человек, тоже болеют, теряют слух, у них
притупляется к старости обоняние, и тогда они легко становятся жертвой
хищника. У меня нет времени разобраться в этой звериной трагедии -- мы
торопимся сегодня добраться до Большого Токо.
Поджидая своих, я разворочал кучу. Какой нужно обладать чертовской
силой, чтобы когтями разорвать крупного сокжоя на части! Разделанную добычу
медведь прикрыл лесным хламом и мхом, содранным с камней вместе с
кустарником. Он не очень-то любит свеженину, предпочитает к “столу” мясо с
душком, вот и сложил его, чтобы “пропарить”.
Закончить работу медведю помешал Кучум. С собакой бы он, конечно,
справился, но появился человек, и ему пришлось быстро убраться.
За озером по бору выходим на последний перевал. Даем отдохнуть оленям.
Видимость хорошая.
Нагорье как-то неожиданно, почти внезапно, сменяет горы. Становой
остается позади, обрывается бесцветной стеною, виснет зубчатыми глыбами над
пропастями -- все это не стертые временем следы великих геологических
катастроф. Трудно представить то далекое время, когда эти горы громоздились
друг над другом и в каменном скрежете, в извержениях кипящей лавы менялось
лицо земли. Так и осталась до последних дней ее поверхность искаженною
творческими муками.
Прощай, Становой! Горы, долго терзавшие наше любопытство и принесшие
много неприятностей, вдруг стали так дороги!.. Мы рады этому чувству и той
грусти, что охватила нас в минуты расставания. Вернемся ли еще когда-нибудь
к тебе? Ощутим ли еще раз твое величие, твое холодное дыхание?
А впереди Алданское нагорье -- плоская земля, словно оспой, изъеденная
болотами да зыбунами, вся в латках, старая, уставшая, не политая слезой, не
топтанная человеком. Живет она без памятников и легенд, пленница стужи.
Сразу за перевалом начинаются исконные земли нагорья. Тропа вьется по
густому стланику, уводит караван влево. Мы теряем из виду горы, с тревогой
погружаемся в эти загадочные заросли, заполонившие, как океан, огромное,
непосильное для взгляда пространство. На пологих увалах везде выступают
камни, бесцветные от старости, источенные веками, наполовину уже погруженные
в могилу. В ложках топи, обманчиво прикрытые чудеснейшим ковровым рисунком
из мха. Но только соблазнись, шагни на этот ковер, и тебя засосет
разжиженная глина, притаившаяся за растительным покровом. Олени боятся
топей, останавливаются, и тогда крик погонщика разрывает дремотный покой
низины.
Солнце, позолотив нижний край туч, нависших над нагорьем, опускается в
неизмеримую глубину. Тайга погружается в спокойное ожидание ночи. Встречный
ветер резок и холоден, как ключевая вода. Где-то близко, за последним
холмом, слышатся гулкие всплески волн и тревожный крик чайки.
Проводник сворачивает с тропы влево, ведет караван на крик. Еще
небольшой спуск вдоль топкого ручья, и мы видим сквозь ветви последней
лиственницы озеро, утонувшее в темной синеве. Это Большое Токо.
Оно как-то сразу открывается нашему взору и в сумерках кажется
необозримой равниной.
Ветер гонит тяжелые волны, окаймляет берег белой пеной, падает на
стланики. Далеко гудит прибой. Чувствуется, что на этом безлюдном озере
ночами властвует буря и теперь приходит ее час.
Крик чайки вырывается из грохота и воя волн. Птица бьется с бурей.
Скашивая то левое, то правое крыло, она бросается в воду, пропадает в
ухабах, взлетает на высокие гребни и, наконец, исчезает в брызгах. Но из
тьмы еще долго несется ее скорбная жалоба. И этот крик, теряющийся в
пустынном пространстве, пронизывает душу болью одиночества.
Тучи поглотили остатки света, нависают над озером чернотой. Озеро гудит
ровно, победно. Влажный ветер клонит к земле густые стланики. Караван
столпился на небольшой прибрежной поляне. Мы с трудом поставили палатку,
сварили ужин и уснули, убаюканные бурей.
К утру погода стихла. Вдали, в светлом пару, тают вершины Станового.
Золотистые линии хребта едва различимы в лучах солнца. Ближе к нам, и дальше
на север, в прохладной свежести утра лежит озеро. Оно еще дремлет, прикрытое
туманом, словно упавшим парусом. Легкий, еле уловимый бриз качает его своим
холодным дыханием. И опять слышится крик одинокой чайки. И кажется, будто
она одна живет в этом холодном крае и с безнадежной тоскою зовет подругу. Ей
никто не отвечает, и крик уплывает в туман.
Мы свернули лагерь, пошли дальше на север. Все вокруг дышит вольной
свежестью озера. Голубизна вонзается в чащу узкими заливчиками, оживляя
своим присутствием окрестности. На озере штиль, и оно лежит перед нами
огромной выпуклой линзой, площадью более ста квадратных километров. Вода в
нем прозрачная. Берег усыпан мелкой, промытой прибоями галькой, притоптан
следами хищников.
Напрасно я искал что-то запоминающееся в пейзаже озера. Здесь нет
тенистых берегов, нависающих утесов, загадочных бухт, и ветер напрасно ищет
паруса. Все тут пустынно и бедно. Обливают ли озеро солнечные лучи, прикрыто
ли оно густым туманом, или завалено отраженными облаками -- во всех этих
уборах оно одинаково скучно, печально.
Уже близко узкий край озера. Но берега не сходятся, образуют щель. Вода
тайком сползает к ней по галечному дну. Тут она настолько прозрачна, что
кажется -- нет ее совсем. Но вот у края слива, наткнувшись на каменную
гряду, вода обнаруживается вся сразу, взлетает над ней тяжелым валом и,
гремя, падает на валуны, дробится, сверкает каскадами снежной пыли» Поток
несется дальше с головокружительной быстротою, оставляя позади забрызганные
пеной берега и клубы пара над грядой. Это Мулам -- большая река, берущая
свое начало из озера.
Мы покидаем Токо, застывшее в полуденном покое. Еще раз склоняем свои
головы перед величественным Становым, хорошо видимым за озерной синевой, --
в знак нашей дружбы, нашего восхищения, и скрываемся за стлаником.
От озера идет торная тропа вдоль Мулама, но не берегом, а по залесенной
возвышенности, в непосредственной близости от реки, прокладывающей себе путь
в глубь Алданского нагорья.
Тайга вдруг обрывается высокой стеной лиственниц. За ней, на обрывистом
берегу седовласого Мулама, показываются палатки -- одинокое становище
геодезистов. Это тут, в глуши лесов, так далеко от населенных мест,
обосновался лагерем начальник партии Владимир Сипотенко.
Нас заметили, и все жители становища высыпали навстречу.
-- Что-то вы не особенно рады нашему появлению? Мы долго не задержимся,
дня два -- и уйдем на Маю, -- говорю я, пожимая руку Владимиру Афанасьевичу.
-- Ну, как не рады! Давно ждем. Без людей тут совсем одичали,
обрадуешься не только человеку, но и черту! А с Маей не спешите. Вас со
вчерашнего дня ищет штаб, все наши радиостанции день и ночь дежурят, --
ответил Владимир Афанасьевич.
-- Зачем это я им так срочно понадобился? По уговору мы должны
появляться в эфире по четным числам, значит -- сегодня.
-- Вызывают вас в штаб.
-- Что случилось?
-- Нам не известно. Штаб, как обычно в таких случаях, не балует нас
подробностями... Что же мы стоим, давайте устраиваться. Эй вы, ребята,
разжигайте костер, тащите из садка тайменя, готовьте ужин.
-- Когда связь?
-- Через полчаса.
-- Вызывайте Плоткина.
Пока развьючивали оленей, ставили палатку, пришло время связи. На душе
неспокойно. Неужели беда?
В палатке горит свеча. В тишине четко отдаются торопливые удары ключа.
У всех на лицах ожидание.
-- Плоткин у микрофона, -- слышится знакомый голос.
-- Здравствуйте, Рафаил Маркович. Мы только что пришли к Сипотенко. Что
у вас случилось?
-- Вчера из Министерства госконтроля прибыли два ревизора, просят вас в
штаб.
-- Ну, это легче. Надо было им приехать на месяц позже, мы бы закончили
обследование Маи, а теперь придется отложить эту работу на неопределенное
время, -- не без досады говорю я.
-- Завтра вышлю за вами самолет, сообщите погоду. Уже ночь. Тайга не
спит, затаилась в своих думах. Долго сидим у костра.
-- А как же теперь с Маей? -- спрашивает Трофим. -- Василий и Улукиткан
будут ждать.
-- Сейчас трудно решить. Пусть все останется так, как задумано. Ты с
Кучумом пока поживешь здесь, а я должен лететь.
Вдруг подумалось: неужели придется кого-то посылать на Маю? И при
мысли, что мы не попадем туда, что кому-то другому достанется счастье
первому проплыть но ней, становится не по себе.
Мы с Владимиром Афанасьевичем на всю ночь забираемся ко мне в полог:
никто не предполагал, что мое посещение продлится всего лишь полсуток. А у
начальника партии накопилось много технических и хозяйственных вопросов,
требующих неотложного решения. Да и мне необходимо просмотреть законченный
полевой материал, уточнить план на будущее. Но решать все вопросы так сразу,
за один присест, невозможно.
...Слабый рассвет уже сочится сквозь ситцевую стену полога. Из
поредевшей тьмы встает знакомая тайга.
-- Пора, Владимир Афанасьевич, кончать, а то, чего доброго, еще
поссоримся. Я увижусь с Хетагуровым, с Плоткиным и по всем неразрешенным
вопросам договорюсь с ними.
-- Когда же это будет? -- сокрушенно спрашивает он.
-- Дня через два.
-- Если не пришлете дополнительно двоих наблюдателей, план не выполним.
-- Попробуйте не выполнить! Вы же знаете, что экспедиция из-за
длительных пожаров не выполняет план наблюдений. Отстает топография, можем
сорвать выпуск карт. Где же мы возьмем вам дополнительные подразделения?
Думаю, всем руководящим работникам придется через месяц, а то и раньше,
вспомнить былое -- встать за инструменты. Так не лучше ли сейчас уже
подумать, как это сделать. И чем раньше вы выбросите из головы мысль о
помощи со стороны, тем лучше для вас!
-- Но ведь не хватает людей!
-- Знаю, но лишних нет и у нас, а дальше их не будет хватать и вовсе.
Более того, я должен предупредить вас, в случае, если мне не придется в
скором времени вернуться сюда, вы перебросите подразделение Лебедева на
обследование Маи.
-- И Лебедева?! -- Его маленькие глаза зло округлились. -- Да его
теперь и днем с огнем не сыскать!
-- Вот я и боюсь, что поссоримся. Считайте, что вы предупреждены о
Лебедеве, и хватит на этот раз. Смотрите, какое утро, как хорошо жить на
земле, стоит ли расстраиваться по пустякам?
-- Хорошие пустяки! С тебя снимают последнюю рубашку, а ты должен
улыбаться и радоваться рассвету.
-- Перепел, слышите? Бьет-то как звонко! -- кричу я обрадованно, хватая
Владимира Афанасьевича за плечи.
Он осторожно высвобождается из моих рук, выбирается из-под полога и,
уходя к себе, бросает сердито:
-- Уж лучше бы и не приезжали!
Утро ясное, прохладное. Под перекатом в улове полощутся сиги. Я
забираюсь в спальный мешок с желанием уснуть. А перепел бьет страстно,
громко:
«Пить пойдем... пить пойдем...»
Нет, не уснуть! Как попал он сюда, так далеко от привычных ему мест?
Случайно или тут, на скупой и холодной земле, его родина? Он тревожит во мне
давно забытые воспоминания о далеком Кавказе, возвращает меня в юность. Вижу
гору Шахан, где когда-то давно клал по лугам острой косою ряды тучных трав,
где утрами будил меня вот такой же звонкий перепелиный бой, где я, конопатый
паренек, бродил с собакой и ружьем по полям и предгорьям. Как далеко я ушел,
и еще не окончен поход!..
Так и уснул я с мечтой о Кавказе, а перепел бил, но все реже и реже...
Сквозь сон я слышал, как радист давал погоду, как прибежали из тайги к
дымокурам олени, как кто-то хвалился пойманным тайменем, но проснуться не
мог.
...Ждем самолет. С собою, кроме карабина, ничего не беру. Надеюсь скоро
вернуться. Кучум настороженно следит за сборами. Он, кажется, догадывается,
что я собираюсь в поход один, и награждает меня недружелюбным взглядом.
За завтраком Сипотенко снова возвращается к ночному разговору.
-- Не отбирайте Лебедева, кто будет доделывать его работу?
-- Кого вы предлагаете послать на Маю?
-- Сам поеду.
-- А наблюдения за вас будет делать медведь?
-- Людей не даете, придется обращаться за помощью к нему.
-- Запомните: все, что связано с наблюдениями, решайте своими силами,
запасные инструменты пришлем.
-- Ну, а если опять поднимутся пожары?
-- Относительно пожаров я должен вам сказать прямо: мы одни здесь во
всей округе и, к сожалению, плохо обращаемся с огнем, вот и расплачиваемся
за это.
-- Не совсем так, -- возражает он.
-- Самолет на подходе! -- кричит радист из палатки.
Машина с гулом надвигается на стоянку, разворачивается, осторожно, с
какой-то опаской, касается гальки.
Мотор глохнет. Распахиваются двери, и на сходнях самолета появляется
Михаил Михайлович Куций.
-- Миша! -- кричу я, стаскивая его с трала. -- Каким ветром тебя
занесло к нам?
-- После расскажу, дай обнять Трофима! А-а... Владимир Афанасьевич,
здравствуй! Прибыл в твое распоряжение, с инструментом для наблюдений.
У того широко распахиваются веки.
-- На наблюдения?! Вот это здорово! . . -
-- Взял отпуск, выбрал инструмент и прикатил. Любо или не любо --
принимай! Отстаете же вы, дьяволы, с планом, ну как тут вытерпеть, не помочь
своим!
-- Ай, какой же ты молодец, Миша! Вижу, семнадцать лет, прожитые вместе
в экспедиции, не пропали даром для тебя, помнишь наши хорошие традиции -- не
бросать товарища в беде.
-- Значит, я остаюсь у Владимира Афанасьевича?
-- Твое право выбирать, тут уж я ни при чем.
-- Выгружай инструменты! -- кричит обрадованный Сипотенко и сам лезет в
самолет.
-- Ты, Владимир Афанасьевич, не слишком радуйся! Ведь у меня отпуск
месяц, на многое не рассчитывай! -- кричит ему вслед Михаил Михайлович.
-- Нет уж, коли приехал помогать, так засучивай рукава! -- говорю я
ему.
-- Боюсь, что ты задержишь меня...
-- И не ошибся. К тому же сам напросился к Владимиру Афанасьевичу. А
известно ли тебе, что отсюда до жилья без малого тысяча километров, и все
тайгою да болотами. Попробуй сбежать! Но мы не будем к тебе жестоки.
Отнаблюдай нам шесть пунктов и с богом! В Новосибирск самолетом доставлю.
-- Ты с ума сошел, честное слово! Шесть пунктов!.. Да ведь это же почти
годовая норма!
-- Вон Владимир Афанасьевич показывает цифру пять. Согласен на пять
пунктов? Чувствуешь, как мы сразу тебе идем на уступки, и это лишь потому,
что у Сипотенко действительно плохо с наблюдениями.
-- Нет, без шуток, я должен вернуться из отпуска в срок. Сам знаешь
строгости начальника предприятия.
-- При чем тут Чудинов, ты -- в нашей власти!
-- Вот и приезжай к вам с добрыми намерениями! Но ведь я знаю, на этом
не кончится. Как только ты улетишь, Владимир Афанасьевич скажет: «У нас не
хватает рабочих, оленей, нет надежного помощника, придется тебе как-нибудь
обходиться».
-- Угадал, честное слово, угадал! -- обрадовался я. -- Значит, все это
не будет для тебя неожиданностью. Я улетаю спокойным за твою судьбу, верю,
ничто тебя здесь не поразит.
-- Братцы, вы одичали! Куда я попал!
-- В ту самую экспедицию, где добрая половина хороших традиций
вырабатывалась при твоем участии.
-- Шутки шутками, а из отпуска я должен вернуться вовремя. Разреши мне
на время, пока ты будешь в штабе, взять в помощники Трофима?
-- Мне бы не хотелось давать ему большую нагрузку, ты сейчас
набросишься на работу, как голодный лез на добычу, а он еще не совсем окреп
после Алгычанского пика. К тому же я его жалеючи затаскал. Ему лучше
остаться здесь, у Владимира Афанасьевича, и отдохнуть. Да он может и не
согласиться.
-- Согласится, мы с ним уже перемигнулись.
-- Дело его.
-- И вот еще что: Плоткин мне говорил о твоих планах относительно Маи.
Если ты не сможешь скоро вернуться сюда, то разреши нам с Трофимом
отправиться в этот маршрут вместе с Улукитканом и Василием?
-- Вот ты о чем! К твоему сведению, Мая очень капризная река, стоит ли
рисковать, Миша, ты за два года, как ушел в аппарат, поотвык от тяжелых
походов. , -- Поеду, и даже с удовольствием.
-- Но это займет у тебя месяца полтора-два?
-- Не страшно, попробую тряхнуть стариной!
-- А как же с отпуском?
-- Договорись с Чудиновым, что-нибудь придумай.
-- Согласен, но на одном условии: если он не разрешит остаться, то в
этом случае ты поедешь на свой риск обследовать Маю.
-- Хорошо, значит, благословляешь.
-- Бедный же ты будешь, вернувшись в предприятие. Представляю твою
встречу с Чудиновым.
Незаметно к нам подходит Кучум, кладет вытянутую голову мне на колени,
смотрит печальными глазами. В них и ласка, и грусть. Неужели он
предчувствует разлуку, догадывается, что я не беру его с собою?
-- Да-да, Кучумка, мы должны расстаться, но потом (непременно будем
вместе, так надо, -- говорю я и обнимаю своего четвероногого друга.
Пес от ласки добреет и уже не отходит от меня.
-- Остается две минуты -- прошу в самолет, -- слышится голос пилота.
Мы прощаемся. Самолет вырулил на дорожку и с торжественным гулом
оторвался от косы. В окно мне было видно, как следом за нами бежал по земле
Кучум в бессильной попытке не отстать от самолета.
...Только спустя месяц я смог вернуться на Токо. Пожары стихли. Погода
установилась хорошая. Теперь можно заняться обследованием Маи. Путь туда
идет по заболоченной Алданской низине.
IV. ЗАСТЕНКИ ДИКОЙ МАИ
I. Прощай, Алданское нагорье! Снова у истоков Маи. Мы расстаемся с
проводниками. Вот они, дикие застенки Маи. Нас не сломили неудачи
Остались позади скучные дни пути вдоль южного края Алданского нагорья.
Места там однообразные: холмы, безлюдье и гнус. Путь шел болотами, по
кочковатой земле, по ржавым мхам, толстым слоем лежавшим на буграх,
выпученных вечной мерзлотой. Двигались без тропы, доверяясь чутью проводника
Демидки. Жили одним желанием -- как можно скорее пройти эту забытую людьми
землю.
И вот перед нами снова горы -- каменные кряжи Станового и Джугджура.
Они как-то внезапно, стеною, поднимаются над Алданским нагорьем. Ветер
бросает в лицо знакомый запах глубоких ущелий, обнаженных недр, снежников.
Как приятно все это после нагорья, где в душном воздухе только запах болот.
Все долгие дни похода по всхолмленной равнине мы с Трофимом ни на
минуту не забывали о предстоящем маршруте по Мае. Наши мысли, наши желания
уже давно там, в диком ущелье. Какая-то дьявольская сила тянет нас туда.
Идем вверх по Удюму. Демидка только по рассказам знает, как попасть с
нагорья на реку Маю. Однако это его не беспокоит. Он ни разу не сбился с
пути, привел нас, как намечали, к стыку Станового с Джугджуром. В его
способностях хорошо ориентироваться в тайге он убедил нас с первого дня
путешествия.
Истоки Удюма глубокими шрамами врезаются в северные склоны гор,
расчленяя их на многочисленные отроги. С нами вместе поднимается к перевалу
лес. Тут он на береговой наносной почве стройнее и гуще, нежели на холмах, и
когда погружаешься в этот зеленый мрак, невольно теряешь представление о
времени и месте.
Караван пробирается сквозь заросли, уводит нас в глубь гор. Мы давно
уже устали. Где-то впереди бежит Кучум. В ущелье меркнет летний день. Пора
бы остановиться на ночевку. Но за лесом неожиданно обнаруживается ерниковая
степушка. Что-то знакомое в контуре отрога, нависающего над ущельем с
запада. Я внимательно осматриваю место.
Узнаю: тут мы были в прошлом году в середине апреля. Степушку тогда
покрывала наледь и кругом лежал снег. А вот на том, чуть заметном гребне,
справа, мы с Василием Николаевичем добыли круторога. Узнаю и ельник слева --
под ним прячется звериная тропа, по которой можно подняться на перевал.
Пересекаем степушку. Сворачиваем влево к ельнику и тут решаемся
заночевать.
Над горами густой вечерний сумрак. В тишине сбивчиво поют колокольчики
да звенит холодный ручей. Дым костра поднимается над лесом, прячет ельник от
загорающихся звезд. Мы долго пьем чай. У каждого свои думы. Трофим грустными
глазами смотрит, как плавятся угли, как беспомощно вспыхивает и гаснет
пламя.
-- Устал, Трофим? -- спрашиваю я, смотря в его простодушное, доброе
лицо.
Он зябко вздрогнул и потянулся руками к огню.
-- Нет, не устал. Нину вспомнил, вот и грустно стало: как она там одна
с Трошкой?
-- Надо было ехать к ней сразу после больницы -- и не было бы грустно.
-- Может, и надо было... -- ответил Трофим не без сожаления.
Он поправил костер, подсел поближе к теплу.
-- У меня предложение есть, -- обрадованно говорю я, -- послать
кого-нибудь за Ниной и Трошкой. Пусть переезжают в Зею. В октябре и мы
заявимся туда, вот и праздник будет.
-- Подождем, разве вот после Маи?
-- Опять -- после! Ты слишком долго ждал, чтобы еще откладывать.
-- Подуправимся, работу закончим, сам съезжу, -- упорствовал Трофим.
-- С тобою, кажется, не договоришься. Утром дам команду Плоткину, пусть
организует ее переезд, -- и я пожалел, что раньше не подумал об этом.
На второй день мы поднялись на перевал. Тут геофизическая граница:
справа к седловине падают тесные отроги Станового, а слева поднимается
Джугджур. Седловина длинная, она делит узкой щелью большие горы на два
хребта, отличающиеся друг от друга только названием. Горы лежат и впереди
"ас, к югу. Но там мы видим не линии хребтов, а хаос вершин, разбросанных по
огромному пространству. Зарождающаяся над перевалом Мая пронизывает их узкой
щелью и по ней уползает к далекой Удской равнине, чтобы сбросить свои воды в
Охотское море.
Я решаюсь подняться на верх отрога и осмотреться. Мне надо увидеть,
хотя бы издали, уже отстроенные на вершинах гор геодезические знаки и их
расположение.
Полдень. Со мною Кучум. Все, что видит глаз, я осматривал зимою, тогда
горы утопали в снегу. Теперь другое: нет бесформенной белизны, гладких
откосов, ледопадов. Хребты возвышаются предо мною в нищенском одеянии,
прикрытые ржавыми лишайниками, обломками гранита да полосками зелени,
просачивающейся сюда со дна провалов.
Горизонт затянут легкой дымкой -- где-то далеко горит тайга. Но мне
удается увидеть "а господствующих вершинах конусы пирамид. Как приятно
сознавать, что люди недаром топтали ногами эту скудную землю. След их труда
уйдет в века.
Мы уже собрались покинуть вершину, как на нашем следу послышался стук
камней. Не медведь ли? Я сбросил с плеч карабин. Вижу, на верх гребня,
словно ветром, выносит черный комочек. Узнаю Бойку. Она мчится по нашему
следу. Где-то близко наши.
Обрадованный, спешу на перевал.
На седловине у маленького дымокура сидит Василий Николаевич. Машу ему
шляпой. Он идет навстречу.
-- Наконец-то! Чего это вы так задержались? -- говорит он, переводя
дыхание.
-- Торопились, а время обогнало нас. Надо было попасть к Сипотенко, но
разыскать его оказалось не так просто в этих пустырях. Что у вас тут нового?
-- Скажу прямо -- дела не важные. Ходил от Кунь-Манье вниз по Мае,
насмотрелся на нее, не река, а черт бешеный.
-- Видно, напугала она тебя, Василий, А идти придется.
-- Только не на оленях. Щель узкая, скалы стоят над рекою тесно с двух
сторон, не пропустят и не обойти их, горы страшенные. Вот разве на лодке
рискнуть!
-- Ты думаешь, проплывем?
-- Кто его знает! Лодку сделал большую, добротную, попробуем.
-- Табор ваш где?
-- Под перевалом, пришли недавно с Кунь-Манье. Там олени корм выбили,
стали далеко уходить, вот мы и решили передвинуться сюда, навстречу вам. С
оленями беда: в тайге появились грибы, как отпустишь их -- ну и прощай,
бегут, как очумелые, один перед другим, ищут грибы... Да что же это мы места
другого не найдем для разговора?! -- спохватился он. -- Пошли. На таборе
ждут нас.
Мы спускаемся на дно долины. Чувствую, ноги уносят меня навсегда от
этих хребтов, от этих мрачных расщелин, от их немого покоя. Что ж, мы
расстаемся друзьями...
По высоким гребням уже золотится мелкий ерник, прихваченный первыми
осенними заморозками. В ветерке, случайно набегающем на нас, уже нет прежней
ласковости, и небо кажется выцветшим, полинялым.
Вижу палатки у слияния двух ключей -- истоков Маи. Улукиткан идет
навстречу с протянутыми руками. Он хлопает загрубевшей ладонью по моей
спине, смотрит ласково в глаза и что-то шепчет на родном языке. Затем я
здороваюсь с Лихановым.
Сегодня мы -- гости. За нами ухаживают, нам подкладывают лучшие куски
баранины. Последнее время мы питаемся только консервами. Ну и вкусным же
показалось нам свежее мясо!
После обеда прощаемся с Демидкой. Он возвращается на Алданское нагорье,
а мы вьючим оленей, спускаемся вниз по Мае к устью Кунь-Манье, к исходной
точке нашего предстоящего путешествия.
Путь проходит по знакомой долине. Тут мы тащили прошлую зиму нарты. И
хотя сейчас нас окружает летний пейзаж, привычный глаз находит знакомые
контуры гребней, утесов, памятные излучины реки. Становой уплывает в
голубеющую даль и постепенно скрывается за ближними отрогами Джугджура.
Только отдельные вершины как будто тайком следят за нами с высоты.
Вот и Кунь-Манье. У края наносника стоит большой лабаз с
продовольствием и запасным снаряжением для полевых подразделений экспедиции,
которым предстоит работать в верховье Маи. На дверках еще висит пломба. Но
за продуктами уже приходили непрошеные гости. Они оставили на столбах следы
когтей и острых клыков. Узнаю медведей. Хорошо, что строители
предусмотрительно ошкурили столбы, на которых стоит лабаз, по ним даже
самому ловкому молодому медведю не взобраться.
Дня еще много. Трофим и Василий Николаевич устраивают баню. Меня мучает
нетерпение. Беру карабин и отправляюсь вниз по Мае: надо ж взглянуть на
реку, прежде чем окончательно определить маршрут.
От устья Кунь-Манье Мая срезает левобережный отрог, и у переката
впервые зарождается ее непримиримый рокот. Я поднимаюсь на утес. Впереди,
куда стремительно несется река, сомкнулись береговые отроги. Долина
выклинилась, и Мая, с гулом врываясь в скальные ворота, прикрытые сторожевым
туманом, как будто уходит в глубину земли.
Я долго прислушиваюсь к этому предупреждающему гулу. Василий прав, с
оленями по ущелью не пройти. На лодке -- так на лодке!
Чувствую, всего меня захватывает профессиональное любопытство. Знаю,
путь будет трудным испытанием и в то же время будет полон заманчивой
неизвестности, необыкновенных приключений, представить которые реально
невозможно, "о можно предвидеть.
В лагере уже готова баня, Василий Николаевич льет на раскаленные камни
воду, палатка от пара раздувается, как жаба. Я забираюсь внутрь, нещадно
хлещу себя горячим стланиковым веником. После длительного пути, утомительных
переходов баня -- большое удовольствие.
Все собрались у костра. Наступила ночь окончательных решений. Улукиткан
мрачен. Он не согласен, он молчит, посматривая на нас не то с упреком, не то
с сожалением.
-- Послушай, Улукиткан, мы должны - непременно обследовать реку, иначе
нельзя начинать здесь работы. Вы пойдете кружным путем на оленях, а мы на
лодке. Ты лучше подумай, где нам встретиться, чтобы можно было выбраться к
населенным пунктам на оленях, в случае, если по Мае не пройдем до устья.
Старик долго думает, о чем-то советуется с Лихановым и опять молчит.
Ночь тихая, мягкая. Тайга до краев захлебнулась тьмою. Утонули во мраке
хребты. И только река, невидимая в темноте, шумит и шумит.
-- Если обязательно так надо -- иди на лодке, -- говорит Улукиткан и
тяжело вздыхает, будто поднялся на крутой перевал. -- Только помни: моему
сердцу будет больно, пока глаза не увидят вас. Мы по тайге кругом будем
ходить, близко к Чагару. Я говорил, такой хребет будет перед Удой. Там есть
большой речка Эдягу-Чайдах, на его устье встретимся.
-- А как мы узнаем, что это Эдягу-Чайдах?
-- По Мае пройдешь -- увидишь посредине речки большой камень -- Совиная
голова -- так его зовут эвенки. Сколько до него проплывешь отсюда -- там еще
столько же до Эдягу-Чайдаха.
-- Откуда ты это знаешь?
-- Зимою, когда лед "а реке, люди тут ходи, говорили мне.
-- А на Эдягу-Чайдахе ты был?
-- Нет, тоже старики говорили. . -- Может, не найдешь? Он покосился на
меня.
-- Если уши хорошо слушали слова стариков, глаза доведут, не обманут.
-- Сколько же вы дней будете идти до устья Эдягу-Чайдаха?
-- Сказать не могу, видишь, время какое пришло, олень одно место не
кормится, бежит по тайге, как сумасшедший, ищет гриб, на дымокур не
приходит. Трудно искать его. Если бы не эта беда, за пять дней дошли бы с
Николаем.
-- Пять дней?! Это очень долго, Улукиткан. Нас, вероятно, пронесет
быстрее до Эдягу-Чайдаха.
-- Подожди, может, не пронесет, -- сказал он просто. -- Ты не знаешь.
-- Хорошо, Улукиткан, не будем считать дни, мы встречаемся на устье
Эдягу-Чайдаха. Если что случится, и нас не дождетесь -- возвращайтесь домой,
-- Все будет, как сказал.
Еще долго костер отбивался от наседающего мрака ночи. Долго не смолкал
говор. Мы трое подтвердили « друг другу, что отправляемся в этот маршрут
совершенно добровольно, что все одинаково несем ответственность за жизнь
каждого из нас. Трофим и Василий Николаевич поклялись повиноваться мне при
любых обстоятельствах, даже если это будет связано с риском для жизни.
Остаток ночи пролетел быстро. Начинался рассвет. Тьма пугливо убегала
за мысы. Шальная Мая скакала по каменистым грядам и ревом будила тишину.
Лодка, на которой мы должны отплыть, сделала искусным мастером --
Василием Николаевичем. Уж он постарался: кокорины вытесал из лиственничных
корней, набоки к бортам прибил добротные, без сучочка. Посудина получилась
емкая, килограммов на семьсот груза, только длина ее не в пропорции с
шириной -- коротковата лодка. Но тут мастер не виноват -- не нашлось доброй
лесины.
Лодка лежит на берегу вверх дном, греет на солнце брюхо. Рядом шесты,
весла, все Строганов, новенькое.
Мы стащили лодку в воду, и Трофим не выдержал, чтобы не показать нам
свое искусство. Реку он любит и шест предпочитает посоху.
Засучив штаны выше колен, Трофим уперся расставленными ногами в дно
лодки и бросил косой взгляд на реку, туда, где плескался перекат. От первого
сильного удара шестом долбленка вздрогнула, словно табунный конь, почуяв
седока, и рванулась вперед. Еще удар шестом, второй, третий... С ревом
наплывает перекат. Волны дробятся о лодку, хватаются за нос, напирают
пенистыми беляками.
Трофим, выгибая спину, бросает шест далеко вперед, давит на него всей
своей тяжестью и гонит долбленку в горло прохода.
Вот лодка взлетела на последний гребень, еще мгновение -- и кормщик,
уходя дальше по гладкому сливу, махнул нам рукой.
-- Хороша долбленочка! Угодил, ей-ей, угодил, Василий! -- говорит он,
возвращаясь.
Загружаем лодку. Дно замащиваем сухими жердями, а поверх расстилаем
брезент. Все, без чего сможем обойтись пять-шесть дней: неприкосновенный
запас продуктов, одежды, личные вещи -- укладываем вниз. Остальное: спальные
мешки, посуду, рацию, немного продуктов, все, что нужно будет каждодневно на
стоянках, уложим сверху утром.
Василий Николаевич с Трофимом вырубили березовый корень, прикрепили к
нему тяжелый камень -- это якорь. Он пригодится: в случае опасности можно
будет задержать бег лодки.
Вечером вызвали штаб. Явились все станции пожелать нам счастливого
пути. Я передал последние распоряжения по экспедиции, попросил Плоткина
организовать дежурство станций. Хотя мы и оставили для своей рации ранее
установленное время работы, но мало ли что могло случиться... Ежедневно с
семи до двадцати четырех часов в эфире нас будут караулить.
Условились и с главным инженером экспедиции Хетагуровым. Он будет
встречать нас на устье Маи дней через семь. Там совместно и решим все
вопросы, связанные с проведением геодезических работ по этой реке.
-- Еще передай одну радиограмму в штаб, и на этом закончим, -- говорю я
Трофиму, кладя перед ним исписанный клочок бумаги.
Он, как обычно, читает текст вслух, но с первого же слова голос его
падает, глохнет, переходит в шепот: “Плоткину. Прошу организовать переезд
Нины с сыном из Ростова в Зею. Предварительно свяжитесь по прямому проводу,
передайте ей, что это желание Трофима и мое. Работой будет обеспечена.
Можете послать за ней человека”.
Трофим долго смотрит на исписанный лист, тщетно пытаясь скрыть от меня
волнение. Потом уверенно кладет руку на ключ передатчика.
На смену закатившемуся солнцу появилась кособокая луна. Серебром
вскипели перекаты. Оконтурились чернотою горбы хребтов.
Позже, в одиннадцать часов, как условились, отозвалась наша станция из
районного поселка Бомнак на Зее. Это последняя попытка получить от местных
жителей какие-либо сведения по нашему маршруту. От Улукиткана мы знаем, что
летом эвенки не посещают Маю. Он объясняет это ее недоступностью для оленей.
А для людей? Нам важно было знать, что скажут другие?
У микрофона оказался районный прокурор, местный эвенк, по фамилии
Романов. Когда я ему сказал, что мы собираемся пройти Маю на оленях, он
удивился:
-- Кто вам посоветовал? Разве в тайге не осталось троп наших отцов? --
спрашивает прокурор. -- Только сумасшедший рискнет идти на оленях, там
прижимы, пропадете!
-- А если на лодке?
-- Да и на лодке никто не плавал. Разобьетесь и не выберетесь.
-- Нами руководит не спортивный интерес, а необходимость, -- сказал я.
-- Если река недоступна для каравана и для лодки, придется изменять проект,
а для этого нужно время и лишние средства. Но представьте себе, что мы
согласимся с ее недоступностью, откажемся от работы на ней без обследований,
а позже выяснится, что по Мае можно пройти. Кто же нам простит такое? Лучше
помогите советом.
-- Мой дед говорил про Маю так: если бросить бревно в реку у Большого
Чайдаха, оно до устья не доплывет, измочалится. Что я могу вам посоветовать
в этом случае? Вернитесь!
Я отблагодарил прокурора за совет, но от маршрута не отказался.
Наоборот, его предупреждение окончательно утвердило во мне решение идти по
Мае. Будь что будет -- мы поплывем!
Скоро рассвет. Пора на покой. Я забираюсь в спальный мешок, лежу в
странном полузабытьи. Пытаюсь представить себе нашу жизнь в этом ущелье, где
мы будем лишены необходимого, где опасность встанет перед нами с первого
шага и не отступится до конца путешествия. Проскочим ли? Улыбнется ли и на
этот раз нам счастье? Мысли меняются, как весенние облака в зависимости от
того, с какой стороны дует ветер. Я могу убедить себя самыми неопровержимыми
доводами, что избранный нами путь полон коварных неожиданностей, НО
чувствую, что отступиться от него не могу.
Нет, и верю в успех!
Я слишком уверен в своих спутниках. Более смелых и стойких не найти.
Без колебаний вручаю им свою судьбу.
В день отплытия, седьмого августа, было свежо. На реке перекликались
кулички. Ко мне подошел Улукиткан.
-- Однако, твой путь обязательно кончится хорошо, -- сказал он
обрадованно и серьезно. -- Теперь сердце мое не болит.
-- Спасибо, Улукиткан, за теплое слово. Как угадал?
-- Сон видел. Будто я дома, уже пришла зима, совсем холодно стало. Люди
с моря передали, что ты шибко больной лежишь, один тайга, никого нет. Как,
думаю, один, больной, надо ходить искать тебя, хороший чум делать. Котомку
взял и пошел на лыжах. Мороз под дошку лезет, остановиться -- оборони бог,
нельзя, схватит. Иду сосняком. Пора бы ночевать. Ищу место, да не сразу
хорошее найдешь. Хожу долго туда-сюда. Вижу, с дерева шишки падают, все в
одно место, в одну кучу. Ну, думаю, совсем хорошо, на всю ночь их хватит и
дров не надо. Поджег шишки, набрал в котелок снега, чай, думаю, надо варить.
Шишки разгорелись хорошо, тепла много. А сам думаю: где искать тебя буду,
как бы уже не пропал, такой холод. Смотрю на костер, что, думаю, такое? Из
огня ты поднимаешься, мучаешься, тебе шибко больно. Я хотел помогать, да не
могу, рукам горячо. Потом шишки сгорели, ты встал, совсем такой, как сейчас,
говоришь: “Здравствуй, Улукиткан! Люди меня похоронили, шишками засыпали,
хорошо, что ты пришел, отогрел, теперь ходить будем вместе...” Сон не
обманет, обязательно увидимся!
Я рад, что беспокойство старика рассеял сон.
Догружаем лодку, накрываем поклажу брезентом и туго увязываем веревками
так, чтобы при любой аварии ничто не могло выпасть в воду. Командует
долбленкой Трофим. На реке мы с Василием в полном его распоряжении.
Погода великолепная: в вышине голубеет обширное небо. В отдалении
синеют хребты, над рекою клубится туман, пронизанный лучами только что
поднявшегося солнца. В природе какая-то необыкновенная свежесть, и от этого
на душе легко.
Наступила минута расставания. Улукиткан вдруг за» беспокоился.
Ласковое, но несколько рассеянное выражение на его лице сменилось
настороженностью, словно только сейчас старик понял, куда мы отправляемся.
Наши руки скрестились. В этот момент, кажется, он не верил в свой сон, и
тяжело было оставлять старика опечаленным за нашу судьбу.
-- Помни, смерть сильная, шутить не надо с ней.
-- Не беспокойся, Улукиткан, еще встретимся.
-- Только не гордись, у красавицы тоже горе бывает.
Старики усаживаются на камни, и оба внимательно следят за нами. Бойка и
Кучум уже заняли свои места. Затем садится кормовщик. Мы с Василием
Николаевичем на носу дозорными -- держим наготове шесты, чтобы вовремя
оттолкнуться или направить лодку в нужном направлении. У ног Трофима на
корме лежит якорь -- наша надежда.
И все же мы не в силах скрыть своей радости.
Лодка оттолкнулась от берега, не спеша развернулась и, подхваченная
течением, понеслась вниз стремительно, легко, как отдохнувший конь по
чистому полю. Старики машут нам шапками, что-то кричат, пока долбленка не
скрывается за поворотом.
Дует встречная низовка. По небу бродят одинокие тучи, навевая грустное
раздумье. Внезапно нарождаются запоздалые мысли: прав ли я, соблазнив на это
рискованное предприятие близких мне людей? Может, задержаться?.. Но поток
гонит послушную долбленку дальше.
Минуем устье Кунь-Манье. Лодка проскальзывает совсем рядом с
потемневшими валунами, не задевая их и не попадая в пасти водяных отбоев.
Шест кормовщика еле успевает касаться каменистого дна -- так стремительно
несет нашу лодку река на своих бурунах. Убегают назад одинокие прибрежные
лиственницы.
Берега неожиданно становятся круче. Лодка с разбегу врезается в волны,
зачерпывает носом воду, и мы вынуждены причалить к берегу. Обнаруживается,
что набои на лодке для такой реки узкие, и нужно, не откладывая, добавить
еще по одной доске... Но поблизости нет ельника. Придется спуститься ниже до
первой таежки.
Над Маей еще просторный шатер неба. Мы не сводим глаз с надвигающихся
на нас оголенных гор, ищем щель, по которой Мая уходит в свое таинственное
ложе. Но у входа в ущелье как нарочно клубится туман. Что прячет он от
пристального взора? Пороги? Склады драгоценных металлов? Сказочные водоемы,
обрамленные цветным гранитом? Посмотрим. А пока что пытаемся убедить себя,
что нам решительно надоели и скучная тайга, и простор нагорья, и оленьи
тропы.
Кормовщик всматривается в туман, прислушивается к реву невидимого
переката, кричит повелительно:
-- К берегу! Надо переждать!
Лодка, развернувшись, с разбегу вспахала носом гальку.
Мы сходим на берег. Из ущелья, словно из недр земли, веет затхлой
сыростью, запахом отмокших лишайников и прелью древних скал.
Плыть по туману опасно. Трофим уходит вперед посмотреть проход.
Возвращается озабоченный.
-- Ревет окаянная!
Он достает из кармана кусок лепешки, лениво жует -- значит, нервничает.
Сквозь туман виден тусклый диск солнца. Уже давно день, а береговая галька
еще влажная с ночи, и на кончиках продолговатых листьев тальника копится
стеклянная влага.
-- Где-то над нами, по крутому косогору, затянутому стланиковой чащею,
кричат, подбадривая оленей, проводники. Еще не поздно окликнуть их,
отказаться от маршрута, но рот онемел. Крик наверху уплывает в за-хребетное
пространство вместе со стариками, с оленями, с последней надеждой. Нас вдруг
охватывает состояние одиночества, знакомое только тем, кому приходилось
долго быть в плену у дикой природы.
Вот когда Мая по-настоящему займется нашим воспитанием!..
Наконец подул ветерок. На фоне далекого неба показалась вершина утеса,
и тотчас с его угловатых плеч, словно мантия, упал туман. Обнажились влажные
уступы, оконтурилась щель. Мы увидели узкое горло реки и дикий танец беляков
по руслу.
-- Пора! -- кричит Трофим.
Лодку подхватывает течение, и она покорно скользит по сливу. А впереди,
в узком проходе, ершатся почерневшие обломки валунов, упавших сверху. Мая
сваливается на них, тащит нас с невероятной быстротою. А мы рады --
наконец-то осуществилась наша мечта и мы надолго схватились с Маей. Пока мы
чувствуем себя здесь сильнее любых обстоятельств. Пока...
За перекатами, в реве взбесившейся реки, на нас вдруг надвинулась
скала, принимающая на себя лобовой удар потока.
-- Береги нос! -- кричит кормовщик и ловким ударом шеста выбрасывает
долбленку на струю, круто поворачивает ее на спуск.
Долбленка вертится в отчаянной пляске среди скользких валунов. Жутко
смотреть, как нас швыряет от камня к камню, как вздымаются буруны и как
лодка воровски проскальзывает, разрезая дымящиеся волны. Мы с Василием
Николаевичем нацеливаем шесты. Еще миг, еще удар, и долбленка чешет бок о
скалу. Но в последний момент ее захлестывает волна. Первыми соскакивают
собаки. Спрыгиваю и я с носовой веревкой. За мною Василий Николаевич. Трофим
покидает корму позже всех.
Хорошо, что за скалой тихая заводь.
Лодку подталкиваем к берегу, как измученного тайменя на кукане.
Спускаем ее на руках с километр, где чернеет ельник. Теперь мы окончательно
убеждены, что без дополнительных набоев плыть нельзя. Трофим остается
разгружать долбленку и сушить вещи, а мы с Василием Николаевичем беремся за
топоры.
В маленькой таежке, прижавшейся узкой полоской к реке, мы нашли высокую
ель. Свалили ее, раскололи пополам и из каждой половины вытесали по доске.
За это время солнце поднялось уже высоко. Насторожились скалы, прислушиваясь
к стуку топоров.
Возвращаемся к долбленке. Берег устлан цветными лоскутами: сушатся
постели, пологи, продукты, личные вещи. За каких-нибудь десять минут, пока
лодка была под водою, весь груз промок.
-- Батареи-то -- отсырели! -- встречает нас Трофим, и слова его звучат
безнадежно.
-- Не может быть?
-- Посмотрите...
-- Но ведь сегодня у нас связь со штабом! -- настаиваю я.
-- Ничего не выйдет, -- заявляет он категорически,
-- Неужели совсем размокли?
Трофим смотрит на меня виноватыми глазами.
-- Хотя бы предупредить, чтобы не ждали нас в эфире, -- продолжаю я. --
Ведь если мы не будем сегодня на связи, не обнаружат нас и завтра, -- черт
знает что подумают!
-- Подождем до вечера, может высохнут, -- и он бережно раскладывает их
на солнце.
Прибиваем набои, складываем груз, и лодка снова несется по водяным
ухабам. Я с завистью смотрю, как Трофим работает шестом. В опасных местах он
правит долбленкой стоя, упираясь сильными ногами в днище, и тогда кажется --
кормовщик и лодка сделаны из цельного материала.
Минуем наносник, за ним крутой поворот влево. И перед нами внезапно
открывается грандиозная картина -- ряды высоченных скал обрамляют ущелье,
нависают над ним бесконечными уступами. Кажется, будто мы спускаемся по
узкому каньону в глубину земли, где под охраной грозных скал спрятаны
образцы пород, из которых сложены все эти горы.
Вот они, дикие застенки Маи, пугающие человека!
Я не могу оторвать взора от левобережных скал -- от берегов до дна реки
все облицовано нежно-розовым мрамором, и кажется, что эту красоту создала не
слепая стихия, а величайший из художников.
Надо бы остановиться: ведь все это неповторимо. Но нас проносит дальше.
Рассеченные холодным острием реки, совершенно отвесные, высятся скалы,
увенчанные фиолетовыми, буро-желтыми и, как небо, голубыми зубцами. Как
близко поднимаются они к небу, как четки их грани! Картину дополняет стая
воронов, вспугнутых нашим появлением. Мы не любим этих черных зловещих птиц!
Лодку выносит за кривун. Мы оглядываемся: жаль, что так быстро
опустился каменный занавес!
За поворотом другая картина. Скалы растаяли, небо расширилось. Горы
справа отступили от берега, и казалось, уставшая река уже спокойнее течет по
каменистому руслу.
-- Теперь можно и погреться на солнышке, пусть несет, -- говорит
Трофим, беспечно откидываясь спиною к корме.
Василий Николаевич достает кисет, не торопясь закуривает.
Тепло. Лодку легонько качает волна.
-- Не шевелитесь, справа звери, -- шепчет Трофим.
Мы замираем. Видим, из чащи на галечный берег вышло стадо сокжоев.
Увидев лодку, они подняли головы с настороженными ушами.
Долбленка проплывает мимо зверей. Их семь: четыре взрослые самки и три
телка. Мы хорошо видим их любопытные морды, их черные, полные удивления
глаза. Они стоят неподвижно, зорко следят за лодкой. И вдруг все разом
бросаются вдоль реки, исчезают в береговой чаще. Но один теленок обрывает
свой бег и, повернувшись к нам, остается стоять, пока мы не пропадаем в
волнах. Какой диковинкой показались мы ему!
Километра два плывем спокойно. Небо легкое, просторное, голубое.
Готовясь к ночи, темнеет береговой лес. Вдруг откуда-то взметнулся ястребок
и замер в чистом воздухе. И кажется смешной наша настороженность, с какой мы
вступили в пределы Маи.
Трофим стряхнул дремоту, засучив повыше штаны, встал, взял в руки шест.
-- Шумит, -- говорит он спокойно, кивая головою вперед. -- Немного
проплывем и ночевать будем.
Мы тоже берем шесты. Из-за высоких елей, откуда надвигается гул,
неожиданно вынырнула скала в древней зубчатой короне. Что-то предупреждающее
было в ее внезапном появлении. Кормовщик насторожился и, вытягивая шею,
заглянул вперед.
-- Опять начинается чертопляска, -- сказал он дрогнувшим голосом.
За скалой утесы, то справа, то слева, все выше, все грознее. Быстрее
побежала река. Мы наготове. Заметалась лодка меж обломков. Напряглась шея
кормовщика. Запрыгал шест гигантскими прыжками...
Как послушна Трофиму долбленка!
Уже близко слив. За ним провал, и дальше ничего не видно.
Сдавленная береговыми валунами в тугую двадцатиметровую струю, река
скользит по крутизне вниз. Из темной речной глубины поднимаются огромные
валы. В необъяснимом смятении они толкаются, хлещут друг друга, мешаются, и
зарождающийся в них ветерок бросает в лицо влажную пыль. Страшная сила!
-- Вправо, ближе к берегу! -- прорывается сквозь рев голос Трофима.
Лодка осторожно, ощупью вышла к сливу, качнулась, как бы поудобнее
устраиваясь на зыбкой волне, и, подхваченная стремниной, нырнула в узкий
проход...
За поворотом на нас снова обрушивается гул потока. Кажется, ревут
камни, берега, утесы.
-- Надо бы притормозить, осмотреться, -- кричит Трофим.
Мы с Василием Николаевичем, упираясь шестами в дно, сбавляем скорость
лодки. Кормовщик поднимается на ноги, заглядывает вперед.
-- Ничего не видно, маленько послабьте, пусть снесет.
А лодку уже не удержать. Нас подхватывает поток, несет на скалу. Смутно
вижу посредине реки черный обломок, делящий поток пополам.
-- Правее, за камень!
Напрягаем силы, разворачиваем лодку. Устрашающая крутизна! Мелькают,
как на экране, полосы зеленого леса, галечные берега. Уже близко камень. Еще
два-три дружных удара шестами, и мы минуем его. Но "а самой струе, в самый
критический момент, когда мы уже были у цели, у Трофима вырывает шест. Нет
времени схватить запасной. Опасность перерастает в катастрофу. В воду летит
якорь. Долбленка, вздрогнув, замирает, придушенная бурунами, но в следующее
мгновение якорная веревка рвется, и разъяренная река несет никем не
управляемую лодку в дань скале.
На нас надвигается гранитная стена. Заслоняет небо. Мысли рассеиваются.
Еще какой-то неуловимый отрезок времени, и долбленка с треском липнет к
скале. Море воды обрушивается на нас. Трещит, лопается днище, набои. Меня
накрывает отбойная волна, подминает под себя и выносит за скалу. Ниже бьются
в поединке с потоком Василий Николаевич, удерживая за веревки разбитое
суденышко.
Не сразу приходим в себя. Собираемся вместе, мокрые, злые,
обескураженные неудачей.
Быстро темнеет. Мы разгружаем лодку, вытаскиваем на берег никому не
нужные обломки. Неодолимая усталость...
-- Нашел, где долбленку испытывать! -- ворчит Василий Николаевич, и его
губы вытягиваются вперед
больше обыкновенного.
-- Так получилось, -- оправдывается Трофим. -- Шест занозил между
камней, не успел выхватить, а якорь разве удержит на такой быстрине.
-- Вот я и говорю: табачок высушим, а лодке хана!
Мы отжали из одежды воду. Натянули палатку. Поужинали. Василий
Николаевич лег спать расстроенный. Стольких трудов стоила ему долбленка! И
теперь она лежит на берегу ненужной развалиной, печально закончив свою
короткую жизнь.
Трофим у костра возится с батареями. Он, кажется, готов влить в них
свою кровь, отогреть их своим дыханием, лишь бы они ожили. Но, увы!
Я видел, как он забрал батареи в охапку, тяжелыми шагами подошел к
высокому берегу реки, побросал их в воду.
-- Может, черти вас воскресят!
Чтобы немного отвлечься, я ухожу от стоянки. Бесцельно шагаю по мокрому
песку. Вспугнутый куличок тревожит покой ночи. Вспомнилось предупреждение
бомнакского прокурора Романова. Как выбираться будем отсюда? Утешенье в том,
что мои спутники не пали духом. Еще не край, -- убеждаю я себя, -- и не так
уж плохо! Мы должны благодарить судьбу, что после катастрофы у нас остался
весь груз, что нас не мочит дождь и мы спим в своих спальных мешках. А
главное -- в нас еще не умерло желание двигаться вперед.
С невидимого неба падает дождь. Я возвращаюсь на стоянку. Мои спутники
спят. Костер безуспешно борется с темнотою.
Обитатели ущелья никогда не видят восхода, не знают закатов. Солнце
сюда заглядывает только в полдень и ненадолго. Здесь царство туманов, сырых
и холодных.
Никогда не исчезнуть из моей памяти этому мрачному утру. Настроение
ужасное. Вернуться? Это слово теперь потеряло для нас свой смысл -- путей
отступления нет. Плыть дальше на плоту? Но разве то, чему мы были
свидетелями, не ставит жирный крест на этот план! И все же плот --
единственный выход.
Мы все разом выбираемся из палатки. Помутневшая река проносится мимо. О
вчерашнем живо напоминают угловатая скала, куски долбленки, вытащенные на
берег. Скупой свет утра сочится сквозь туман. Ветер сильно дует снизу,
крепко несет грибной сыростью и заплесневевшим мхом.
-- Пахнет лесом, где-то близко тайга, -- говорит Василий Николаевич. --
Надо торопиться.
В штабе, встревоженные нашим вчерашним молчанием, стучат ключом, зовут,
ищут нас в эфире. Люди еще будут надеяться, что сегодня мы появимся.
Представляю, что будет завтра! Ведь мы всегда были пунктуальны в отношении
связи, и наше молчание, естественно, вызовет тревогу, породит страшные
догадки. Я хорошо знаю своего заместителя Плоткина, он немедля всех поставит
на ноги, и начнутся поиски. Но у нас нет возможности предупредить, что с
нами ничего страшного не случилось.
Дождь перестал. По ущелью бродит редеющий туман. Трофим с Василием
Николаевичем уходят вниз по реке искать сухостойный лес для плота, а я
остаюсь на стоянке. Надо сушить вещи, но нет погоды.
Как же все-таки дать о себе знать? Это необходимо еще и потому, что
дальнейший путь на плоту более опасен. И может случиться так, что мы без
посторонней помощи не выберемся отсюда.
Дроблю остатки лодки на мелкие куски и на каждом из них делаю надпись:
«Экспедиция седьмого августа потерпела аварию -- разбилась лодка. Рация
вышла из строя. Продолжаем путь на плоту».
Пишу цветным карандашом и надпись заливаю растопленной еловой смолой.
Куски бросаю в реку.
Если начнут нас искать, то непременно снизу по Мае. Так будет легче
обнаружить следы катастрофы. И, конечно, люди, увидев обломки лодки, не
пройдут мимо.
Разведчики застают меня еще за работой.
-- Кажется, не все счастье унесла вода, -- говорит Трофим, присаживаясь
рядом.
-- Что, готовый плот нашли?
-- Еще бы! Тут за мыском, у самого берега, хороший еловый сухостой,
километра полтора отсюда. Давайте поторапливаться.
А в это время на противоположном берегу огромный медведь, белогрудый
стервятник, вышагивает вдоль реки по гальке. Лобастая голова опущена низко,
весь будто захвачен какими-то думами, не смотрит по сторонам, не видит через
реку ни палатки, ни костра, ни людей. Какая самоуверенность в его ленивых
движениях!
И вдруг снизу доносится грохот камней. Мы вскакиваем. Медведь все еще
не замечает нас. Видим, из-за скалы торопятся собаки. Они раньше нас
заметили зверя и успели переплыть реку.
Ну, берегись, косолапый, сейчас они тебе расчешут галифе! А он делает
еще одну глупость -- поднимается на задние лапы, не понимает, откуда взялись
такие смельчаки.
Первым из-за развалин вынырнул Кучум. Беспощадный, злой, несется он
очертя голову на зверя. Тот все еще стоит на задних лапах, но вдруг
бросается в реку. Гора брызг окутала медведя. За ним бросились собаки. Вода
подхватила всех троих и понесла вниз за поворот.
Через час мы в ельнике. Я с Василием Николаевичем остаюсь делать плот,
а Трофим за это время перенесет сюда наш груз.
Мы имеем представление о том, что придется выдержать плоту и каким он
должен быть. Десятиметровые бревна соединяем двойным креплением: кольцами,
сплетенными из тальниковых прутьев, и шпонками. Для большей прочности
прошиваем, где нужно, гвоздями. Два длинных шестиметровых весла, уложенных
на специальных подмостках на носу и на корме, должны будут вести его в
нужном направлении.
Плот получился узким, но длинным -- то, что надо для быстрой реки. На
этом примитивном суденышке наших пращуров мы и отправимся в дальнейший путь.
Сталкиваем плот на воду. С удовольствием бы разбили о носовое бревно
бутылку шампанского, как это положено при спуске на воду порядочного судна,
но увы, шампанского у нас нет, а спирт бережем для более торжественного
случая, если, конечно, доживем до него.
Трофим с Василием Николаевичем стаскивают вещи на плот, накрывают их
брезентом, увязывают. Я сажусь за путевой журнал.
«Мы еще слишком мало проплыли, чтобы сделать общий вывод о предстоящих
работах. Однако уже можно сказать, что проект передачи высотной отметки от
Охотского моря на Алданское нагорье по реке Мае встретит большие
затруднения. Берега Маи неблагоприятны для нивелировки. Всюду по пути
встречаются скалы, обойти которые по горам невозможно. Трасса будет
бесконечно перебрасываться с одного берега на другой, что не всегда позволит
выдержать заданную точность. А прижимы? Их вообще не обойти. Придется,
вероятно, искать для нивелировки новые пути, минуя Маю. Отказаться же от
проведения здесь других работ у нас еще нет оснований -- Мая не так уж
напугала нас, а постигшая нас авария -- это случайность. Посмотрим, что
будет дальше».
II. Путь продолжается. Ночь под охраной бурунов. Откуда ты взялась,
Берта? Вот и Совиная голова. Гуси, гуси!.. Неужели это Эдягу-Чайдах?
После дождя уровень воды в Мае поднялся, но не настолько, чтобы
облегчить наш путь. Наоборот, течение прибавилось и сильнее взбунтовались
перекаты. Но поднимись вода еще на метр, -- тогда бы мы без приключений
добрались до Эдягу-Чайдаха.
Бесшумно, медленно плот выходит на струю, разворачивается и,
покачиваясь, плывет вниз. Здесь уже вечер, на поворотах нас сторожит
зарождающийся туман. А наверху еще день. Ярким светом политы поднебесные
грани скал, убранные зеленой чащей.
Плот набирает скорость, скользит меж острогрудых обломков, проскакивает
скальные ворота.
На корме Трофим. Как только его руки касаются весла, с лица слетает
беспечность. Он становится холодным и безмолвным, как камень. Нет, его не
пугают вздыбленные над нами скалы, не тревожат крутые повороты и бешеный бег
реки, но он весь вмиг перерождается, как только до слуха долетает рев
потока. Его глаза дичают от напряжения, лицо багровеет, весь он уносится
вперед, к опасности. Острой болью засел в душе упрек Василия Николаевича
насчет погибшей лодки, и теперь не дай бог промазать или ошибиться!..
За скальными воротами река теряет свой бег и темной вечерней синевою
расплескивается по дну ущелья. Ни единой морщины на ее холодной поверхности.
Потускневшая гладь воды подчеркивает глубину. А нависающие скалы грозятся
сверху. Они склоняются, высовываются вперед, чтобы проследить за нами.
Всеобъемлющая тишина. Беспомощно повисли весла. И странной кажется под
нами утомленная Мая. Василий Николаевич выжимает штаны и что-то ворчит себе
под нос. Плот несет медленно, почти незаметно. Неожиданно впереди, у края
глади, кто-то сильно шлепнул по воде, подняв столб брызг. Водоем всколыхнуло
большими кругами. Это таймень на вечерней кормежке гоняет рыбу.
-- Здоровущий, сатана, вишь, как бьет! -- И Василий Николаевич
переводит взгляд на меня.
Где же тут удержаться от соблазна, не попытать счастья со спиннингом?
-- Попробуем? -- спрашиваю я.
-- Не плохо бы ушицу сладить. Снасти возим, а не мочим, без рыбы живем
на такой реке! -- бормочет Василий Николаевич, набивая самодельную трубку
табаком.
-- Тогда причаливаем к берегу. Только не надолго -- минут на двадцать,
-- бросает Трофим, явно обеспокоенный задержкой. -- Надо успеть к лесу
добраться, а кто знает, где тут есть он.
Подталкиваем плот шестами к правому берегу. Собак привязываем, чтобы не
убежали. Достаю спиннинг. Наконец-то до него дошла очередь! Пока налаживаю
снасть -- спутники насыпают на край плота горку гальки и на ней разжигают
костер. Уже пристраивают таган, собираясь варить уху. А рыба еще в воде.
Делаю первый заброс. Звук разматываемой катушки приятно ласкает слух.
Сознаюсь, к рыболовному спорту я неравнодушен. А сегодня тем более приятно
порыбачить -- передышка для нервов.
Медленно передвигаюсь по узкой полоске береговой гальки. Катушка поет.
Блесна послушно обшаривает дно водоема. Сквозь прозрачную воду я вижу, как
она соблазнительно вьется, мигая то серебристой спинкой, то ярко-красным
брюшком. И вдруг какая-то тяжесть навалилась на шнур. Не задел ли за корягу?
Подсекаю. Нет, что-то живое рванулось, затрепетало, потянуло. Подсекаю
энергичней. Слышу -- по гальке бегут ко мне Трофим и Василий Николаевич.
Рыба на поводу упрямится, рвется, тянет в глубину. Осторожно, с трудом
подтягиваю ее к отмели... Это ленок.
-- Стоило из-за такой мелочи время терять! -- слышу упрек Трофима.
А я еще надеюсь на успех. Снова и снова бросаю блесну. И вот ясно вижу,
два таймешонка сопровождают блесну, словно адъютанты: один справа, другой
слева, и какая-то длинная тень выползает вслед за ними из темной глубины,
быстро надвинулась к приманке. Таймешат как не бывало. Это тупомордый
таймень. Но блесна уже у берега. Экая досада!
-- Бросайте, темнеет, -- напоминает Трофим.
-- Последний раз! -- отбиваюсь я.
Не торопясь кручу катушку. В прозрачной воде серебрится «байкал». И
вдруг сильно стукнуло сердце: из темной глубины ямы выползает длинная тень.
Таймень! Он виден весь. Важный, морда сытая, как у откормленного борова,
плывет спокойно, словно на поводу. Как легко и привычно он скользит в
прозрачной воде! В рысиных глазах алчность. Но странно: приманка почти у
самого носа тайменя извивается, как живая, блестит чешуей, дразнит, но
хищник челюстей не разжимает.
-- Не голодный, бестия, бросайте!.. -- шепчет Василий Николаевич.
Нет, теперь не уйти мне от заводи. По ловкости и силе таймень -- что
подводный тигр. Велик соблазн обмануть его. И я продолжаю бросать блесну,
стараюсь не слышать уговоров спутников, что надо плыть.
В конце концов благоразумие берет верх. Делаю последний заброс, и тут
только возвращается ко мне рыбацкое счастье. Чувствую решительный рывок и --
шнур запел...
Взнузданный таймень вынырнул на поверхность, угрожающе потряс головой
и, падая набок, взбил столб искристых брызг.
-- Держите, не пускайте в глубину! -- кричит Трофим и торопится ко мне
на помощь.
Таймень ищет спасения в глубине, мечется по заводи, как волк в ловушке.
С трудом сдерживаю эту чертовскую силу, взбудораженную смертельной
опасностью. Но рывки слабеют, тяжесть становится послушнее. Хищник тянется
на поводу, буравит воду нарочито растопыренными плавниками. Вот он уже в
семи метрах от нас, выворачивается белым брюхом, широко раскрывает губастую
пасть. Малюсенькие глаза вдруг обнаруживают нас, и таймень рвется в глубину.
Сильный рывок, треск, и в руках моих остается всего лишь обломок удилища с
оборванным шнуром на катушке. Трофим бросается за уплывающим концом, но
разве догонишь!..
За скалами меркнет день.
До чего же обидно! Бросаю остатки удилища в воду.
Теперь надо торопиться. Мы отталкиваем плот, выводим его на струю.
Леса не видно, только бесцветный камень ершится по берегам, да где-то
впереди перекат бросает в ночь тревожный шум потока. Кормовщик всматривается
в сумрак.
Мы с Василием Николаевичем у переднего весла ждем команды.
Минуем слив. За ним внезапно вырастает гряда валунов.
-- Бейте влево! -- и кормовщик шлепает длинным веслом по налетающим
белякам.
Плот швыряет в сторону. В поисках прохода он скользит по валунам,
ныряет в провалы, заплескивается и, наконец, у самого края переката, садится
на подводный камень.
Мы помогаем течению развернуть плот, шатаем его из стороны в сторону,
пытаемся шестами сдвинуть с места, но не тут то было, как прилип!
Нас быстро накрывает ночь. В густую тьму уплывают грозные утесы. Все
исчезает: и ложбины, и нависающие стены прохода, и пугающая глубина.
Остается только бледная полоска неба над нами, вправленная в курчавую грань
верхних скал, да плот на камне, окруженный сторожевыми беляками.
-- Лучшего места не мог выбрать для ночевки, -- ворчит Василий
Николаевич, пронизывая строгим взглядом Трофима.
-- Можно было выше посадить, на тот большой камень, да промазал, --
отшучивается кормовщик.
-- Ладно, ребята, ничего не случится, если и переночуем на шивере.
Переждем до утра. Места хватит для всех, дрова есть, уху сварим и спать, --
успокоил я спутников.
Плот сидит крепко. Собираем в одну кучу рассыпанную между бревен
гальку, разжигаем на ней небольшой костерок. На воде холодно и очень сыро.
Хочется есть. Мы с Трофимом набрасываем на плечи телогрейки, подсаживаемся к
огоньку и молча наблюдаем, как Василий Николаевич «ладит ушицу».
Ночная тьма окончательно заполняет ущелье. Пламя костра вдруг вспыхнет
на миг, высветит под нами бирюзовую глубину переката, скользнет по черным
горбам волн или заденет краем шальной беляк, набегающий с шумом на плот. И
тогда кажется, будто мы окружены какими-то фантастическими чудовищами.
Василий Николаевич снимает с углей котелок, выкладывает на бересту
куски ленка, подсаливает их. Уху посыпает зеленым луком, добавляет черного
перца, кипятит. Но прежде чем разделить уху по чашкам, отламывает кусок
горячей лепешки, прикладывает его к носу и втягивает в себя хлебный аромат.
-- Ты, Василий, брось разыгрывать нас, тут и без комедии невтерпеж.
Разливай уху! -- говорит Трофим, пожирая глазами повара.
-- Ну и пахнет, братцы! -- не унимается тот. -- Бог даст, вернемся
домой, первый заказ будет Надюшке -- состряпать лепешки. Есть буду
непременно с медом, а еще лучше со сметаной. Вот этак подденешь копну и в
рот, а она там тает, плывет по губам...
-- Так уж и плывет... -- перебивает Трофим, и в его горле хлюпает
тяжелый глоток.
После ужина мои спутники уснули. Я дежурю один у тлеющего огонька,
окруженный дикими волнами. Рядом мирно дремлет Кучум, изредка награждая меня
сочувственным взглядом. Плот дрожит как в лихорадке. Он то вдруг наклонится
и черпнет дырявым краем мокрую темноту, то со старческим стоном снова
повиснет на камне. А то вдруг почудится, будто плот, подхваченный беляками,
летит в бездонную пропасть.
Я не сплю, и не спит маленький костерок, вместе караулим утро. Где-то
высоко слева продырявилось небо, и оттуда нежными струями льется бледный
свет. Уже политы им остроглавые вершины откосов. Он медленно стекает по
уступам вниз, струится по щелям, трепетно замирает на листьях багульника, по
карнизам. Доступнее кажется остывшее небо.
Вижу, из-за курчавых отрогов бочком выплывает луна. Под ее чудесным
светом суровый мир становится сказочным видением. Все преображается, старые
утесы, нагие скалы теряют свой грозный облик, украшают своими строгими
контурами волшебный замок, возникший на моих глазах.
Свет проникает в самую глубину ущелья, пронизывает прозрачную толщу
воды, и на дне реки разжигает костры из разноцветных камней.
Но что это? Волны? Нет, добрые феи. Вот они поднимаются из холодной
глубины переката, обливают упругие груди текучим серебром, плещутся, ныряют,
сплетая косы бурунами. А левее, там, где только что растаял туман, с высокой
стены низвергается двумя струями водопад, залитый густым лунным светом,
будто лежат косы двух сестер, что тайком поднялись на уступ.
Вздрагиваю от холода, и фантастический мир исчезает. Я прислоняюсь
бочком к Кучуму, натягиваю на голову телогрейку, сжимаюсь в комочек -- так
теплее. Засыпает костер. За ним и я медленно погружаюсь в пустоту.
-- Самолет!.. -- слышу сквозь сон крик Трофима. Все вскакиваем. Давно
утро. В вышине за молочной мутью тумана гудят моторы. Это Л-2 летит над
Маей. Теперь ясно -- нас ищут, а мы сидим в западне. И надо же было
собраться такому туману в это утро!
-- Наделали хлопот... Чего доброго, дома узнают, а у Надюшки сердечко
слабое, того и гляди... -- Василий Николаевич обрывает фразу, точно
испугавшись последнего слова.
По туману плыть опасно. Сидим у огонька и пьем чай, скучаем по земле.
Появление самолета здорово подбодрило нас. Я переглядываюсь с Василием
Николаевичем и Трофимом, и мы все улыбаемся. Усталые глаза спутников
светятся мальчишеским задором, точно им действительно тут хорошо на камне:
тепло и уютно. И мне от их ласкового взгляда становится веселее. На миг
смешным кажется уныние. Теперь скоро должно стать лучше: снимемся с шиверы,
причалим к берегу, разведем огромный костер, высушим штаны, рубашки, попьем
чаю с горячими лепешками. А тем временем нас увидят с самолета, догадаются,
что мы потерпели аварию, помогут. Мечты, мечты!..
Через полчаса снова из невидимой высоты доносится гул моторов --
самолет возвращается своим маршрутом. Звук не торопясь уплывает на юг и там
глохнет вместе с нашей надеждой. К нам возвращаются мрачные мысли.
Дотлевают последние головешки. Наступает третий, пожалуй, самый
безрадостный день нашего путешествия. Как будто и немного времени прошло, а
все заметно изменилось. Василий Николаевич грустный, чем-то озабочен. Лицо
вспухло -- недосыпает. Трубка прилипла к губам, теперь она его тайный
советчик в раздумьях. А Трофим разве был когда-нибудь таким грустным? Какое
предчувствие пробралось в его душу? О чем он думает, провожая уставшими
глазами беляки?
-- Может быть, зря я потревожил Нину? -- вырывается у него, и он
смотрит на меня долгим, немигающим взглядом.
-- Почему зто вдруг у тебя такие мысли?
-- Боюсь за нее. Вдруг не выберемся, что она будет делать здесь, на
Дальнем Востоке, одна с Трошкой? И место непривычное, и люди незнакомые.
-- Как это не выберемся -- зря говоришь, -- вмешивается в разговор
Василий Николаевич. -- Не так страшен черт, как его малюют. Снимемся с
камня, и все пройдет. Видно, тут место такое проклятущее. У меня тоже на
душе ржавчина, но терплю.
-- Не о себе беспокоюсь, что всем, то и мне, а вот Нина...
-- Что Нина? Пока будем добираться до устья Маи, она появится в Зее, мы
вызовем ее к себе, пусть походит с нами по тайге, ей это будет интересно, да
и мы в походе скорее сроднимся.
Трофим косит на него вдруг посветлевшие глаза.
-- А Трошку куда денем?
-- Не твоя забота, может и у Надюшки моей оставить.
-- Вот и договорились, -- заканчиваю я.
Трофим рубит на мелкие куски запасной шест, и мы поддерживаем свой
костер. Кажется, именно огня и не хватало, чтобы наши мысли повеселели.
Туман недвижимо лежит на дне холодного ущелья, оседает малюсенькими
капельками на скалах, на обломках, на одежде. Но вот воздух стал словно
легче. Волны звучнее бьются о камни. Подул ветер, и, будто вспугнутая им,
пара гоголей налетела на нас из серой мглы. Туман закачался, пополз,
раздвигая нагие утесы. Пора и нам сползать с этого проклятого обломка!
За ночь уровень воды в Мае упал сантиметров на десять. Плот лежал
брюхом на плоском валуне, и снять его при помощи шестов нам не удалось.
Пришлось мне и Василию Николаевичу лезть в воду. Какая же это неприятная
процедура! Вода в Мае никогда не прогревается солнцем и даже в конце лета
буквально ледяная. Вот и попробуй, окунись, да еще при таком бешеном
течении.
Мы приподняли один край, плот скрипя, неохотно сполз с камня и,
подхваченный течением, вместе с нами понесся от шиверы.
Снова сказочная глушь обнимает нас со всех сторон. В быстром беге
оставляем позади гранитные утесы, кривуны, таежки. За каждым поворотом новый
пейзаж, новый ансамбль скал. Мы постепенно свыкаемся с рекою, с тем, как
бесцеремонно она обращается с плотом, и нас уже не так пугает ее злобный
нрав. Мы даже испытываем некоторое удовольствие, когда проносимся по шивере,
захваченные бурунами.
Мая выпрямляет сутулую спину, усмиряя бег, течет спокойно по гладкому
руслу. Веслам передышка. Василий Николаевич чистит трубку, заряжает свежим
табачком. Трофим, склонившись на весло, безучастно смотрит в небо, затянутое
серыми облаками. День холодный, неприветливый.
Я не налюбуюсь сказочной дикостью ущелья. Нежнейший желтый мрамор с
темными прожилками нависает зубчатым бордюром над тенистыми провалами, вдоль
которых стекают в подземелье живительные лучи солнца. Скалы необозримы,
недоступны. В их хаотическом беспорядке есть какая-то стройность. И каждая в
отдельности кажется величайшим творением природы, Но для кого все это в
глубине земли?
В этот день в дневнике я записал:
«Мы во власти Маи, и я легко отдаюсь думам, навеянным холодным ущельем
и стремительным бегом воды. Тут я сильнее, нежели в других местах, ощущаю
вечность скал, реки, неба. А что твоя жизнь, смертный человек? Мгновенье!
Тогда зачем ты здесь, в лишениях и риске, расточаешь краткие сроки земного
пребывания? О, нет! Пусть будет меньше прожито, пусть твои годы пройдут
вдали от цивилизованного мира, но в буре, в стремлении покорить себе реки,
горы, небеса...
Нас несет дикая река. Мы как заклятые враги. Она на каждом повороте
напоминает нам, что смертны мы, а она вечна. Да, мы умрем, а река уйдет в
века, но власть над нею, над скалами и небом будет наша и наших правнуков.
Ты, человек, сильнее самого бессмертия!
Во имя этого мы здесь и не жалеем, что рискуем жизнью».
Ширина реки метров полтораста. Плот идет левой стороною. Я вижу, на
правом берегу что-то серое вынырнуло из чащи и, не замечая нас, направляется
вверх.
-- Волк! -- срывается у меня, и я хватаюсь за карабин.
-- Не торопитесь, -- предупреждает Василий Николаевич.
Я кладу на груз ружье. Припадаю к ложу. Всполошившихся собак унимает
Трофим. Волк ленивой рысцой продвигается вперед, все еще не видит нас. Плот
сильно качает. С трудом подвожу мушку под хищника, и звонкий выстрел
потрясает ущелье.
Пуля взрывает под волком гальку и точно подбрасывает его высоко. Но в
следующую секунду хищник поворачивается к нам. Я тороплюсь подать в ствол
второй патрон. Вижу, волк бросается в воду, гребет лапами, явно пытается
догнать нас.
-- Не бешеный ли, сам просится на пулю, -- говорит Трофим.
Пока волк проплывает край тиховодины, нас подхватывает течением, несет
быстрее. Но зверь еще пытается догнать нас. Я не стреляю. Ждем, что будет
дальше.
-- Да ведь это собака! -- кричит Василий Николаевич.
-- Верно, собака, видите, уши сломлены, -- замечает Трофим. -- Неужели
близко люди?
-- Ты думаешь, на свете еще есть такие чудаки, как мы! -- не без иронии
говорит Василий Николаевич.
Мы хватаемся за шесты, тормозим плот. Видим, животное напрягает
последние силы, захлебывается в волнах, и из его рта все чаще вырывается
стон. В нем и жалоба, и тревога, и боязнь потерять нас. Да, это собака. Она
уже близко, ее подносит к плоту, вот она поднимает лапы, карабкается на
бревно, но нет сил удержаться, падает в воду, снова карабкается.
-- Берта! -- кричу я, узнав собаку.
Она, кажется, догадывается, что попала к своим, обнюхивает меня, узнает
собак и вдруг дико воет, подняв к небу разъеденную мошкой морду. Эхо в
скалах повторяет вой, отбрасывает назад к нам скорбным стоном.
Берта принялась лизать собак, нашу одежду и, наконец, свалилась. Вид
собаки плачевный-плачевный, видимо, она немало пережила: худущая -- кости
под полуоблезшей шкурой. Хвост по-волчьи повис обрубком, уши сломились.
-- Берточка, милая собака, да как же ты сюда попала? -- спрашивает
растроганно Трофим, ощупывая руками живой скелет. -- Да у тебя даже нет сил
стряхнуть с шерсти воду!
-- Где же ты была, куда шла, зачем? -- спрашиваю я.
Берта смотрит мне в глаза долгим взглядом и продолжает тихо стонать.
Жаль, что собака <не умеет говорить! Как много она рассказала бы нам из
того, что пережила, потеряв в этих пустырях хозяина. Может быть, весною она
тяжело заболела и была оставлена Лебедевым на стоянке? Или увязалась за
зверем, далеко ушла и на обратном пути потеряла свой след, заблудилась? Нам
этого не узнать, пока не встретимся с Лебедевым. Одно ясно -- Берта
убедилась, что без человека ей не прожить в тайге даже летом, это заставило
ее догонять плот с людьми.
За шиверой тиховодина. Судно лениво покачивается на текучей зыби.
-- Смотрите, бамбук! -- и кормовщик показал на заводь.
Действительно, в воде я увидел торчащий конец удилища от спиннинга,
сломанного тайменем. Он удерживался на одном месте, словно за что-то
зацепился. И вдруг быстро поплыл против течения, близко огибая плот. Мне
удалось схватиться за бамбук, и тотчас я почувствовал сильный рывок.
-- Держи! -- бросился мне на помощь Трофим.
Таймень ожесточенно сопротивляется. Выпрыгивает из воды, трясет головою
в воздухе, бросается в стороны. А плот уходит вниз по течению, уводя за
собою на поводу рыбу. Мы не торопимся, знаем, что теперь время играет на
нас. Реже и реже становятся всплески, слабеет шнур. Рукам все легче, И вот
таймень лежит на плоту, толстый, длинный, облитый серебром, с позолоченными
плавниками, привязанный крепким куканом к бревну. И тут он не хочет
сдаваться без боя, молотит хвостом по мокрым бревнам, гнет дугою хребет,
угрожающе хватает воздух страшной пастью.
Справа светлеет. Скалы делаются ниже. С вершины к руслу сбегает лес.
Боковая долина, раздвинув горы, уходит далеко на запад. Нас несет
присмиревшая река. Настроение хорошее. Жаль, что небо затянуто тучами и мы
лишены солнца. Да ветер озлобился, хлещет в лицо.
-- Не Совиная ли это голова? -- кричит Трофим, показывая рукою вперед.
За кривуном широкая лента реки, убегающая на юг. На ее зеркальной
поверхности, почти на средине, мы увидели округлую скалу -- останец,
обточенную со всех сторон водою. Это несомненно Совиная голова, про которую
говорил Улукиткан. Значит, со счета долой добрую половину пути до
Эдягу-Чайдаха!
Причаливаем к берегу. Выходим "а гальку. На земле куда надежнее, нежели
на плоту. Мы свободны в своих движениях, в своих желаниях. А сколько радости
принесла эта остановка собакам! Им тоне надоело безделье. Ишь, как они
носятся по гальке, падают, прыгают, пробуют свои голоса! Только Берта не
сошла на берег. Грустными глазами она наблюдает за Бойкой и Кучумом.
Трофим с Василием Николаевичем хлопочут у костра -- готовят обед. Мне
не терпится узнать, что это за прорыв в горах справа, что за река протекает
по дну боковой широкой долины.
Звериная тропа, проложенная сокжоями по мягкому темно-зеленому мху,
обильно крапленному бархатным ягелем, приводит «а пригорок. Отсюда виден
далекий горизонт, обставленный рядами плоских отрогов. Что-то знакомое
чудится мне и в прямолинейном контуре долины, и в еловых лоскутах,
прикрывающих реку, и в очертаниях гор,
-- Да ведь это Большой Чайдах! -- вырывается у меня радостный крик.
Там, в глубине долины, затянутой синевой старой гари, прошлой весною
ослеп Улукиткан. Оттуда слепой проводник вел меня к своим, на устье
Джегормы... Нет, этого нельзя забыть! Оно живет со мною неразлучно, как
родимое пятно на теле, свежо, как сегодняшний день, и остро, как боль
растревоженной раны. Вот тогда в большом несчастье я познал этого старого
эвенка, человека чудесной души, несгибаемой воли...
Я продолжаю стоять на пригорке, поглощенный нагрянувшими думами. Перед
глазами поплыли вереницей картины тех печальных дней борьбы за жизнь.
Вспомнился умирающий старик под корягой у Купуринского переката, кусок
лепешки, тайком подложенный Улукитканом в мою сумку. Я увидел себя, свое
лицо, отображенное в озерце, из которого пил воду раненый медведь... Разве
мог я тогда подумать, что Улукиткан останется жив, ему вернут зрение и он
еще много лет будет водить меня по тайге. Смерть -- и та умеет уважать
сильных духом!
Когда я вернулся, обед уже был готов. Надо отдать должное Василию
Николаевичу: ушицу он сладил на славу. Не пожалел специй.
-- С чего это ты, Василий, сегодня расщедрился? Давно так не перчил
уху, -- говорит Трофим, подставляя миску для добавки.
-- Ешьте, не жалко.
-- Идея какая зародилась? -- осторожно спрашивает Трофим.
-- Не то, чтобы идея, а так, подумалось: ведь жадничаю, а пропадет тут
-- никому не достанется. Для себя брали, сами и кончать будем.
-- И со спиртом так же?
Василий Николаевич хитро щурит глаза.
-- Может, еще ушицы добавить?
-- Ты не лукавь. Для чего спирт бережешь? На поминки, что ли?! -- не
отступает Трофим.
-- Есть маленько, так уж и до него хотите добраться. Не дам! -- вдруг
ощетинился повар. Он неожиданно подает на “стол” отваренную тайменью голову.
Ну до чего же вкусно она пахнет! Тут уж не до спирта. Все торопимся
захватить получше кусочек, смачно жуем. Наш начпрод доволен, что маневр
удался, успокаивается.
Солнце так и не показалось. Тучи низко ползут с юга, и оттуда, словно
дыхание разгневанного неба, дует холодный ветер, гонит навстречу нам волны.
Прощаемся с Совиной головою.
Через три километра проплываем устье Большого Чайдаха и густую таежку,
выбежавшую из боковой долины проводить Чайдах в далекий путь. Пополневшая
Мая набирает силу. Мелкие перекаты, воскресающие только в малую воду, молча
пропускают нас мимо. Уходит вправо просторное небо. Ближе к руслу жмутся
отроги. Появляются утесы -- безмолвные сторожа у врат таинственных
застенков. Река мечется из стороны в сторону, бросается на каменные стены,
взрывает глубины перекатов. А скалы все выше поднимаются над ней, нависают
уступами, стискивают русло. Знакомая картина.
Все хорошее порождается в нас стремлением вперед. Жалкими были бы мы
тут, утратив этот путеводный огонек. Благодаря ему мы еще плывем и, черт
побери, еще надеемся добраться до устья.
Дождь обманул наши надежды, ушел стороною к Джугджуру. А как он нужен
нам!
Исчезающее солнце бросает на грани угловатых вершин свой прощальный
луч. Закат всегда навевает на человека грусть, а здесь, среди скал на дикой
реке, он гнетет душу неодолимой тоской. Так бы вот, кажется, и вспорхнул, и
взлетел бы выше скал, в самую синеву, чтобы не дышать этим заплесневелым
воздухом, не слышать рева реки. В эти минуты, наблюдая из глубины щели
далекий отблеск заката, почему-то думаешь, что никогда уже не вернется на
землю день и что ночь будет вечно властвовать над нами.
Вдруг из-под камней срывается табунок крохалей. Они стелются низко над
водою, летят дальше и на своих звонких крыльях уносят прочь уныние,
навеянное невидимым закатом.
За поворотом нашему взору открылось необычное зрелище: справа над рекою
поднимается уступами грандиозная скала в несколько сот метров высотою,
причудливой формы. Она сложена из белого мрамора и облицована бурым поливом.
Незажившими ранами выглядят на ней следы недавних разрушений. Не
надгробье ли это, не под ним ли земля сохранила свои драгоценности?» --
думал я, любуясь чудом природы.
Огромные глыбы, сваливаясь с высоты, сбивали на пути другие и оседали у
подножья, словно белый хлопок. Обломки белого мрамора перепружают Маю,
украшая узорчатой белизною ее дно.
Плот проносит. На дне реки тускнеет белизна. Мы причаливаем к левому
берегу. Наконец-то закончился сегодняшний путь. Хочется скорее сойти на
землю, она самая желанная. Знакомо шумит еловая тайга, темным лоскутом
прижавшаяся к берегу, хрустит галька под ногами, и далеко за сливом ревут
буруны. Разве это не настоящая радость?.. Жизнь все-таки прекрасна!
Василий Николаевич устраивает ночевку, а мы с Трофимом стучим топорами.
Надо вырубить сухую ель для запасного весла, шеста, березовые комельки для
ронжи. Мы ни на минуту не забываем, что пока река милостива к нам, надо
держать свое суденышко в исправности.
В ущелье давно ночь, но над вершинами гор, над безбрежной тайгой,
отгороженной от нас каменными стенами, закат расточает краски. Позже
поднялась луна. Видим, над самым высоким уступом в прозрачную полосу воздуха
что-то врезалось живое и четко выкроилось на белом мраморном пятне. Узнаю
силуэт барана-рогача. Настороженно смотрит он в ночь, медленно поворачивает
голову. Вот он шагнул вперед. Опять застыл на фоне мрамора, как литое
изваяние.
Откуда-то словно нарочно появляется тучка и прикрывает луну. Картина
мгновенно мрачнеет. Стираются грани стен, теряется глубина, чернеет вода,
таежка, и в сумрачной высоте растворяется баран. Не дождался, ушел. Нет, не
ушел, навсегда остался в моей памяти, впаянный в мраморную белизну.
Рано утром плот был готов пуститься в путь, но реку перекрыл туман.
Вероятно, туман -- явление постоянное для Маи, во всяком случае он нас
сопровождает по утрам, отнимает дорогое время. А что делается там, за его
пределами, над Большой землею? Взошло ли солнце или нависли дождевые тучи?
Василий Николаевич второй раз навешивает чайник. Уже давно день. Но
туман и не думает редеть.
И вдруг к нам сквозь серую завесу прорывается гул мотора. Он доносится
издалека, усиливается, наплывает, проходит над нами.
-- Чертов туман! Опять не заметили. Теперь могут и поминки справлять,
-- в сердцах говорит Трофим.
День обещает быть солнечным. Решаемся задержаться, может, вернется
самолет. А я воспользуюсь дневкой, выйду на хребет, чтобы взглянуть на
местность, -- это входит в наш план обследования и позволит решить главные
вопросы: как далеко будут удалены пункты от реки, какие надо будет строить
знаки и позволит ли расположение главных вершин создать хорошую конфигурацию
ряда.
Со мною Василий Николаевич, Бойка и Кучум. Трофим остается сторожить
самолет.
Идем прямиком к отрогам сквозь густую высокоствольную тайгу. Лес полон
жизни. Всюду шныряют бурундуки с набитыми защечными мешками -- у них пора
заготовок. Мы не обращаем внимания на выводки рябчиков, со, звонким треском
поднимающихся перед нами. Нас не тревожат белки, смело прыгающие по пням и
веткам, цокающие над нашими головами. Даже свежие следы крупных зверей
остаются без внимания.
Появляются широкие просветы. Лес редеет, и мы выходим к отрогу. Тут и
граница тайги. Деревья замирают стеною у самого подножья. Но не все.
Некоторые лиственницы прорвались вперед, поднялись по склону и там, будто
сраженные грозою, прижались к земле, да так скрюченными и окаменели.
За скалой узкий вход в боковое ущелье. Сворачиваем в него и сразу
попадаем на звериную тропу.
-- Это сокжои вытоптали. Вот обрадуются нашему появлению! -- и Василий
Николаевич прибавляет шаг.
Мы заранее уговорились не стрелять зверей. Идем свободно, не напрягая
зрения и слуха, но ноги по привычке ступают мягко, бесшумно. Справа, слева,
впереди крутые отроги, увенчанные развалинами старых скал. Тропа плавно
набирает высоту. От Маи прорывается ветер.
-- Этот даст знать о нас! -- замечает Василий Николаевич.
Тотчас же слева донесся грохот камней. Из лощины вывернулась черная
глыба и замерла, подняв высоко рогастую голову. Сохатый ошеломлен
неожиданностью нашего появления. Зверя охватывает панический страх. Он
легким прыжком отбрасывает тяжелый корпус в сторону и, откинув на спину
лопастые рога, кидается к отрогу. Мы долго смотрим, как в быстром беге
плавно качается над зеленью стлаников его черная спина. Так он, не
задерживаясь, ни разу не оглянувшись, поднялся на каменистый гребень,
пробежал по нему вверх и скрылся за изломом.
Тропа все чаще расклинивается, мельчает, местами теряется. Склон, по
которому идем, сплошь покрыт ягелем, точно волнистым каракулем нежно-желтого
цвета. Какое это чудесное убранство! Тем более, когда по этому бледному фону
поднимаются ярко-зеленые купы молодых лиственниц. Всюду видны следы недавней
кормежки сокжоев. И как-то невольно весь напрягаешься в ожидании, знаешь --
где-то тут отдыхают звери.
А вот и они: выкатываются из лощины, гремят по камням и замирают все
разом, прикрыв россыпь плотным серым войлоком. Огромное стадо. Тут самки,
молодняк, и среди них один старый самец.
Не угадав опасности, стадо растекается по склону, начинает пастись, но
самец настороже, стоит на пригорке с приподнятой головою. Вдруг снизу, над
землею, шевеля нежные макушки ягеля, пронесся ветерок, и сокжои все разом, в
одно мгновение, точно опавшие листья, подхваченные ураганом, срываются с
места, несутся беспорядочными толпами вверх.
Взбираемся дальше по отрогу. Минуем границу стлаников. Впереди серые
безмолвные россыпи, обрызганные редкими цветами, невесомыми, бледными, без
запаха, неспособными к размножению. Выше они мельчают и исчезают. Их сменяют
лишайники. Но и эти нетребовательные представители растительного мира не
выдерживают высоты, скоро тоже исчезают.
Под ногами баранья тропа. Она, как исполинская змея, ползет между
камней, извивается у развалин, уводит нас в высоту. Ветер здесь чист и
прохладен, как ключевая вода в знойный день. Я оглядываюсь. Даже с этой
высоты не просматривается ущелье Маи -- так глубоко река пропилила горы.
Вот и "вершина, окруженная пепельно-серыми отрогами и синеющими вдали
хребтами. Все, что доступно глазу, -- незыблемо, мертво. Эти горы уже не
воскресить солнцу, не пробудить пурге, и когда небо, будто разгневанное их
вечным молчанием, потрясает грозою землю, тут даже эхо не откликается.
На запад хорошо виден Джугджур, чуть сгорбленный, точно уснувшее после
сытой трапезы чудовище. Некоторые из его пологих вершин можно будет
использовать под геодезические знаки. На восток -- все загромождено высокими
гребнями. С них-то наверняка откроется далекий горизонт, то, что нужно
геодезистам.
Я доволен. Рельеф местности нас удовлетворяет. Теперь дело за Маей. Она
должна стать главной магистралью, по которой будет осуществляться заброска
грузов для подразделений. То, что осталось позади, -- нас устраивает, на
крайний случай. Посмотрим, что впереди?
Отдыхая, мы с Василием долго лежим на вершине. Оба молчим. Дуновение
ветерка кажется лаской. Я закрываю глаза, чувствую себя счастливым --
недалеко то время, когда, пробудившись, эти дикие горы будут смутно
вспоминать былой покой, отнятый у них человеком. И в песнях, что сложат про
эти горы первые переселенцы, уже не будет страха перед их недоступностью.
Приятно сознавать, что в пробуждении окаменевших хребтов и твоя, хотя и
микроскопическая, доля «вины».
Крик беркута поднимает нас.
Достаю буссоль, измеряю азимуты, делаю зарисовки и мысленно
представляю, как расположатся на хребтах пункты.
С запада к морю прорвались грозовые тучи. Мы спешим вниз. Ветер дует в
лицо, забирается в рукава, холодит тело. Я думаю: зря торопимся, придется ли
еще побывать в горах, увидеть дали, подышать свежим воздухом?
Вечер быстро накрывает ущелье. Нас опережает большой гурт белых
куропаток. За ними молча летят разрозненные стайки кедровок. Бурундуки
торопятся укрыться в своих убежищах. Ветер полощет стланики, воет диким
зверем в вышине. Мы заражаемся общей суматохой, тоже спешим, и уже на тропе
нас накрывает дождь. Он льет потоком, точно из прорехи в тучах. Мы мокрые,
под ногами скользкая подстилка, бежать опасно, а до леса еще добрых полчаса
хода.
Ну и пусть мочит, пусть холод пронизывает до костей, пусть ее будет
костра, все же это лучше проклятого подземелья! Мы неохотно покидаем
чудесный уголок гор, где вольно пасутся табуны диких зверей, не знающих
выстрелов, лая собак, человека. Мы несказанно довольны этой чудесной
прогулкой.
Я не люблю спокойное море, дремлющую на солнце тайгу, полированную
синеву неба. Потоки диких рек и грозы в горах меня пленяют больше, и с
какой-то особой нежностью я отношусь к дождю. Люблю, когда он в сумрачные
вечера окатывает прохладой тайгу, цокает невидимыми копытцами по листьям, по
камням, по полотняной крыше.
После целого дня, проведенного в горах, после стольких впечатлений,
начавшихся со встречи с сохатым и закончившихся проливным дождем,
наступающая ночь -- такое счастье! Она встречает нас у входа в тайгу густым
холодным мраком. Темень страшная. Ноги не знают, куда ступить. Глаза
слепнут. Вдруг молния обливает нестерпимым блеском тайгу, и, помешкав, землю
потрясает разряд грома. Через минуту опять блеск почти кровавый, и теперь
удар совсем рядом. Кучум бросается вперед, тянет за поводок, я безропотно
бегу за ним, прикрывая ладонью глаза. Бойка где-то впереди.
Гневное небо пронизывает лес огненными стрелами, выхватывая из тьмы
стволы деревьев, их вершины и грозные контуры туч. Но уже сквозь шум дождя
слышен рев реки -- где-то близко палатка, тепло...
Бежим дальше. Ветер пропадает, небо немеет. Сквозь мрак мигает огонек.
-- Не пришибло? -- кричит обрадованный Трофим, выглядывая из палатки.
-- Давеча за малым не угодило, -- отвечает Василий Николаевич. --
Покукарекал бы тут без нас на Мае!
-- Что и говорить! Всяко, брат, передумал, жутко одному в грозу.
Мы надеваем сухое белье, забираемся в меховые спальные мешки, и через
минуту наступает настоящее блаженство. Ради этого уже стоило промокнуть и
промерзнуть!
-- Вот и чай, сахар кладите сами! -- И Трофим ставит перед нами
объемистые кружки с ароматной влагой.
Дождь перестал, тучи разбежались. Притихла мокрая тайга. От граней
верхних скал, облитых луной, сочится к нам в подземелье бледный свет.
Мы засыпаем счастливыми.
Утром по ущелью разгулялся недобрый ветер. Ждать нечего. Сворачиваем
лагерь, загружаем плот. Запасаемся дровами, чтобы не делать остановок. После
ночного дождя река вздулась, налилась черной кровью. С бешеной высоты скал
на посвежевшие бока откосов падает живая бахрома воды. Уже залиты галечные
берега, затоплены мелкие перекаты. Путь открыт. Только голые утесы караулят
нас по-прежнему.
Сейчас особенно хорошо видно, какой крутой спад у Маи. На поворотах те
осталось перекатов. Плот несет легко и быстро по матовой глади. Мимо
пробегают стрельчатыми башнями лиственницы, глухие овражки, одинокие
останцы.
Вместе с нами уплывают от родных берегов смытые половодьем деревья.
Отбросив далеко вперед изломанные вершины, они в отчаянной попытке
задержаться хватаются корнями за шероховатое дно реки, за уступы, вонзают
обломки сучьев в стены. Но поток упрямо гонит их дальше. Мы сторонимся
такого соседства. Это опаснее шиверы.
Картина половодья в узкой щели Маи незабываема. Обнаженные громады
скал, неизмеримая глубина провала, могучий разбег взбунтовавшейся реки
потрясают нас. Вот когда разгулялась Мая! Слышатся непрерывные глухие удары,
точно кто-то под водою бьет в бубен. То стучат на дне камни, гонимые потоком
вниз. Каждый поворот в этом бесшабашном беге кажется последним.
Из-за ельника, будто из засады, бросается нам навстречу широкогрудая
скала, украшенная цветными лишайниками, словно медалями. Лицо кормовщика
каменеет. Сатанинская сила толкает плот в буруны. Ничего не видно за
гигантскими взмахами волн. Мы налегаем на весла. Изо всех сил пытаемся
смягчить удары. Плот не повинуется на быстрине. Мы не успеваем перехватить
инициативу, и через секунду грохот удара о скалу глушит рев потока.
Судно перекосилось, и, пока разворачивалось, его накрыла вершиной
лиственница, окунула в воду. Буруны хлещут через нас. Впереди опять скала.
Ну, тут -- конец!..
-- Топор! -- слышу я крик кормовщика.
На ощупь в воде нахожу топор, воткнутый в бревно, и подаю Трофиму.
Лиственница вздрагивает от ударов. Летят брызги, щепки. Подрубленная вершина
с оглушительным треском ломается, уходит от нас. Плот подхватывает стремнина
и точно детский кораблик несет дальше.
До хруста гнем спины. Сходим с главной струи. Спасаемся бегством...
Прибиваемся к осыпи, сильно подточенной половодьем. Выбираемся на
берег. Солнце клонится на запад. Скалы курятся сизой ласковой дымкой. Берега
Маи широко раздались по сторонам, но река все еще в полном разбеге.
Пока сушится одежда, вещи, мы отогреваемся горячим чаем. Починяем плот.
Настроение у всех неважное. Правда, оно довольно быстро приходит в норму. До
вечера еще далеко. Река присмирела. Отбросив золотистый кант из прошлогодней
хвои, она неохотно отступает от берегов. На мелях оседает наносник. В
ельниках глохнут обессилевшие ключи.
-- Пора! -- говорит Трофим, и мы занимаем свои места.
Снова вместе с рекою уплываем за кривун. Как черепаха, плот тяжело
переваливается на увалах, послушно скользит рядом с потемневшими камнями, не
задевая их. Так бы вот плыть вечно, без тревог, без опасности. Но мы все
время чувствуем, что стоим лицом к лицу с титанической силой, перед которой
наша жизнь -- игрушка.
Следом за нами вверх по ущелью ползет туман. Мая светлеет. На перекатах
среди седых ревущих волн встают каменные гряды.
И вдруг впереди, вспахивая потемневшую гладь реки, поднимается стая
тяжелых гусей. Широко и звонко раздается в тишине их гортанный крик.
-- Гуси, гуси! -- обрадованно кричит Трофим. -- Не иначе, где-то близко
открытые места или озера.
-- А может, Эдягу-Чайдах? -- И я с замиранием сердца смотрю вперед.
Птицы набирают высоту спокойными взмахами крыльев и, срезая кривуны,
тянут напрямик к югу.
На миг забыты весла. Смотрим вперед, сквозь сизый сумрак. Там, за
темно-зелеными мысами, за рядами голых маяков, гуси попадают в яркую полосу
заката и долго плывут, купаясь крыльями в золотом разливе.
Прочь сомнения, впереди Эдягу-Чайдах! И мне вдруг стало легко. А горы
распахиваются шире и шире. Раздвинулись, отошли от берегов. В просветах
золотится даль. Нас несет быстро. Скалы и камни словно бы дышат нам вслед.
Нет, так покойно еще не было на душе! И это не слепое предчувствие. Ведь
гуси-то действительно летали над широкой долиной, что справа от реки.
-- Может, Улукиткан уже здесь? -- и Трофим, вытягивая шею, заглядывает
вперед.
Я вскакиваю на груз. В лицо дует слабый ветер. Лес, горы слились, все
окуталось густым сумраком.
-- Огня не видно, не приехали еще.
-- Тогда -- остановка. Утром разберемся, -- командует кормовщик.
Причаливаем к голому каменистому берегу. Место для ночевки неудачное,
никому не нравится. И дров нет. Я бегу вниз, хочу узнать, что там за шум.
Тороплюсь: вот-вот совсем стемнеет.
Подбегаю к неведомой реке. Она скользит по дну боковой долины и делает
свой последний прыжок, чтобы соединиться с Маей. С трудом различаю на
противоположной стороне таежку, рядом сухую протоку и за ней что-то черное,
кажется, наносник, про который говорил Улукиткан.
-- Да, это Эдягу-Чайдах!
Я бегу к своим с радостной вестью, и мы на шестах спускаем плот за
устье речки, причаливаем к пологому берегу, усеянному крупными голышами.
Наконец-то достигли заветного места!
Иду к наноснику. Место около него ровное, можно переночевать. Дрова и
вода рядом. Зажигаю спичку, осматриваюсь и не могу удержать крик радости:
песок, на котором я стою, весь взбит копытами оленей, всюду свежий помет.
Нет сомнения, где-то близко наши проводники. Бегу к плоту, хватаю карабин и
разрываю тишину громовым раскатом выстрела.
Долго бранятся разбуженные скалы. В недрах уснувшей тайги смолкает эхо.
И опять тишина.
-- Видно, патрон с осечкой попался Улукиткану, не может ответить, --
говорит Трофим.
Опять ждем, ждем долго...
-- Не уснули ли старики?
Снова выстрел тревожит тишину.
-- Неужели с ними нет ружья? -- забеспокоился я.
-- Что вы! -- возражает Василий Николаевич. -- Улукиткан без берданы не
может, она приросла к нему навеки.
-- Тогда почему же не отвечает?
-- Завтра узнаем, а сейчас давайте устраиваться на ночевку.
Мы уходим к наноснику, захватив с собою постели, продукты, посуду.
Какое счастье -- нас пронесло до Эдягу-Чайдаха!
Разгорается костер. Навешиваем котелок, чайник. Василий Николаевич,
засучив по локоть рукава, месит тесто, а сам нет-нет да и улыбнется каким-то
мыслям. Трофим шарит по карманам, что-то ищет, досадуя на себя. Рядом с
ворохом постелей, одежды и рюкзаков лежат собаки. Полураздетый, я выкручиваю
штаны, гимнастерку, накидываю их на вешала. Наш бивак причудливой полудугой
охватывает наносник. Пламя вспыхивает, бросает в глубину его изломанные
тени, и от этого кажется, будто рядом с нами не гора древесных стволов, а
тугой клубок живых удавов.
-- А вы хорошо смотрели, оленьи ли следы под наносником? -- вдруг
почему-то вспомнил Василий Николаевич.
Я тоже об этом только вот сейчас подумал: не сокжои ли тут были?
-- Давайте сейчас сходим, чтобы не гадать, -- и Василий Николаевич,
приставив на ребро к огню допекать последнюю лепешку, встал, соскреб ножом с
ладони присохшее тесто.
Я нашел кусок березовой коры, вправил его в расщепленный конец палки,
зажег, и мы с факелом отправились на другую сторону наносника.
-- Это не наши олени, дикие, -- заявил твердо Василий Николаевич. --
Смотрите, вот след теленка, а у наших нет молодняка. К тому же тут и
давнишний помет. Значит, зря порадовались.
-- Выходит, так, -- соглашаюсь я.
Разочарованные, возвращаемся к мигающему огню костра.
За высохшей протокой молчит удушенная мраком тайга. Над смутными
силуэтами гор -- россыпь искристых звезд. Тишина первозданная, неодолимая.
Покончив со всеми делами, я забираюсь в спальный мешок и тут только
ощущаю небывалую физическую усталость, такую расслабленность и боль во всем
теле, что кажется, никакие блага, никакая опасность не заставят меня сейчас
покинуть постель.
Мы на Эдягу-Чайдахе, но все еще далеко от своих и от цели. Я пытаюсь
вспомнить оставшийся позади путь. Там было много случайностей, но были и
серьезные предупреждения. Следует ли рисковать дальше? Может, пора
отблагодарить судьбу, дождаться проводников, переложить груз на оленей и
пробираться пешком через Чагарский хребет на Уду, к своим? Так будет
надежнее. А как же с обследованием Маи? Согласиться с эвенками, что река
недоступна?
Так ли уж недоступна?
Пропадает сон. Закрываю глаза, забираюсь поглубже в мешок, но не могу
освободиться от дум. Надо идти по Мае, иначе никогда в жизни себе не
простишь. А как быть с Василием и Трофимом? Они безропотно поплывут дальше,
но имею ли я право подвергать их новым опасностям, новому риску? Конечно,
нет! Пора остепениться. Хватит! Пойдем через Чагарский хребет. Скажут --
отступили? Пусть!
На душе облегчение, словно все прояснилось и не осталось в жизни крутых
поворотов.
III. Так я и уснул с решением идти через Чагар. Мы дальше не плывем,
хватит! Старики нас нашли. Вечерняя заря на старой наледи. Улукиткан хочет
обмануть осторожного сокжоя. С жирным мясом ночь короткая.
Меня будит холод. Погода мерзкая, идет мелкий дождь. Буйные порывы
ветра налетают на угрюмую тайгу, и она отвечает ему с тем же гневом. Я
поднимаюсь. На стоянке никого нет: ни спутников, ни собак, ни вещей, только
давно потухший костер да остатки вечерней трапезы. И плот лежит на берегу
без груза. Что случилось?
Оказывается, уже давно день. Мои спутники решили перекочевать на край
таежки. Перетащили туда весь груз, поставили палатку, пологи и теперь что-то
делают на галечной площадке возле Эдягу-Чайдаха.
В лесу среди мягкой зелени листвы, под охраной столетних деревьев,
уютнее, да и не так ветром берет.
Василий Николаевич и Трофим натаскали на косу еловых веток и из них
выложили на гальке крупными буквами:
«СБРОСЬТЕ БАТАРЕИ».
-- Вряд ли с самолета удастся прочесть надпись, ведь ЛИ-2 летает здесь
высоко, -- усомнился я.
-- Лишь бы заметили дым, а уж прочесть -- непременно прочтут, бинокль
наверняка с ними, -- с жаром отстаивает Трофим. .
-- Если ты уверен, тогда надо добавить три слова: «Идем через Чагар».
-- Почему через Чагар? -- поразился он.
Василий Николаевич тоже повернулся ко мне, насторожился.
-- По Мае не поплывем. Хватит.
-- А как же с обследованием? -- разочарованно спрашивает Трофим.
-- Останется незавершенным. Весною попробуем на резиновых лодках, мне
кажется, на них будет надежнее, нежели на плоту.
-- Если на следующий год снова начинать, то лучше нам плыть до конца. У
нас есть опыт, да и река здесь полноводнее, меньше риску.
-- Не слишком ли ты надеешься на себя?
-- Надо кончать с Маей.
На таборе залаяли собаки. Бойка и Кучум перемахнули вплавь мутный
Эдягу-Чайдах, бросились вверх по реке.
Неужели Улукиткан? Как, должно быть, взволновался он, услышав лай
собак, и как радостно забилось его сердце, утомленное тревогой за нас!
Мы стоим на берегу, захваченные ожиданием.
После дождя все умылось, и цепенеющий сонный воздух окутывает землю.
Чувствуется, солнце уже спустилось к горам, и от этого становится еще
холоднее и неприветливее.
И вот знакомый окрик волнует слух:
-- Мод... мод... мод...
Видим, как из тайги показывается рогастый олень. На нем -- Улукиткан.
Мы сразу узнали его по сгорбленной спине, по бердане, торчащей кверху дулом
из-за левого плеча, по тому, как покачивается он в седле в такт торопливым
шагам учага. Караван еле поспевает за ним.
Следом появляется и Лиханов.
Улукиткан сворачивает вправо, перебредает речку и, соскочив с оленя,
подходит к нам. Теперь он кажется стареньким-стареньким -- от тяжелого и
долгого пути. Но в глазах радость.
Старик стаскивает с головы свою убогую шапчонку, вытирает ею потное
лицо и, немного успокоившись от быстрых шагов, говорит:
-- Меня может Обмануть злой дух -- Харги, дикий зверь, даже друг, но
сон не обманет. Я же говорил, обязательно живой придешь на Эдягу-Чайдах.
Теперь ты должен верить старику, что Мая худой речка, что нам лучше вместе
аргишить, делать один след.
Мы здороваемся. Все рады, что снова вместе.
-- Ты прав, Улукиткан, нам не нужно расставаться. Когда с нами нет тебя
-- мы словно в чужой стране.
Я мысленно даю себе клятву не отпускать от себя больше старика.
Следом за Улукитканом на косу выходит Лиханов. На его почти черном
скуластом лице отпечаток нелегкого пути, бессонных ночей, а на одежде он
принес запах рододендронов и стланиковых чащ.
Вряд ли когда-нибудь здесь, на устье Эдягу-Чайдаха, собиралось такое
беспокойное общество. Мы помогаем проводникам развьючить оленей, отпускаем
животных на корм. Ужинать забираемся в палатку.
-- Как дальше ходить будем? -- спрашивает Улукиткан, не отрывая губ от
блюдца.
-- Через Чагар.
-- Пусть олень два-три дня отдохнет, потом хорошо пойдем, -- отвечает
он.
-- Пройдем ли? Ты знаешь проходы?
-- Тут никогда не ходил, но старый люди говорили, что от устья
Эдягу-Чайдах по второму ключу можно подняться на хребет. Только вперед нам
надо маут делать, свой мы потеряли, а без него Баюткана не поймаешь, и
олочи, видишь, совсем кончал, надо подошву добывать, да и потники попрели,
менять будем.
-- Из чего же ты будешь делать маут? Из веревки? Он пренебрежительно
посмотрел на меня.
-- Ты разве видел маут из веревки? Надо искать большой сокжой, тогда
все будет: и подошва, и нитки, и потники. Сейчас время жирного мяса, хорошей
шкуры, а лист упадет, сала не останется и шкура испортится. Вот и надо
торопиться, охота уходит.
-- Куда же ты пойдешь?
-- Вверх по Эдягу-Чайдах есть старый наледь, там надо искать сокжоя.
-- Ты думаешь, на наледи удача будет?
-- Если глаза есть -- можно не думать. Где отдыхает зверь -- там
остается шерсть; где ходит он -- обязательно найдешь след; где кормится --
будет примят ягель. Все это мои глаза видели там сегодня.
-- Меня возьмешь в помощники? -- спрашиваю я, заранее зная его ответ.
Старик хитро смеется, кивая головою.
-- Пойдем, места там много, кому-нибудь зверь попадется. Утро бы. не
прозевать, -- и он что-то додумывает, озабоченно мнет свою реденькую
бороденку.
Мы допиваем чай и на этом заканчиваем свой пир. Меня уже зовет, волнует
завтрашний день. Перед сном мы выбираемся из палатки подышать свежим
воздухом. Над лагерем, над облитыми лунным светом горами -- ночь. Тайга
дремлет в тени. Вдали, в полосе прозрачного воздуха, видны кружевные узоры
береговых утесов. Где-то выше зазывно поет хрустальный ручей да за
наносником, где пасется стадо, о чем-то гутарят бубенцы.
-- Видел? -- сказал Улукиткан, показывая рукою на запад, где только что
небо пробороздил метеорит. -- Это хорошая примета, удача нам будет.
Утро входило в свои права медленно. Жидкий полусвет поднимался меж
деревьев, стучали дятлы, назойливо пищала в чаще какая-то пичуга. Гуси,
пролетая над стоянкой, подняли тревожный крик. Лагерь пробудился. Улукиткан
давно встал и ушел за оленями.
Трофим остается в лагере с Николаем. Они будут держать дымовой костер
на случай появления самолета, напекут лепешек и займутся починкой вьючного
снаряжения. А Василий Николаевич после того, как туман поднимется, выйдет на
одну из правобережных вершин, ниже устья Эдягу-Чайдаха, и оттуда осмотрит
горы, сделает зарисовки горизонта и постарается проследить Маю: куда она
уходит -- и не понижаются ли дальше горы?
Не представляю, что сейчас делается в штабе экспедиции?! После
неудачных попыток обнаружить нас с воздуха усилят наземные поиски.
Догадается ли Плоткин искать нас с устья Маи, и не пошлет ли он людей по
нашему пути от Кунь-Манье?
В десять часов мы с Улукитканом покидаем лагерь. С нами пять оленей и
Кучум. Туман, как молоко, растекается по широкой долине, редеет.
Идем вверх по долине Эдягу-Чайдаха. Необозримые стланики. Они то лежат
сплошным покровом по болотистой почве, то карабкаются по склонам в вышину,
то расплескиваются волнами по отрогам Чагарского хребта. Лиственничная тайга
здесь поредела, не выдерживает конкуренции.
Обоснует ли когда-нибудь человек тут, в глухомани, свое жилье, и
назовут ли его дети этот печальный пейзаж, вправленный в низкое серое небо,
своей родиной? Кто-то совершит этот подвиг, но -- не скоро.
Стланики теснят нас к реке. В поисках проходов мы перебредаем холодный
Эдягу-Чайдах. Улукиткан подбадривает пятками своего верхового оленя, явно
торопится.
С неба сваливается мелкий дождь. Налетает ветер. Он словно во хмелю
дует то снизу, то сверху. Мы сворачиваем по ключу влево, находим хороший
ягель и там разбиваем стоянку под кронами лиственниц.
Вечереет.
-- Однако, ветер всем разболтал, что мы тут, -- говорит Улукиткан
убежденно и зябко вздрагивает от сырости.
-- Может, спустимся километра два и там заночуем? Какая охота по дождю.
Старик смотрит по сторонам, прислушивается к шелесту стекающей по хвое
влаги, поднимает голову, окидывает прищуренным взглядом волнистую кровлю
неба.
-- Еще никто не знает, что будет через час, -- заключает он. -- Если
дождь не перестанет -- ночевать пойдем ниже.
Мы ждем. Минуты капают медленно. Замечаю: лицо Улукиткана светлеет от
какой-то догадки. Неужели старик предчувствует перемену погоды? По каким
признакам? Мне тоже хочется сделать открытие. Напрягаю зрение, слух, но,
увы, кроме падающего дождя, ничего не замечаю. Ему кажется, что и я уже
догадался о перемене. Так сытому кажется, что все люди сыты. Он молча
развязывает кожаную сумочку, начинает копаться в патронах, выбирая самый
надежный для первого выстрела.
-- Ты пошто не собираешься, не хочешь идти зверя караулить? --
спрашивает он, выглядывая из-под брезента.
-- Как не хочу?! Но ведь дождь идет. У старика поднялись брови.
-- Ты мала-мала думай: сперва дождь падал тяжело, как на дырявый
барабан, а теперь, слушай, хорошо шумит, значит, скоро кончится. Э, беда,
глухой в тайге!
-- Не обижайся, Улукиткан, ты в лесу родился, вырос и прожил более
восьмидесяти лет, а я ведь здесь, по сравнению с тобой, всего лишь юноша.
Поживу столько, может, и научусь чему-нибудь.
-- Нет, -- говорит он категорически. -- Сколько ни бей оленя, он
сохатый не станет. -- И Улукиткан, подогнув под себя ноги, нахохлился от
досады, как голодный сыч.
Я молчу. Дождь падает на землю звучно, словно не на листья, не на мох,
а на жесть, и я удивляюсь, почему не заметил этого раньше.
Туча еще не успела сбросить последний груз, как выглянуло солнце.
Тысячи разноцветных фонариков вспыхнули в зеленой чаще. Появились комары, на
кормежку прибежала белка. Рядом предсмертно пропищала мышь. Высоко парит
остроглазый беркут, караулит добычу.
Мы собрали оленей, привязали их возле стоянки. Натаскали на ночь дров.
Принесли воды для ужина. Теперь можно отправляться на охоту.
-- До наледи пойдем вместе, а там смотреть будем, -- говорит Улукиткан,
натягивая на свои узенькие плечи вывернутую вверх шерстью старенькую дошку и
подпоясываясь ремнем.
Я не свожу с Улукиткана взгляда. Где-то далеко впереди его мысли. От
каких-то догадок шевелятся тяжелые старческие брови и на загорелое лицо то
вдруг набегут табунчиком морщины, то вмиг исчезнут, как молодь, вспугнутая
щукой. Как мне хочется хотя бы в эту охоту думать его головою, ходить его
ногами, быть таким приспособленным и понимать окружающую нас природу так,
как он. Хочется хотя бы на час стать Улукитканом.
-- Ты заряди бердану, может, близко зверь попадется, угонишь, потом
жалеть будешь, -- предлагаю я, зная, что заряжает он всегда в последний
момент.
-- Нет, не надо, -- и отмахивается от моего предложения рукою. -- Если
я зверя раньше увижу -- не угоню и патрон успею в ружье затолкнуть, а если
он меня вперед увидит, то и заряженное ружье не помога, убежит, -- и,
накинув на плечи берданку, он стал отвязывать своего учага.
-- Ты разве верхом поедешь? -- удивился я.
-- Нет, он с нами пойдет охота.
-- Еще зверя не убили, а ты уже его ободрал, перевозить собираешься!
Если надо будет, я приду за оленями.
Он смеется, и я понимаю, что смеется он над моей неопытностью.
-- У тебя Кучум, а у меня олень, посмотрим, чей фарт будет, -- сказал
многозначительно старик и, выйдя к реке, повел меня дальше, где за редеющей
стеною стлаников виднелось пустое пространство.
У крайнего куста Улукиткан задержался, осторожно заглянул вперед. Я
подошел к нему.
За стлаником виднелось большое пространство черной земли, усеянной
округлыми валунами и покрытой редкой щетиной приземистых ерников. Всюду
лежал грязными глыбами лед. Тут в период зимних морозов русло Эдягу-Чайдаха
перемерзает. Подпочвенные воды, не найдя стока, вырываются на поверхность,
замерзают, образуя толщу льда в несколько метров. За лето лед растаял, и
теперь мы видим его остатки.
-- Слушай, Улукиткан, зачем сюда придет зверь? -- спрашиваю я, глядя на
недавно вытаявшую землю.
-- Видишь, после льда молодая зеленка расти, он ее шибко любит.
Понял?.. Ты тут садись и карауль, зверь обязательно придет. Матка не
стреляй, бычок тоже. Мы ходить будем дальше, -- и он утащил за собой учага.
Я выхожу к краю стланика и там, никем не замеченный, замираю. У моих
ног сидит Кучум. Он весь захвачен ожиданием, держит нос начеку, караулит
воздух и нервно переступает с ноги на ногу.
Легкие, как дым, седые пряди тумана протянулись над потными лощинами и
стали укутывать отроги. Даль все еще недоступна глазу, и еле уловимый
ветерок ласково веет мне в лицо с молчаливых вершин Джугджура.
Вижу -- Кучум поднимает высоко голову, жадно тянет ноздрями воздух.
Осматриваю равнину -- никого нет. Но собаку что-то раздражает, она
вскакивает. Я осаживаю кобеля, выбрасываю сошки, но не успеваю положить на
них ствол карабина, как к наледи из стланика выходят три сокжоя: два
бычка-близнеца и крупная матка.
Звери не осмотрелись, не прислушались, привычно перешагнули границу
леса, вылезли на чистое место, метров в полутораста от нас. Видно, эта
черная земля, прикрытая редкой зеленью, никогда их не обманывала, и они,
доверившись тишине, стали кормиться.
А каково Кучуму! Он все видит, все слышит и от нетерпения дрожит, как в
ознобе.
Сокжои так же, как и домашние олени, один перед другим торопятся вперед
и на ходу успевают срывать пахнущие свежестью зеленые листочки с приземистых
ерников. Мы отчетливо слышим, как звери, проходя мимо нас, чмокают своими
мягкими губами, издавая при этом характерный звук:
«Пя-пя-пя-пя...»
У дальнего закрайка, провожая день, кукушка роняла в звонкий воздух
свое прощальное ку-ку. По небу, догоняя солнце, плыло одинокое облачко с
золотисто-алыми краями. Цепенел в вечерней дреме стылый воздух, напоенный
запахом только что распустившейся зелени. Было свежо, даже холодно.
Где-то за рекою гогочут вспугнутые гуси. Пушистым комочком выкатывается
на вершину сухой лиственницы пугливая белка и замирает, словно не поверив,
что так рано кончился день.
Тишину разрывает пугающий крик филина, но птицу нигде не видно. Это
кричит старик, о чем-то предупреждает меня. Осматриваясь, замечаю серое
вздутие на прогалине в стланике. Не могу понять, зверь ли это рогатый или
выскорь (*Выскорь -- корни, поднятые над землею при падении дерева). Вижу --
шевелится, спускается к закрайку, и вдруг сердце мое, словно зажатое в
кулак, забилось часто-часто. Туда же смотрит и встревоженный Кучум.
Остаются считанные минуты, и сумрак примирит всех нас...
Зверь бесшумно появляется на краю плоской наледи, осторожно
осматривается. Кажется, ничему он не верит: ни деревьям, ни скользкому льду
под ногами, ни темным проталинам, ни пасущимся оленям. Но тишина не вызывает
подозрения.
Вот он поднял высоко голову, повел носом. Ничто не выдавало нашего
присутствия, и только теперь сокжой осторожно сошел с наледи, опустил к
ернику огромные рога, стал быстро-быстро срывать листья.
Не знаю, что делать: стрелять далековато, скрадывать по открытому месту
бесполезно. Если зверь подойдет ближе, пущу в него пулю. А он вдруг пугливо
поднимает голову, замирает, глядя в нашу сторону. И самка в дальнем углу
насторожилась, тоже смотрит сюда. Неужели заметили? Надо стрелять!
Пригибаюсь на уровень сошки, припадаю плечом к ложу карабина, осторожно
подвожу мушку под зверя, нащупываю указательным пальцем спусковой крючок...
Что это?
Справа ясно доносятся торопливые шаги. Поворачиваюсь и не верю глазам
-- из стланика выходит крупный сокжой. Этот ко мне ближе. Я перевожу ствол
карабина, плотнее прижимаю приклад к плечу, нащупываю мушкой переднюю
лопатку и... узнаю знакомый контур рогов. Да ведь это учаг! Хорош бы я был,
свалив верхового оленя!
Учаг направляется к сокжою. Неужели Улукиткан упустил его и не видит!
Как предупредить старика? Досадую на себя, что до сих пор не научился
кричать по-птичьему, дал бы ему знать.
Звери, к моему удивлению, не убегают. Учаг то и дело машет рогами,
срывая на ходу листья, кормится. Что это у него мелькнуло между ног...
Замираю от удивления -- это Улукиткан прячется за учагом. Холодею при мысли
о том, что бы было, не задержи я выстрела. Надо же придумать такое!
Я забываю про сокжоев, про карабин -- весь поглощен поединком между
старым эвенком и хитрым, осторожным сокжоем.
Зверь насторожился, резко выкроился на фоне потемневших стлаников. Но
равнодушие учага, кажется, его успокаивает.
Нас накрывает сумрак, но остатки бледного света еще реют над
потускневшей наледью. Улукиткан поторапливает учага, толкает его сзади
ногою: чувствует, что в его распоряжении остается совсем-совсем немного
времени. Как он хорошо замаскировался! Как легко переставляет ноги, точно
копируя шаги своего оленя. Старику уже надо бы стрелять. Не могу оправдать
эту опасную медлительность... Вижу... -- сокжой огромными прыжками выбросил
себя на наледь, рванулся к стланику, но вдруг оборвал свой бег, занозив
копыта глубоко в рыхлый лед. Повернувшись всем корпусом к учагу, он так и
застрял на ледяном постаменте, взбудораженный страхом и любопытством.
Наконец-то вижу, из-за оленя выткнулся ствол ружья, показалась макушка
седой головы.
Брызнула россыпь огня. Упал на тайгу чужой, страшный звук. Слился
синеватый дымок с вечерним сумраком и закрыл от меня сокжоя.
У реки загоготали гуси, вспугнутые выстрелом. Зажглись звезды. Позади
облегченно вздохнула ночная сова.
Я отпускаю Кучума, иду к Улукиткану. Он унимает оглушенного выстрелом
учага, затем усаживается на камень, ковыряется ножом в бердане -- достает
пустую гильзу. На лице спокойствие. А я все еще не могу прийти в себя от
этих последних трех минут.
На наледи, где стоял сокжой, пусто. Улукиткан поднял тяжелые брови. Мы
молча смотрим друг другу в глаза, и я не могу разгадать, что кроется за его
спокойствием: радость или досада.
-- Вот теперь я знаю, мать не зря дала мне жизнь, кормила грудью,
приучала к терпению, да и отцовский труд не пропал даром -- ишь, как хорошо
я обманул сокжоя! -- И он, развязав отсыревшие замшевые ремешки, стягивающие
дошку, раскрыл вечерней прохладе вспотевшую грудь.
Где-то возле Эдягу-Чайдаха напористо залаял Кучум, и вся долина
захлебнулась разноголосым эхом. Лай стих...
-- Угнал сокжоя! -- крикнул я и готов был броситься к реке, но
Улукиткан остановил меня.
-- Старик хорошо бросил пулю, зверь тут, близко уснет. Сейчас ходить
будем, -- сказал он уверенно, и мы направились к реке, где лаял Кучум,
На востоке блеснула голубоватая зарница, неожиданно раскрыв все небо,
всю глубину долины до самого Джугджурского хребта, и опять все утонуло в еще
большем мраке.
-- Найдем? -- спросил я, шагая следом за стариком.
Он не. ответил, но зашагал быстрее.
У реки нас встречает Кучум -- радостный, ласковый. Надеваю на него
ошейник, выходим за узкую полоску береговых стлаников и на гальке видим
мертвого зверя, разбросавшего в последнем прыжке ноги и откинувшего далеко
назад свои огромные до уродливости рога.
Улукиткан запустил под шерсть всю пятерню, ощупал зад, помял рукою
ребра, затем зашел с головы, по-хозяйски окинул взглядом всю тушу, сказал
обрадованно:
-- Большая удача. Много тут будет работы, -- и старик просадил узкий
клин ножа в шерстистую шею у края головы, перехватил острым лезвием горло,
поднялся, спросил:
-- Как думаешь, сейчас свежевать будем или утром придем!
-- Ты ведь, Улукиткан, устал, отложим до завтра.
-- У жирного зверя разве умаешься? -- отвечает он. -- Да, однако, утром
лучше.
Мы укладываем зверя на спину, старик перехватывает ножом артериальные
сосуды, расположенные внутри, вдоль позвоночного столба, чтобы кровь стекла
в брюшную полость, вырезает филе и отсекает грудинку.
-- Хватит или мало? Мясо жирное, хорошее.
-- Неужели мы столько съедим?
-- Летом ночи короткие, не одолели бы, а сейчас, боюсь, мало будет.
Однако, маленько печенки отсеку.
Улукиткан раздевается, снимает с себя рубашку, пропитанную потом и
дымом походных костров, бросает ее на убитого зверя.
-- Может, медведь придет, да так не нашкодит, дух хватит -- убежит, --
говорит он, накидывая на плечи берданку.
Я связываю прутьями мясо, перекидываю его на спину, и мы уходим в
темноту.
Улукиткан доволен. Шагает легко, неслышно. Уж и отведет он душу ночью!
Усладит язык!
Я развожу костер, вешаю котел с грудинкой, на вертелах подставляю к
огню толстые «поленья» филе. Освободившись от своих дел, старик
присаживается к костру, устало молчит. Как постарел он за вечерний час, за
минуты напряжения. Я смотрю на него, и мне опять, уже в который раз, хочется
спросить: у кого он учился жизни, кто привил ему свободу орлана,
осторожность рыси, мудрость времени? Не нужда ли, рожденная вместе с ним,
была ему строгой наставницей?
Выглянула луна. Синеватой тундрой распласталось над нами звездное небо.
-- Ты видел на Мае большие скалы, разные-разные, все равно что кровь
или как небо, а то и совсем темные? -- вдруг спросил Улукиткан,
поворачиваясь ко мне.
-- Видел. Это разноцветный мрамор: красный, голубой, розовый. Здесь его
неисчислимые богатства.
-- А ты знаешь, откуда он попал сюда? Нет? Тогда слушай, что будет
толмачить Улукиткан.
Он поправил костер, срезал кусок поджаренного филе, бросил на зубы и,
пока работали челюсти, собирался с мыслями.
...Давно-давно, где-то тут в горах, было становище бедного эвенка. У
него не было ни оленей, ни снастей, ни ловушек, только одна дочь, красивая,
как заснеженная ель в морозную ночь, понятливая, как вчерашний день. Все
кругом далеко знали о ней, все хотели ее взять в жены, давали отцу большой
выкуп, хвалились оленями, чумами, добытыми соболями. Да не этого хотела
дочь, всем говорила: кто догонит меня на лыжах; кто попадет из ружья туда,
куда я брошу свою пулю; кто будет самым смелым, -- к тому пойду жить в чум.
Приезжали женихи, прокладывали лыжни по горам, стреляли из ружей,
показывали смелость и ни с чем возвращались.
А годы шли...
Однажды утром девушка увидела рядом со своим жильем богатый чум, жирных
оленей, нарты, полные клади, и возле них статного парня, сильного,
красивого, того, которого так долго ждала.
-- Ну, догоняй! -- крикнула она и, встав на лыжи, нырнула в тайгу
шустрым соболем.
Завилял ее след по горам, по лесам, по овражкам. Легла на перенову
волнистой косой лыжня. Замелькали в быстром беге деревья. И горячий пар,
вырываясь из молодой груди, окутывал раскрасневшееся лицо девушки. Парень
близко, а все не догонит. Сердце девушки умоляло ноги не торопиться...
Уже близко и чум. На крутом спуске она вывернула внутрь камысные лыжи,
притормозила бег. Парень сапсаном налетел на девушку, сорвал с головы
беличью шапку.
-- Теперь ты догоняй! -- и он налег на лыжи.
А та уж рядом и могла опередить, да сердце не позволило.
Потом она выбрала мишень, хотела проверить, меткий ли глаз у этого
парня, но ружье у него осеклось. Видно, сама судьба нарекла его ей в мужья.
Оставалось парню выполнить последнее условие. Но девушка теперь сама не
знала, что загадать. Ей захотелось поселиться в его чуме, быть матерью его
детей, кочевать с ним по тайге. Она подошла к нему близко, посмотрела в
глаза и вдруг отшатнулась, увидев в них красивую девушку, каких никогда не
встречала. Ей показалось, что парень любит не ее, а другую, и она решила
воспользоваться третьим условием, чтобы отомстить ему.
-- Я перейду в твой чум, если ты ночью спустишься по скале к реке и
принесешь мне воды.
Настала темная ночь. Девушка подошла к краю скалы, заглянула вниз.
Полосы яркого света из глаз осветили уступы. По ним парень спустился к реке,
набрал в кожаный мешок воды, приторочил его к спине и стал взбираться
наверх. Когда он поднялся к самому опасному месту, девушка сомкнула ресницы,
потух свет, и тотчас же что-то тяжелое сорвалось со скалы, упало в реку.
Дочь вернулась в свой чум и обо всем случившемся рассказала отцу.
-- Глупая, -- пояснил тот. -- Ведь в глазах отражается только то, что
они видят. То была ты.
Горю девушки не было края. Она побежала к реке и, пытаясь задержать ее
бег, хотела спасти парня, отламывала от неба огромные голубые куски;
доставала из недр темные глыбы и все это бросала в реку. В минуты отчаяния
она рвала на себе тело, и кровь, стекающая из ран, обливала скалы.
-- Теперь ты понимай, почему всякий разный скала тут: и как небо, и как
кровь, и как тень, -- закончил Улукиткан свой рассказ.
-- А куда же делась девушка? -- спросил я.
-- Старики не сказали. А имя ее было -- Мая.
Уже за полночь. Кругом тайга. Я лежу на спине. Колючие звезды мешают
уснуть. Странное состояние: ни о чем не хочется думать, все кажется плоским.
И непонятно, зачем трепещут листья осины и так упрямо бьется о камни ручей.
Но проглянула луна, и все легло на свое место. Не стали колоться звезды.
Задремал ручей.
Утром ждали дождя. Восток был темен, тяжел. Где-то к югу, за Чагарскими
гольцами, пошаливал гром. Мы собрали оленей, свернули табор и ушли к убитому
сокжою.
Я помогал Улукиткану свежевать зверя.
Вначале Улукиткан снимает с «лап» камус, затем отделяет голову,
стаскивает чулком кожу с шеи, свежует тушу, вырезает сухожилия на ногах, на
спине. И, наконец, расчленяет мясо на части, удобные для перевозки на
оленях.
А работы еще много. Камусы он высушит и употребит на подошвы для
олочей. Из кожи, снятой с шеи чулком, он спустит спиралью тонкий ремень --
маут метров на двенадцать. Сухожилия хорошо провялит и потом будет отдирать
тонкие и очень прочные нитки для починки обуви, одежды, сбруи. Шкура с
головы пойдет на коврик-камалан. Кожу он тоже высушит, отвезет домой, и из
нее жена сделает чудесную замшу.
Но и это не все. Улукиткан отрезает мочевой пузырь, надувает его до
предела, долго мнет руками, снова надувает, обсыпает золой, мнет и опять
надувает, пока он не растягивается до размера большого детского шара. Сушит
его на солнце надутым, получается чудесная посуда. Он наполняет ее
вытопленным внутренним жиром.
Когда мы, завьючив оленей, были готовы отправиться в обратный путь к
Мае, старик стащил в реку внутренности зверя, копыта, рога, всякие обрезки,
плеснул воды на окровавленную гальку, сказал:
-- Теперь ты знаешь, как надо разделывать зверя, чтобы у тебя была и
подошва, и маут, и камалан, и половинка, и нитки, и посуда для жира, и мясо.
От зверя ничего нельзя бросать, так учили меня наши старики.
Сегодня я окончательно убедился, что главной заповедью лесных
кочевников была величайшая бережливость.
IV. Снова нас соблазняет Мая. Плата за первый подъем. На плоту. Первое
препятствие. Куда ушли проводники? Вот они, дикие застенки Маи.
В лагере все обрадовались, увидев груженных мясом оленей. Пока
развьючивали животных, Василий Николаевич успевает рассказать о результатах
своей рекогносцировки.
-- Чагарские гольцы тут недалече, день ходу, не больше, -- высокие
балбаки. А Маю не видно. Схлестнулись хребты, никакой щелочки, будто в
тартарары провалилась. Но на той стороне, за первым отрогом, была видна
широкая долина. Вероятно, большой приток. Вот я и думаю -- давайте
переберемся туда с оленями и там решим: если ниже притока Мая пропустит нас
с оленями -- уйдем дальше, если нет -- вернемся к Чагару.
-- Дельное предлагает Василий. В случае неудачи -- потеряем всего дня
два, -- настаивает и Трофим.
-- Утро вечера мудренее, -- отвечаю я.
Рано утром я выбираюсь из полога. В лагере никого нет. Где же люди?
Слышу, доносится от реки стук топоров...
Выхожу из таежки. На горбе левобережного гольца зреет прозрачная
зорька, голубоватый свет утра озаряет край далекого неба. Из невидимой
глубины вселенной он наплывает живыми струями на землю. Его прикосновение к
угрюмым скалам, к трепещущей хвое, к помутневшему серебру реки рождает
туман. И Мая, словно пряча свою девичью наготу, торопится укрыться под его
белоснежным покрывалом.
Вижу, спутники мои толпятся на берегу реки. Кто рубит, кто тешет, кто
забивает. Да ведь это они ремонтируют плот! Судя по всему, они твердо решили
переправляться на противоположный берег, идти на оленях через отрог в
соседнюю долину.
И вдруг мне стало легко-легко. Я не стал сопротивляться. Довольно со
страхом обращаться к будущему! Я неожиданно поверил, что намеченный Василием
путь самый надежный. Тем более, и Улукиткан с ними заодно. А ведь старик еще
вчера не признавал иного выхода, как идти через Чагар.
Итак, перебираемся на левый берег Маи.
В двенадцать часов дня мы сворачиваем лагерь, загружаем плот, сгоняем
на берег всех оленей. Животные не хотят добровольно покинуть гостеприимный
берег. Мы на них кричим, угрожаем палками, кое-как загоняем в воду.
Мутный поток бросает их на горбы волн, зарывает в буруны. Но олени
упорно пробиваются к берегу и благополучно выбираются на противоположную
сторону реки.
За ними отправляемся и мы на плоту вместе с грузом. Хорошо, что на реке
не видно валунов. Но ниже устья Эдягу-Чайдаха Маю сжимают с двух сторон
скалы. Тут она снова уползает в теснину. Не дай бог, если нас снесет в этот
узкий проход! Напрягаем все силы. Бьемся с течением, и мы на берегу, в ста
метрах от щели.
Пока разгружаемся и ловим оленей, Улукиткан отправляется искать проход
через отрог. Груза у нас много, за один раз его не поднять. Делим пополам,
но оленей все равно не хватает, приходится часть груза брать себе на плечи.
Улукиткан вернулся мрачный. Он осмотрел вьюки, отпустил подлиннее
поводья, чтобы оленям свободно было шагать в узких проходах, и в последний
раз взглянул на отрог, заваленный обломками скал.
Старик ведет караван берегом реки, почти до скалы, потом сворачивает на
верх отрога. Дыбятся олени на крутизне. Виляет их след между камней по
карнизам, ползет разорванным пунктиром по текучей россыпи. Улукиткан, горбя
спину, взбирается на выступы и тянет за собой на длинном поводу завьюченных
животных.
Старику трудно дается подъем.
Чем выше, тем круче. Животные дышат тяжело. Из открытых ртов свисают
влажные языки. Со спин сползают вьюки. Поднимаемся все медленнее. Впереди
вдруг встает ступеньками скала. Останавливаемся. Олени падают в полном
изнеможении. Мы сообща находим щель, по которой можно подняться наверх. Но в
одном месте оленям придется прыгать с карниза на карниз, и уж если какой
сорвется, то это будет его последний прыжок.
Решаем проводить животных по одному. Улукиткан отстегивает своего
верхового, проводит первым. Учаг, поднявшись над провалом, вдруг начинает
боязливо переставлять ноги, точно ступая на острые шпили. А сам весь дрожит,
не может успокоиться. Старик уговаривает его ласковыми словами. Теперь
остается только перешагнуть щель. Улукиткан тянет за повод, но олень
упирается, ни с места. Страх овладевает им. Я кричу на него, угрожаю. Он
вдруг поворачивает ко мне голову, и я вижу, как из больших круглых глаз его
катятся слезы.
Наконец он сдается. Поставив все четыре копыта на край плиты, учаг
отталкивается и в прыжке откидывает в сторону рога, чтобы не удариться ими о
скалу. От этого движения передние ноги попадают на край карниза, а задние
виснут над обрывом. Синеют белки круглых глаз, его всего захватывает страх.
Олень какое-то мгновение еще силится удержаться передними копытами за край
карниза, но срывается. Скалы провожают учага глухим подземным гулом. Вместе
с ним в пропасть летят камни. Далеко внизу он падает спиной на острую грань
обломка и умирает, разбросав длинные ноги и запрокинув голову.
Улукиткан дождался, когда внизу стих грохот камней, уселся на выступ.
-- Пошто раньше не обрезал оленю рога? -- слышу его голос.
Я даю команду вернуться вниз, к подножью скалы. Олени, видевшие весь
ужас падения учага, буквально сбегают под скалу и продолжают пугливо
прислушиваться к наступившей тишине. Мы развьючиваем животных. Без груза они
легко преодолевают препятствия, выходя наверх. Затем я с Трофимом и
Лихановым вытаскиваю туда груз, а Улукиткан с Василием Николаевичем идут к
учагу, чтобы снять с него узду, вьюк и седло.
От скалы подъем положе, и мы без приключений выбираемся на отрог. За
ним действительно глубокая долина. Мои спутники возвращаются с оленями на
Маю, за оставшимся там грузом, а я с Бойкой иду дальше вниз -- хочу
спуститься к устью речки, протекающей по дну долины.
Спускаемся по стланику. Тут идти легче, россыпи прикрыты растительным
покровом, меньше обнаженных пород. Ниже нас встречают лиственницы, так, в их
окружении, мы и выходим на дно долины.
Пробираюсь сквозь береговую чащу, раздвигаю густой ольховник и
поражаюсь: речка должна течь вправо к Мае, а она течет в обратном
направлении. Понять не могу, в чем дело? Внимательно осматриваюсь и
окончательно убеждаюсь, что течет она действительно влево, почти на север. Я
тяжело опускаюсь на гальку.
Это Мая!
Я узнаю ее разбег, ее тревожный рокот и шальную волну. Мы опять
встретились. Чувствую, что не уйти нам от нее. Да и куда? Назад -- ни за
что! Остается только один путь -- вперед. Я даже как будто рад этой
неприятной неожиданности.
Подхожу к берегу. Река плещется меж валунов, ворчливо уползает дальше
на север. Все еще не могу понять, почему на север? Ведь от устья
Эдягу-Чайдаха она пропилила себе проход на юг. Значит, где-то здесь река
делает большую петлю и поворачивает более чем на сто пятьдесят градусов.
Дня еще остается много. Я выбираю место для табора, делаю заломки и
ухожу вверх по реке. Надо узнать, что там в петле: пороги, шиверы или
тиховодина. И заодно посмотреть, где поблизости есть сухостойный лес для
плота.
Однако моя попытка осмотреть первую большую петлю Маи не имеет успеха.
У всех поворотов реку оберегают крутогрудые скалы, то голубоватые, как небо
ранним утром, то серые, как пепел старого огнища, то ржавые. Они
неприступны. Ни с чем пришлось вернуться назад.
На стоянку прихожу поздно. За пологими отрогами пылает небо. Близится
ночь. По прогалинам в холодеющем ночном сумраке бродят, как призраки,
уставшие олени. Ветерок наносит дым только что разожженного костра.
Я разыскиваю в куче багажа свою постель, достаю мыло и полотенце.
Василий Николаевич льет мне на руки воду, а на пухлых губах улыбка.
-- Чему радуешься? Реку узнал? -- спрашиваю я.
-- Узнал. Эко змея, обманула! Кто бы подумал, что она тут так
извернется!.. Что же делать будем? -- не терпится ему.
-- Поплывем дальше, не возвращаться же назад.
-- Мы тоже так распланировали и лес уже свалили на плот. Старики хотят
идти с нами берегом.
-- Да, да, вместе пойдем, так лучше, -- слышу я голос Улукиткана.
-- А если не пройдете?
-- Вы сразу нас на ту сторону плавьте, если не пройдем, будем
пробираться горами, на устье Маи встретимся.
Итак, все решено. Завтра в путь. Знакомое чувство тревоги опять
врывается в нашу жизнь.
Кто-то бросает на рубиновую россыпь углей пучок сушника. Вспыхивает
пламя, и знакомый шелест огня будит лагерь. Улукиткан остается отобрать себе
продовольствие, а все остальные уходят на берег. Дружно стучат топоры,
перекликается эхо, и как-то странно слышать здесь, в дикой теснине гор,
человеческий говор.
Выяснилось, что ниже нашей стоянки Мая, наткнувшись на скалу, круто
поворачивает назад и ложится на юг, образуя узкую стрелку. Улукиткан не
хочет идти здесь берегом, следом за плотом, просит переправить его на правый
берег, и они с оленями дождутся нас на противоположной стороне стрелки.
В полдень плот был загружен. Мы перегнали через реку оленей,
перебросили стариков, помогли им поймать животных, и они ушли налегке, не
захватив с собою ни вещей, ни продуктов.
На корме Трофим. Он клонит голову, прислушивается к наплывающему реву.
Справа на гранитном выступе торчит разбитая грозой старая лиственница с
поднятыми к небу обломанными сучьями, как бы предупреждая нас об опасности.
Мы проплываем обрыв. Близко перекат. Все настороже. Наваливаемся на
весла. Глаза не успевают замечать проход. Тут, кажется, река готовит нам
сюрприз.
Сильным толчком плот подбросило высоко, посадило на что-то острое, а
нос заклинило глубоко под камень. Собак смыло. Все перебираемся на корму,
пытаемся осадить ее, но безуспешно. Мы налетели на корягу, замытую водою...
Буруны с гулом разбиваются о плот, окатывая нас ледяной водою. Одежда
на всех мокрая. Напрасны наши усилия сняться с коряги при помощи шестов. Что
только ни придумывали! Приходится лезть в воду. Страшновато, но ничего не
поделаешь. Привязываемся веревками. Мы с Трофимом подбираемся под корму, а
Василий Николаевич пытается высвободить нос из-под обломка. Тужимся изо всех
сил и тоже безрезультатно.
Выбираемся на плот. Полчаса прогреваемся. Еще раз лезем в воду...
Остается последнее: разрубить плот пополам. Развязываем груз,
раскладываем его на две части. Трофим рассекает кормовую ронжу. Василий
спускается к обломку, машет топором, наугад нащупывает острием под водою
бревно, а сам синий, трясется.
Вдруг треск. Суденышко раскололось. Меня на семи бревнах отбросило
вправо, вынесло за шиверу. Впереди скала. Слева на берегу вижу собак. Их
надо взять. Нажимаю на шест, бьюсь с течением. Рядом со мною причаливают к
берегу и Трофим с Василием.
Мы вне опасности. Теперь бы скорее к старикам! Они ведь ждут. Но прежде
надо сколотить плот, обогреться. Василия все еще трясет.
Переодеться не во что, груз весь мокрый. Разжигаем костер. Мы с
Трофимом, немного отогревшись, принимаемся за плот. Василий все еще не может
прийти в себя.
Уже вечереет. Почти пять часов отняла у нас эта проклятая шивера.
Теперь мы снова готовы покинуть берег, выйти на струю.
-- Вставай, Василий, пора, -- предлагаю я. -- Старики заждались.
Он поднимает голову, смотрит на меня грустными, как у раненого оленя,
глазами.
-- Что с тобой?
Василий с трудом открывает рот:
-- Ноги отнялись, -- говорит он с ужасающей безнадежностью.
Я и Трофим соскакиваем с плота. Раздеваем его, растираем ноги,
отогреваем их у костра. Они действительно омертвели.
Этого еще нам недоставало!
Но мы не должны задерживаться. Переносим больного на плот, укладываем
его на спальные мешки. Отталкиваемся от берега, и нас подхватывает Мая.
Мы буквально ошеломлены случившимся. Насколько это серьезно с Василием?
И как опасно теперь застрять в шивере! Больной это лучше нас понимает. Он
настороженно караулит долетающий до слуха шум переката и с опаской
поглядывает на мутный поток, несущий на своих горбах плот.
Проплываем скалу. От нее река поворачивает на юг. Здесь у поворота и
выклинивается стрелка, через которую перешли проводники с оленями.
Над нами просторный купол вечернего неба, затянутого побагровевшими
тучами. Спрямленная река, словно сытый удав, молчком уползает в узкую щель
ночного логова. Путь открыт. Мы ищем глазами стоянку стариков, дымок костра,
пасущихся оленей, но, увы, нигде никого не видим. С правой стороны уже
близко синеют скалы, прикрытые темной шапкой хвойной тайги.
Причаливаем к берегу.
Пока Трофим закрепляет плот на ночь, я бегу вниз по гальке. Вот и
затухший костер проводников, взбитая копытами оленей земля, кучи помета и
след ушедшего на стрелку каравана. Возвращаюсь на стоянку.
-- Старики, не дождавшись, видимо, ушли с оленями искать корм. Они же
голодны.
-- Велика ли ночь, потерпят и к утру заявятся, -- говорит Трофим.
Достаю карабин и дважды стреляю в вечернюю мглу. Эхо лениво повторяет
звук и умолкает. Долго нет ответа.
Василий Николаевич тихо стонет. Отблеск костра лижет его загорелое
лицо. На меня смотрят чужие глаза. Какие-то страшные думы погасили в них
живой огонек,
-- Не печалься, Василий, за ночь все пройдет и забудется.
Он отрицательно качает головою.
Мы устраиваем больному мягкую подстилку, заталкиваем в спальный мешок.
Он покорный, словно ребенок. Как больно видеть беспомощность этого человека,
исходившего много тысяч километров тропою исследователя, испытавшего на себе
смертоносную силу пурги, не склонившегося перед неудачей, опасностью,
человека, безмерно любящего жизнь. Нет, он завтра должен встать!..
Утро стекает в ущелье с невидимых хребтов такое же хмурое,
неприветливое, как и вчера. Ветер дико треплет лиственницы. Холодно. Лучше
бы и не нарождался этот день!..
Василий Николаевич лежит на спине, как мы его положили с вечера, с
припухшими от бессонницы глазами. Рядом примостилась Бойка. Она ждет от него
обычной утренней ласки и, улучив момент, лижет его щеку. Но тот не замечает
любимую собаку, смотрит куда-то мимо меня в пустое пространство. Боже, что
сделала с ним эта ночь!
Я опускаюсь к больному.
Он молчит. Бойка поворачивает свою морду и смотрит на меня опечаленными
глазами. Неужели она чутьем угадывает, что у хозяина большое горе?
-- Как твои ноги, Василий?
-- Нет у меня их... -- отвечает он, и я вижу, как дрогнул его
подбородок.
-- А ты не расстраивайся. Давай походим, может, разомнутся, --
предлагаю я.
-- На что становиться буду?
Мы с Трофимом поднимаем больного, но ноги, как плети, беспомощно
виснут, точно где-то разорвались нервные узлы. Василий потрясен. Какими
невероятными усилиями сдерживает он внутреннюю бурю!
Вот и пришла к нам беда нежданно, негаданно!
С беспощадной ясностью чувствуем, как далеко мы от своих и как
необходима нам помощь.
Придется расстаться с рекою.
Не слишком ли дорого взяла с нас Мая за отрезок в несколько километров
пути от Эдягу-Чайдаха? Но это последняя дань. Теперь у нас иная цель --
спасти больного. Сделаем носилки для Василия Николаевича и увезем его на
оленях. Хорошо, что с нами Улукиткан.
Мы развязали веревки на плоту, стащили на берег груз. Его оказалось
слишком много, и половины не поднять на оленях, тем более, что четыре самых
крупных быка посменно будут везти носилки с Василием Николаевичем. Придется
бросить палатки, спальные мешки, часть личных вещей, возьмем только
необходимое для пути через Чагар до устья Шевли, где базируется наша
топографическая партия.
Ждем стариков. Они вот-вот должны появиться. Трофим стружит шесты для
носилок, я готовлю завтрак. Уже давно день. Начинается дождь.
-- Не случилось ли чего со стариками? -- беспокоится Василий
Николаевич.
Неведение становится тягостным. Беру карабин, отправляюсь искать
проводников. Погода мерзкая. На горы ложится темень туч. С востока из-за
отрогов доносится смутный рокот далеких разрядов. Тайга молчит. Мелкий дождь
сыплется редко и однообразно.
Нахожу тропу, свежепроторенную по густому брусничнику. Она выводит меня
на верх стрелки, и тут я натыкаюсь на странное зрелище: мох утоптан, залит
кровью, для чего-то кололи лучину, и на земле лежат обрезки тонких ремешков.
Я не задерживаюсь, старики все объяснят. Спешу дальше. Тропка сворачивает
влево и убегает по стланику на юг. Иду по ней километр, два.
Вижу, впереди стоит олень, обрадовался -- где-то близко стоянка.
Подхожу ближе. Узнаю Баюткана. Удивляюсь: почему он вдруг стал таким
покорным? И тут только замечаю, что у него сломана передняя нога. Он держит
ее высоко, беспрерывно вздрагивая всем телом от боли. Проводники обложили
рану лучинками, перевязали ремешками.
А где же другие олени? Почему нет их следов? Спешу дальше. Никого нет.
Куда идут проводники? Кругом ягельные поляны, много дров, тут бы и ночевать
им! А предчувствие чего-то недоброго растет. Наконец, тропка выводит меня на
кромку правобережных скал, протянувшихся далеко по-над рекою, и уходит
дальше по чаще, оставив позади кормистые места.
-- Ушли! -- вырывается у меня вместе с отчаянием, и я безвольно
опускаюсь на колоду.
Не могу уяснить, как это случилось. Какая обида угнала стариков от нас?
Ведь с ними же нет ни крошки хлеба, ни посуды, ни постели! А может -- и
спичек. Нет, это непостижимо уму!
Слышу позади шорох -- моим следом идет Баюткан, со сломанною ногой. Он
подходит ко мне совсем присмиревший. Я отворачиваюсь, нет сил видеть его
ужасные глаза, переполненные болью. В них боязнь остаться брошенным в
гнетущей тишине мокрого леса.
Я тороплюсь к своим. Следом скачет на трех ногах Баюткан. Он не
поспевает за мною, отстает.
Голова не способна соображать. Бегу...
Меня встречает взволнованный Трофим.
-- У Василия отнялась левая рука.
-- И у меня не лучше новость: проводники ушли от нас.
-- С чего бы это они? Вещи-то их тут.
-- И все-таки ушли.
Василий Николаевич, увидев меня без проводников, встревожился.
-- Где Улукиткан?
-- Ты только не волнуйся, проводники ушли ниже, наверное, там дождутся
нас.
Он не может осмыслить мои слова. Его лицо вытягивается. На щеках
появляются желтоватые круги; голова беспомощно откидывается назад.
-- Нет, нет, ты обманываешь! Что же вы теперь будете делать со мною? --
спрашивает он дрогнувшим голосом.
Вижу, Трофим присаживается к нему, обнимает его голову, прижимает к
своей груди.
-- Успокойся, Василий... Клянусь, мы до конца не бросим друг друга, и
что бы ни случилось -- останемся вместе. Ты веришь мне?
Василий молчит, переполненный ожиданием чего-то ужасного.
-- Это все пройдет, -- утешает его Трофим. -- Может, распогодится, нас
найдет самолет, помогут выбраться.
Более часа мы массируем ему руки и ноги. Другого ничего не можем
придумать. Вся надежда на крепкий организм больного. Он еще сможет вернуть
нам Василия.
Подтаскиваем его поближе к костру и тут обнаруживаем, что и правая рука
ему плохо повинуется: пальцы работают, а поднести к губам ложку не может.
Перед нами не человек, а живой обрубок.
Откуда навалилось на нас столько бед?!
Я кормлю больного с рук. Его рот непривычно ловит теплую лепешку, куски
горячего мяса, долго жует. Пища застревает в горле, он тяжело дышит.
Непрошеные слезы затуманивают глаза, падают с ресниц калеными каплями на мою
руку.
Трофим помогает мне, а сам прячет глаза, давится тяжелыми глотками. И
кажется, сейчас у него эта человеческая боль за друга выплеснется наружу.
Вот-вот вечер накроет ущелье. Посветлевшее небо кропит тайгу остатками
дождя. Решаем плыть, да и нет другого выхода. Видно, не суждено нам уйти от
Маи. Загружаем плот, укладываем беспомощного Василия и отталкиваемся от
негостеприимного берега. Видим, из чащи выходит Баюткан, провожает нас
грустными глазами. Он не понимает, почему люди бросили его...
За правобережными скалами, протянувшимися на много километров,
проводников нет. Река сворачивает влево. Закатные лучи бледными полосами
прорезают высокое небо. За поворотом встречается первая шивера. Василий
Николаевич тревожно прислушивается к реву. Малейшая опасность теперь кажется
ему гибелью.
Прибиваемся к первой таежке, быстро организуем ночевку. Трофим остается
с Василием Николаевичем, а я иду искать проводников.
Их нигде нет -- они ушли от реки. Но почему не дождались нас, не взяли
свои вещи, продукты. У них нет даже куска брезента, чтобы укрыться от
непогоды. Бедные старики, сколько мучений им придется претерпеть!
Ночью у Василия Николаевича неожиданно поднялась температура. Он сразу
ослаб. Мы с Трофимом дежурим. Все трое не спим. Горит костер. Что сказать
больному, чем утешить его?
Теперь ясно -- ему скоро не подняться на ноги, да и поднимется ли
вообще? Надо как можно скорее передать его врачам. Мы должны торопиться!
Покидаем стоянку. Мысли о проводниках отступают от нас, теперь уж не
встретиться с ними. Василий Николаевич просит устроить его на плоту повыше,
чтобы видеть путь. Бойку и Кучума на этот раз привязываем к грузу.
Синеву обширного неба пронизывают лучи солнца. Путь зорко караулит
кормовщик, и его властный окрик «бей вправо», «бей влево» далеко разносит
звонкое эхо. Теперь, когда с нами больной Василий Николаевич, наши глаза
становятся острее, руки сильнее и воля крепче.
Каменная пасть ущелья заглатывает плот. Над нами остается лоскут неба,
повисший на конусах гигантских скал. На угрюмых «лицах» гранитных сторожей
еще лежит ночная прохлада.
Ворчливая река несет наше расшатанное суденышко дальше. В ущелье нет
тишины. Мая, пытаясь спрямить свое русло, подобно гигантскому жернову, день
за днем, год за годом перемалывает камни и плоды своей работы уносит вниз в
виде песка и гальки. Подточенные скалы рушатся, пытаясь запрудить реку, и
тут-то, у каменной свалки, и зарождается нескончаемый грохот воды,
потрясающий ущелье. За миллионы лет Мая сумела зарыться глубоко в материк,
отполировать отвесные берега, воздвигнула на пути сказочные чертоги из
мрамора.
Василия Николаевича тревожит малейший всплеск, скрип плота, даже крик
птицы. Глаза ищут у каждого поворота, у каждого камня опасность, а если что
замечают, по его загрубевшему лицу расплываются бледные пятна, ворот
телогрейки кажется тесным, он вытягивает шею, точно хочет проглотить
застрявший в горле комок, и с напряженностью ждет развязки. Когда же плот
минует опасность, Василий Николаевич впадает в короткое забытье, затем
начинает одной рукой крутить цигарку, но бумага рвется, махорка просыпается.
-- Покурить бы, -- просит он, и я на минуту присаживаюсь к нему.
-- Что ты сторожишь, Василий, сам себя пугаешь? Уснул бы, -- говорю я,
закручивая ему «козью ножку».
-- Боязно мне, понимаешь, в воду опрокинет, без ног, без рук -- чем
отбиваться?
-- Не опрокинет, вода большая, может, сегодня вынесет до устья,
отправим тебя в больницу.
-- Мне теперь не жить. Хуже некуда...
-- Не отчаивайся, еще походим по тайге!
-- Так думаешь? -- и на его лице готовность поверить моим словам.
-- Нос вправо! -- гремит голос кормовщика, подхваченный пробудившимися
скалами.
Я вскакиваю, хватаюсь руками за весло. У Василия Николаевича изо рта
выпадает цигарка...
Где-то близко крутой спад реки. За первой грядой бурунов ничего не
видно. Неужели порог? Мысли не поспевают за событиями. Мы у края. Плот
подхватывает тугой поток воды и со всего разбега набрасывает на валун.
Толчком меня сбивает с ног. Я теряю весло. Взбунтовавшиеся волны
поднимают правый борт плота. В последний момент, сваливаясь в воду, я
пытаюсь поймать Василия, но руки скользят мимо.
Треск, визг собак, человеческий крик в бурунах... Я захлебываюсь,
теряюсь.
Чья-то властная рука ловит меня за волосы в воде. Боль возвращает
сознание. Открываю глаза. Вижу над собой на камне Трофима. Левой рукой он
силится вырвать меня из потока, а правой держит за шиворот Василия. Я не
нахожу в глубине опоры для ног. Хватаюсь руками за скользкие грани обломка,
царапаюсь и кое-как выбираюсь на камень.
С трудом вытаскиваем больного из воды. Он еще жив. Медленно приходит в
себя. Видим, как река уносит за кривун перевернутый вверх брюхом плот, как
бьются в смертельной схватке с потоком привязанные к нему Бойка и Кучум.
С необычайной силой меня охватывает ощущение, что вместе с плотом
уходит от нас жизнь.
Неужели конец?!
V. НА КРАЮ ЖИЗНИ
I. Мы прощаемся с Трофимом. Ночь на камне в бурунах. Три чайки. Перед
половодьем. «Убей и плыви!» Земля, родная земля.
Мы никогда не были такими беспомощными и жалкими, как в первые минуты
катастрофы. Все еще не верится, что с нами не осталось плота, ни куска
лепешки, ни тепла. Мы одни среди мрачных скал, на дне глубокого каньона,
выброшенные Маей на кособокий камень.
Присесть негде. Стоим с Трофимом на краю обломка, удерживая друг друга.
Василий лежит пластом. Он еще дышит. На его лице сгустились тени. В глазах
испуг. Нижняя челюсть отвисла.
Река бушует, кругом все кипит, пенится, ревет. Сквозь водяную пыль
слева виден поворот. Справа реку поджимает крупная россыпь.
-- Проклятье, правее бы надо, тогда бы пронесло, -- досадует Трофим.
Стаскиваем с Василия одежду, выжимаем из нее воду, надеваем на
посиневшее тело. Не знаем, что делать. До берега с больным ни за что не
добраться, не сплыть за кривун, всюду торчат обломки. Но и здесь нельзя
оставаться. Нельзя медлить -- на вершинах скал уже гаснут последние лучи
заката.
Скоро ночь, и тогда...
Надо принимать какое-то решение. Что угодно, любой ценою, лишь бы
выбраться. Опасность теряет значимость. Только безумный риск еще может
изменить обстановку.
Ловлю на себе настороженный взгляд Василия. Он понимает все. Молча ждет
приговора. Его не спасти, это ясно. А как же быть? Бросить на камне живым на
съедение птицам, а самим спасаться?
-- Василий, подскажи, что нам делать?.. Ты слышишь меня? -- кричу я,
силясь преодолеть рев реки.
-- Плывите... а мне ничего не надо... столкните в воду... -- И мы
видим, как он, напрягая всю свою силу, пытается сползти с камня.
Я опускаюсь на колени, обнимаю его мокрую голову. Мы все молчим.
«Столкнуть в воду!» -- страшные слова! Столкнуть Василия, который прошел с
нами сотни преград без жалоб, без единого упрека! Неужели никакой надежды?!
-- Я остаюсь с тобой, Василий. А ты, Трофим, не мешкай, не раздумывай,
раздевайся, плыви, авось, спасешься.
-- Нет!.. У вас семьи, а я один, и не так уж мне везло в жизни....
-- К чему разговоры, -- кричу я, -- раздевайся! Одежду привязывай на
спину. Проверь, хорошо ли упакованы спички.
-- Мне не выплыть.
-- Вода вынесет, а здесь гибель. Снимай телогрейку, штаны... Ну, чего
медлишь!
Он вскинул светлые глаза к небу и стал вытаскивать из тесных сапог
посиневшие ноги.
Я помогаю ему раздеться. Тороплю. А сам плохо владею собой, ничего не
вижу. Надо бы что-то сказать ему. Но ни одной законченной мысли в голове --
они бегут беспорядочно, как беляки на Мае, не повинуясь мне.
Не знаю, что передать друзьям. Как оправдать себя перед семьей? Надо бы
просить прощение у Василия и Трофима за то, что заманил их сюда, на Маю, не
настоял идти через Чагар. А впрочем, зачем, ведь этот опасный путь был нашим
общим желанием,
Вокруг по перекату ходят с гулом буруны, мешая густую синеву реки с
вечерним сумраком. Трофим готов. Я завязываю на его груди последний узел, но
пальцы плохо повинуются мне. Нервы не выдерживают, я дрожу.
-- Торопись!
Он опускается на колени перед Василием, припадает к лицу, и его широкие
плечи вздрагивают.
Напрягаю всю свою волю, призывая на помощь спокойствие, хочу
мужественно проводить человека, с которым более двадцати лет был вместе.
Мы обнимаемся. Я слышу, как сильно колотится его сердце, чувствую, как
тесно легким в его груди, и сам не могу унять одышку.
-- Прощай, Трофим! Передай всем, что я остался с Василием, иначе
поступить не мог.
Трофим шагнул к краю валуна. Окинул спокойным взглядом меркнущее небо.
Покосился на бегущую синеву потока, взбитую разъяренными бурунами. И вдруг
заколебался. Вернулся, снова припал к Василию...
Еще раз обнимаемся с ним.
-- Не бойся! -- и я осторожно сталкиваю его с камня.
Распахнулась волна, набежали буруны, и Трофима не стало видно. В
темноте только звезды далекие-далекие печально светят с бездонной высоты, да
ревут огромные волны в тревожной ночи.
На валуне стало просторнее, но сесть все равно негде. Приподнимаю
Василия, кладу его голову себе на ноги. Холодно, как на льдине. Больного
всего трясет, и я начинаю дрожать. С ужасом думаю, что Василию до утра не
дожить.
-- Уже ночь или я ослеп? -- слышу слабый голос Василия.
-- Разве ты не видишь звезд?
Он поднимает голову к небу, утвердительно кивает.
-- Выплыл?
-- Давно.
-- А ты видел?
-- Как же! Ушел берегом за кривун.
-- Ну-ну, хорошо! Сам зачем остался. -- А ты бы бросил меня в такой
беде? Он долго молчит, потом спрашивает:
-- Значит, никакой надежды?
-- Дождемся утра, а там видно будет, -- пытаюсь утешить его.
-- Дождемся ли?..
Бродячий ветер трубит по ущелью, окатывает нас водяной пылью. Поток
дико ревет. Что для него наша жизнь -- всего лишь минутная забава.
Теперь, немного освоившись с обстановкой, можно здраво оценить
случившееся. Поздно раскаиваться, сожалеть. Думаю, что всякая борьба
безнадежна. Мы попали в такое положение, когда ни опыт, ни величайшее
напряжение воли, ни самое высокое мужество не могут спасти ни меня, ни
Василия. Обстоятельства оказались сильнее нас. Только бы сохранить в себе
спокойствие!
Василий дремлет. Вот и хорошо! Пусть на минуту забудется... Томительно
и долго тянется ночь. Я мерзну, дрожу. Туча гасит звезды. Становится жутко в
темноте, под охраной беляков. И все время сверлит одна мысль: почему не
послушал Улукиткана, не пошел через Чагар. Но разве мог я иначе? Разве можно
задержать выстрел, если боек ударил по капсюлю?
Затихает и снова оживает южный ветерок. Он наносит запах хвойной тайги.
И кажется, плывет этот терпкий дух из родных кавказских лесов. Вижу, точно в
яви, костер под старой чинарой. Там впервые с ребятней мы жгли смолевые
сучья. Там в детских грезах раскрывался нам загадочный мир. Там, под старой
чинарой, у тлеющего огня, родилась неугомонная мечта увидеть невиданное. Это
ты, угрюмый лес моего детства, научил меня любить природу, ее красоту,
первобытность. Ты привел меня к роковому перекату. Но я не сожалею...
Меня вела к развязке всепоглощающая страсть. Это было не безотчетное
влечение, не спорт, а самое заветное стремление -- подчинить природу
человеку.
Тучи сваливаются за скалы. Падучая звезда бороздит край темного неба.
Улукиткан непременно сказал бы, что это к удаче. Он умел всегда находить в
явлениях природы что-нибудь обнадеживающее, и это помогло ему жить. . Хочу
поверить, что упавшая звезда к счастью.
-- Ты не спишь? -- слышу голос Василия. -- Какая долгая ночь!
Я молча прижимаю голову друга. Молчим потому, что не о чем говорить.
То, чем жили мы до сих пор, о чем мечтали, покинуло нас. Не осталось ни
весел в руках, ни экспедиционных дел, ни связи с внешним миром. Казалось,
жизнь замерла, как замирают паруса в минуту вдруг наступившего штиля.
Часы текут медленно. О, эта долгая ночь, холодная и неумолимая! Хочу
забыться, но не могу отрешиться от темных мыслей, слишком велика их власть
надо мною. Злой ветер проникает в каждую щелку одежды. Ужасное состояние,
когда промерзаешь до мозга костей, когда негде согреться. Я втягиваю голову
в воротник, дышу под фуфайку и закрываю глаза с единственным желанием уйти
от действительности.
Слышу -- со скалы срывается тяжелый обломок и гулом потрясает сонное
ущелье. Из-за кривуна высовывается разбуженный туман. Качаясь, он взбирается
на осклизлые уступы, изгибается, плывет. Вверху сливается с тусклым небом,
внизу бродит вокруг нас, мешаясь с бурунами, оседая на нашей одежде водяной
пылью. И от этого становится еще холоднее...
Нет, не уснуть...
В мыслях царит хаос. Я потерялся, не у кого спросить дорогу. Сколько бы
ни звал я сейчас своих близких друзей, они не придут на помощь. Я один с
больным Василием, на краю жизни.
Опять слышу грохот. Вероятно, забавляется медведь, Где-то в вышине, за
туманом, за верхней гранью скал, рассвет будит жизнь. Живой поток воды
проносится мимо, словно гигантские качели в бесконечном взлете.
Над нами, чуть не задевая крыльями, пролетает пугливая стайка уток.
Туман сгущается, белеет. Утро заглядывает в щель.
-- Холодно, не чувствую себя. Согреться бы теперь перед смертью, -- и
Василий крепко прижимается ко мне.
-- Скоро солнце поднимется, отогреемся и непременно что-нибудь
придумаем, -- стараюсь я успокоить Василия.
-- Ты не заботься обо мне. Не хочу жить калекой. Плыви сам...
-- Никуда я от тебя не поплыву. Еще не все, Василий, потеряно. Наступит
день...
-- Ты бы повернул меня на бок, все застыло, -- обрывает он разговор.
Вид у него ужасный: по черному, обветренному лицу проступили желтые
пятна, и какие-то новые линии обезобразили его. В глазах полнейшая
отчужденность. А ведь совсем недавно это был человек, да еще какой человек!
Наверху все больше светлеет. Назад, за кривун, торопится туман.
Обнажаются выступы скал, рубцы откосов, небо, освещенное далеким солнцем.
Перекат бушует. Страшно смотреть, как обрушивается поток на острые клыки
обломков, разбивается в пыль и, убегая за кривун, бросает оттуда свой
гневный рев.
Вижу, за перекатом, в заводи, плывет что-то черное. Присматриваюсь --
да ведь это, кажется, шляпа Трофима! Не может быть! Не хочу верить. С трудом
поднимаюсь на ноги. Нет, не ошибся -- его шляпа, Неужели погиб?!
-- Куда ты смотришь, что там? -- слышу тревожный голос Василия.
-- Утка черная плывет за перекатом.
-- А я думал, Трофима увидел...
-- Что ты, он теперь далеко.
-- Вот уж и далеко! Без плота и без топора ему никуда не уйти.
-- Наш плот не должно далеко унести перевернутым.
-- Может, и застрял, -- соглашается он.
-- Что это у тебя, Василий, с нижней губой?
-- Опухла что-то...
-- Да ведь ты ее изжевал! Зачем это?
-- Сам не знаю. Кажется, будто трубка в зубах.
Я отрезаю ватный кусок от полы фуфайки, кладу ему в рот и только теперь
вижу его поседевшую за ночь голову. Лицо сморщилось, на лбу глубокие
борозды, точно сабельные шрамы, нос заострился. В глазах выражение
ужасающего безразличия, как у мертвеца. Меня это пугает.
Небо безоблачное, синее-синее. На курчавый кант правобережной скалы
упали первые лучи восхода. Все засверкало чистыми красками раннего утра.
Василий лежит на мокром камне, следит, как с верхних уступов спускаются
в глубину ущелья первые лучи. Временами он переводит взгляд на облачко,
застрявшее посредине синего неба... А сам жует ватный лоскут.
-- Покурить бы, -- просит он.
-- Потерпи немного. Солнце пригреет, я высушу бумагу, табак, и ты
покуришь.
Вот и солнце! Я чувствую его теплое прикосновение, вижу, как лучи,
падая в воду, взрывают ярким светом кипящую глубину переката. Не последний
ли день? Я хочу встретить его спокойно. Ах, если бы можно было вытянуть
ноги!..
Чтоб отвлечься от мрачных мыслей, вытаскиваю из кармана кусок лепешки,
пригибаюсь к Василию. Он покорно откусывает мокрые краешки и долго жует. Его
лицо от работы челюстей перекашивается и еще больше морщится.
Я обнимаю Василия. Вместе теплее. Сидим молча. Движение требует меньше
усилий, чем слова. «Стоит ли сопротивляться?» -- и я вздрагиваю от этой
страшной мысли.
-- Глянь, дождевая туча ползет! -- сокрушенно говорит Василий.
Я поднимаю голову. Брюхастая туча высунулась из-за скал, заслонила
полнеба. Ее передний округлый край снежно-снежно-белый, весь освещенный
солнцем. А нижний свинцовый, и от этого, кажется, что туча перегружена.
-- Она пройдет стороной, не заденет, -- стараюсь успокоить больного.
И вдруг могучий удар грома потрясает твердыню скал от подножья до
верхних зубцов. Даже перекат, оглушенный разрядом, казалось, замер. Словно в
испуге, затрепетала одинокая лиственница на ближнем утесе, и со свистом
пронесся за кривун табунчик куличков. В глазах Василия страх. Он сглотнул
нежеваные крошки, долго смотрел на меня в упор, ждал ответа, как приговора.
-- Не тревожься, Василий, -- говорю, -- туча пройдет стороной.
-- Нет, не обманывай. Плыви, пока нет дождя. Но не бросай меня живым на
камне.
Я не знаю, что сказать.
Его угловатое лицо становится изжелта-бледным. Обескровленные, как у
тифозника, губы бессильно шепчут:
-- Дождь будет, ради наших детей плыви...
Бесполезно возражать. Мне становится страшно при мысли, что я ничем не
могу помочь ему. А лицо все больше блекнет. Он стонет. Как тяжело ему
прощаться с жизнью!
Я укладываю Василия себе на ноги и сижу молча. Теперь наше
существование зависит от туч. Пронесутся они мимо, и мы будем обречены на
ужасную, медленную смерть. Если же тучи разразятся проливным дождем, тогда
поднимется вода, слижет нас с камня, упрячет в глубине водоема. При мысли,
что это может случиться через час-два, меня охватывает страх, я теряю
самообладание...
Больной прижимается ко мне головою. Рот у него полуоткрыт. Он силится
сложить какие-то слова, губы кривятся. Я запихиваю ему в рот остаток
лепешки, не могу слышать его голос, видеть его отчаяние. Чувствую, на мои
руки падают горячие капли. Он плачет и медленно жует.
От туч в ущелье потемнело. Издалека неумолимо надвигается на нас рокот
непогоды. Налетает ветер. Он выносит из-за кривуна белую чайку. Глубокими
вздохами наплывает на нас ее одинокий крик. Видим, как взмывает она над
бурунами. Все ближе и ближе. Вот птица уже над нами. Падает на гребни волн,
исчезает в текучих буграх, и снова холодный ветер качает ее. Она кричит,
предупреждая нас о ненастье.
«Кии-е... кии-е...» -- все дальше и дальше уплывает тревожный крик
вестника бури.
Ветер вдруг переменился, задул яростнее. Свинцовая туча надвинулась. За
отрогами, по верховьям Маи, хлестал дождь, сопровождаемый раскатами грома.
Сразу резко похолодало, словно распахнулись двери гигантского ледника. Гул
нарастал, мешался с ревом переката. Что-то заговорщически копилось над нами
в небесной черноте.
Не могу избавиться от страха. Я, как слепой щенок, не знаю, куда
уползти от него. Страх диктует: брось Василия, спасайся сам. Но руки ловят
больного, прижимают к груди... и ко мне возвращается разум. Призываю на
помощь мужество, хочу встретить спокойно свой конец.
-- Дождь! -- говорит Василий, и его начинает всего трясти.
Черное небо залохматилось, распахнулось глубоченной бездной, и на землю
с тяжелыми разрядами свалились потоки дождя. Молния рвала тучи. Промежутки
между холодными вспышками и грохочущими раскатами становились все короче.
Грозная стихия завладела ущельем. Налетевший ураган вздымал буруны, и скалы
отвечали ему низкой октавой.
Василий пугливо вздрагивает от каждого удара грома, жмется ко мне,
скребет заскорузлыми пальцами шероховатую поверхность валуна, ищет опоры,
чтобы подняться.
-- Дождь пройдет... пройдет стороною! -- упрямо кричу я.
-- Вода прибывает, ты видишь? -- и он нацеливается на меня исступленным
взглядом.
-- Немножко, кажется, прибывает.
-- Ну чего ты ждешь, плыви, может, спасешься, -- и голова Василия
беспомощно виснет.
Вода потеряла прозрачность, потекла быстрее. В мутной завесе дождя
растворились берега, скалы, отроги. Все исчезло. Только одни мы на камне под
гневным небом, оглушенные непрерывным грохотом.
Я приподнимаю Василия, хочу сказать что-нибудь ласковое, утешить его,
но спазма перехватывает горло, слова выпадают из памяти. Чувствую -- снова
мною овладевает страх. Он проникает в кровь, парализует волю. И нужна вся
сила разума, вся его сосредоточенность, чтобы не поддаться ему. Нужно плыть,
немедленно плыть! Пусть конец придет в борьбе...
Я встаю. Немилосердо хлещет дождь. Река прибывает, давит на перекат,
роет мелкий гравий, а волны, разбиваясь о камни, бросают на берег желтую
вату пены.
-- Что там? -- спрашивает испуганно Василий и поворачивает голову
навстречу помутневшему потоку.
-- Успокойся!..
-- Смотри, вода идет! -- и он неповинующейся рукой пытается поймать мою
ногу. -- Богом прошу, не бросай живым, убей лучше...
-- Перестань, Василий, никуда я от тебя не поплыву.
Он жмется ко мне. Мы оба боимся смерти. Оба хотим жить. Но власть
стихии неодолима, и мы оба ждем ее приговора.
Набегающие буруны уже захлестывают камень. Скоро они накроют весь
перекат...
Тучи уползают на юг, за отроги, вместе с громом. Дождь заметно слабеет.
Косые лучи солнца, прорвавшиеся к земле, ложатся на омытые скалы. Мы оба до
ниточки мокрые.
Мая прибывает. Достаю из-за пазухи дневник, хочу сделать последнюю
запись. Раскрываю его. Дрожащая рука с трудом выводит: «Мы погибаем».
Как передать людям дневник? Эта потрепанная, старенькая книжка --
летопись трудных дней, наш прокурор, и наш защитник. В кармане оставить
нельзя -- вода обычно раздевает утопленников. Разве к ноге привязать?
Стаскиваю левый сапог, разрываю портянку и прибинтовываю дневник к
ноге.
Река распухла, как будто присмирела, накрыла перекат. Плывет мусор,
мелкий валежник. Еще несколько минут...
До слуха долетает шум. Вскидываю вверх голову. Взбивая воздух сильными
крыльями, пугливо откачнулась от берега стая серых гусей, миновала кривун и
с громким криком стала набирать высоту.
Дрогнуло сердце при виде вольных птиц. В их трубном кличе могучий
призыв к жизни, ликующий голос свободы.
-- Что же ты медлишь? -- шепчет Василий.
-- Может, большую корягу нанесет, и мы поймаемся за нее...
Меня вдруг обнадеживает эта мысль. А что если действительно уплыть на
коряге! Сбрасываю с себя в реку сапоги, фуфайку. Так будет легче держаться
на воде. Но как взять с собой больного? Он поворачивает ко мне лицо,
обтянутое иссиня-желтой кожей, со впалыми глазницами. Из их темной глубины
смотрят малюсенькие глаза. В них то же самое, что и в крике гусей, -- жажда
жизни.
-- Успокойся, Василий, я привяжу тебя к своему поясу, и мы поймаемся за
наносник.
Снимаю ремень, привязываю один конец к ремню Василия, другой
пристегиваю к своей левой руке повыше кисти. Теперь мы связаны. Больной
успокаивается, и его взгляд мякнет, словно он этого ждал.
Вода стала прибывать быстрее. Гуще понесло деревья. Они проплывали в
одиночку и купами, но все на недоступном для нас расстоянии. Уже заливает
камень. Я держу Василия. Оба в воде. Меня всего трясет -- нервы вышли из
повиновения.
Из-за кривуна выплывает огромная лиственница. Вначале показалась
вершина, унизанная обломками сучьев, затем ствол с корневищем. Дерево
медленно разворачивается на повороте, нацеливается на нас. Мы ждем его. Будь
что будет!..
Василий смотрит на меня совершенно бессмысленными глазами. Вижу, его
правая рука шевелится, тянется к ножу. В этот момент слух поражает крик. Что
бы это значило? Но мысль приковывает лиственница. Она наплывает на нас
острой вершиной, точно рогатина. Остается метров сто... шестьдесят...
сорок... И вдруг животный страх захватывает меня. Не могу сдвинуться с
места. В нервном припадке прикусываю нижнюю губу, и острая боль пробуждает
сознание.
Хватаю Василия, подтаскиваю к краю камня. Ни раздумий, ни страха.
Лиственница рядом. В последнюю, роковую минуту ловлю обезумевший взгляд
Василия.
-- Ради бога не теряйся! -- и меня подхватывает мутный поток.
Цепляюсь за первый попавшийся сук. Подтягиваю левую руку, чувствую
слабину и с ужасом замечаю, что со мною нет Василия. Не могу сообразить, как
это случилось. Ищу его ногами в воде, кричу.
Вижу, на левой руке болтается кусок перерезанного ремня. Когда же он
успел это сделать?
С трудом перебираюсь на ствол. Оглядываюсь. Василий остался на камне.
Хочу попрощаться, но рот не разжимается. Ничего не соображаю. Меня несет по
глубокому каньону, прикрытому лоскутом вечернего неба. Берега залиты водой.
За поворотом лобовая скала. Лиственница со всего разбега ударяется в нее,
застревает, вершиной разворачивается и перегораживает русло. Поток сносит
меня, бросает в буруны. Бьюсь с течением, хватаюсь за мелкий наносник. Он не
выдерживает тяжести, тонет. Судорога сводит ноги. Рукам все труднее
удерживать отяжелевшее тело. Начинаю захлебываться. К счастью, меня наносит
на очередную скалу, хватаюсь за выступ.
Течение помогает мне выбраться на карниз и кое-как закрепиться. Сижу,
согнувшись, свесив ноги в воду. Нет ножа. Не помню, когда сбросил с себя
гимнастерку, и с нею уплыли спички. Не могу согреться, точно на мне ледяной
панцирь. Весь дрожу. Вот, кажется, и последний приют на этой беспокойной
земле!
Мимо несутся смытые паводком деревья, пласты земли. Вижу, на обломке
тополя плывут три куличка. Они держат путь на юг, туда, где нас ждут друзья.
За куличками, явно чего-то испугавшись, пробегает по воде выводок крохалей.
Их нагоняет продолжительный крик. Кажется, я слышал его еще на камне. Не от
этого ли бегут крохали?
Гул надвигается непрерывной волной, все ближе, яснее. Может, медведь
попал в беду или сохатого придавило наносником?
Нет, кажется, человек кричит. Неужели Василий плывет. на валежнике и.
зовет меня?
Хочу приподняться. Страшная слабость. И вдруг все смолкает. Только река
шипит, перетирая песок, да гулко стучат голыши, уносимые водой.
Жду...
Не галлюцинация ли это?
-- У-гу-гу! -- снова доносится до слуха.
Вижу, из-за кривуна появляется силуэт полуголого человека. Он стоит во
весь рост, работает шестом, правит саликом.
Я срываю с себя рубашку, машу ему белым лоскутом,
-- Сюда, Трофим, сюда! -- И могучий инстинкт жизни захватывает меня.
Дуновение ветерка кажется материнской лаской.
-- Прыгай, иначе пронесет! -- доносится голос Трофима.
Меня ловит отбойная волна. Не знаю, откуда сила взялась: руки машут,
ноги отгребаются, Хватаюсь закоченевшими пальцами за салик, и теперь никакая
сила, даже смерть, не оторвет их от бревна. Трофим помогает мне выбраться из
воды.
Губы забыли, как складывать слова. Смотрю на живого Василия, на
улыбающегося Трофима, и страшное ощущение близости смерти пропадает. Мы
снова вместе. Нас несет река. По небу пылает закат. Мимо бегут розовеющие
скалы. Ко мне возвращается ощущение бытия.
Трофим в моих глазах -- исполин. Он превзошел себя. Преодолел
невероятное. Я не могу оторвать от него взгляда.
А он нагибается, левой свободной рукой обнимает меня. Его горячее
дыхание обдает мое лицо.
-- У первой таежки заночуем, отогреемся, а сейчас потерпите, --
успокаивает он нас.
У ног Трофима лежит мокрой горкой Василий, кое-как завернутый в
одежонку, с обрезанным ремнем на поясе. Из-под тяжелых бровей смотрят на мир
малюсенькие глаза. Они никого не узнают, ничего не видят, может, еще и не
знают, что приговор отменен и смерть отступила.
Река вспухла, подмяла под себя перекаты, уползает в невидимую даль
ворчливым зверем. Путь открыт. Скалы уже кутаются в мутный завечерок.
-- Не ты ли, Трофим, на заре камни сталкивал со скалы?
-- Слышали?
-- Да. Но нам и в голову не пришло, что это ты. На медведя свалили,
дескать, он забавляется. А утром увидел в заводи твою шляпу, решил, что не
выплыл.
-- Тут прозевай -- и смерть подберет! -- смеется Трофим и торопливо
рассказывает: -- На берегу вспомнил, где-то мы выше камня наносник
проплывали, решил вернуться к нему. Думал, успею до большой воды приплыть к
вам, да не сразу в лесу без топора обернешься. Огнем салик делал, замаялся.
И, как на грех, после дождя вода сразу стала прибывать. Кое-как связал
бревна, а сам кричу, может, догадаются. Вытыкаюсь из-за последнего поворота,
вроде место знакомое, а переката нет, затопило. Гляжу, Василий. Уже
нахлебался. Поймал я его и дальше, а сам реву, голос вам подаю...
-- Значит, твоя вина, Трофим, что из нас не получилось утопленников!
Огромная, всепоглощающая, острая до боли, радость заполняет меня. Да,
мы спасены! Один из нас оказался сильнее обстоятельств, совершил это чудо.
Впереди становится просторно. За кривуном слева выплывает таежка. Мы
подгребаемся к ней. Трофим соскакивает в воду, задерживает салик. Я
чувствую, как с разбегу крайнее бревно ударяется о каменистый берег.
Земля!..
Какой желанной стала для нас она! Только тот, кто был захвачен ураганом
в море, лишился корабля, испытал на себе могущество морской стихии и после
долгих, очень долгих дней чудом был выброшен на землю, тот поймет наше
состояние. Оно не поддается перу, кажется за пределами человеческой радости.
Я валюсь на замшелый бугорок, обнимаю его голыми руками. Вдруг
сделалось легко-легко, словно я прильнул к материнской груди.
Земля, ты тут, заступница наша!..
Ко мне подходит Трофим, помогает подняться, и мы долго стоим обнявшись,
как никогда близкие друг другу.
-- Если и есть что прекраснее природы, и даже мечты, так это Человек!
-- и я еще крепче обнимаю Трофима.
Недалеко от берега находим старую ель, гостеприимно разбросавшую вокруг
ствола разлапистые ветки. Здесь сухо, не так дует и на всех хватит места.
Мы переносим Василия Николаевича с салика под ель. Укладываем на мягкий
мох. Он молчит. Не чувствует под собою земли, не узнает нас. Раздеваем его,
начинаем энергично растирать руки, ноги, грудь, спину.
У нас нет запасной одежды, ни постелей, ни куска хлеба. Но с нами
сейчас будет костер, наш старый верный друг.
У человека случается такой период, когда ему во всем везет, все ему
дается, один за другим следуют блестящие дни удач. Мы, кажется, переживаем
этот период. Какая-то добрая рука, хотя и с великим трудом, отводит от нас
несчастье. Мы еще живы!
Василия одеваем в сухую одежду Трофима. Больной все еще в полузабытьи.
Кусок ремня на поясе снятых с него брюк живо напоминает последний момент на
камне, и меня захватывает чувство гордости за Василия. Он жертвовал собой
ради спасения товарища -- ну как не позавидуешь!
Мы с Трофимом разжигаем костерок, начинаем таскать дрова.
По ущелью клубится дымчато-серый туман. Солнце, чувствуется, уже
садится за вершинами далеких отрогов. Сразу становится холоднее,
Я бреду лесом, собираю сушник. Будто сто лет я не ходил по земле, не
видел этих темных задумчивых елей, не дышал хвойным ароматом тайги, не
слышал перезвона холодного ручейка, падающего с невидимой высоты на дно
ущелья. Осторожно ступаю босыми ногами по зеленому мху, боюсь нарушить покой
наступающей ночи.
Перешагиваю через валежник, из-под моих ног с оглушительным треском
взлетает рябчик. Быстро работая крыльями, он откачнулся в сторону,
промелькнул между стволов и с шумом уселся на сучок молоденькой лиственницы.
Хорошо бы на ужин добыть рябчика, вот был бы пир! Беру сухую кривулину,
с полметра длиною, и начинаю осторожно подкрадываться к птице. А сам думаю,
какая наивность -- палкой убить рябчика. Но голод ничего не признает. Не
успеваю сглатывать слюну. Вот и намеченный ствол осины. Подбираюсь к нему.
Выглядываю. В лесу густой вечерний сумрак. Долго шарю глазами по
лиственнице, но рябчика не вижу. Улетел! Поднимаюсь. Выхожу из засады. И
вдруг обнаруживаю его почти над головою. Он видит меня и не снимается в
ветки. Нет, это не рябчик.
Неужели каряга?!
Присматриваюсь. Да, это действительно каряга.
Зову Трофима.
-- Смотри, счастье какое попалось! -- и я показал рукой на птицу.
-- Каряга! Надо сдернуть ее, а то улетит.
Мы знаем, что у этой птицы нет страха.
Она вытягивает шею, вертит головою то в одну, то в другую сторону, с
любопытством рассматривая пришельцев.
Трофим торопится вырезать длинную хворостину. Я ссучил веревочку из
волокна жимолости и петлей привязываю к тонкому концу хворостины.
А каряга не улетает. Она сидит на толстом сучке, метрах в трех от
земли, нервно переступая с ноги на ногу. Трофим подносит вершинку хворостины
к птице, и совершается чудо: каряга просовывает в петлю свою краснобровую
головку, будто так она делала уже много раз.
Трофим рывком захлестнул петлю, и доверчивая птица повисла на
хворостинке, хлопая крыльями.
С добычей возвращаемся к Василию Николаевичу. Сегодня у нас будет
чудесный ужин. Все за то, чтобы сварить суп.
В небе угасает день. Желтый свет бродит по легким облачкам, похожим на
пыль, поднятую пробежавшим вдали табуном. В воздухе разливается какая-то
грусть. Наступает час покоя. Гортанный крик ворона кажется последним
звуком...
Мы с воодушевлением продолжаем устраивать свою ночевку. Надо сделать
заслоны от ветра, натаскать мху для подстилок и утолить голод. Но у нас нет
ни топора, ни посуды, к тому же я полуголый: ни рубахи, ни сапог, ни
фуфайки.
Через час мы сидим у костра, окруженные невысокой стеной из еловых
веток. Тепло. На вешалах сушится одежда Василия. Где-то внизу шумит усталая
река. Василий Николаевич лежит близко у огня, хватает затяжными глотками
горячий воздух. По загрубевшему лицу расплылись бесконтурные пятна румянца.
Я сижу рядом с ним. Делаю из березовой коры чуман. В нем мы сварим суп
и попытаемся разделаться с нашим последним врагом -- голодом. На душе
затишье, никаких забот. Экспедиционные дела где-то бродят стороною. Не
верится, что мы вместе, что наши жизни снова обласканы теплом. О завтрашнем
дне неохота думать.
Трофим ощипал карягу, порубил ее на мелкие кусочки. На этот раз ничего
не выбрасывается: ни крылышки, ни лапки, ни внутренности -- все съедобно!
Теперь задача сварить суп в берестяной посуде.
Хорошо, что с нами последние годы жил мудрый старик Улукиткан. Его
уроки не пропали даром. Мы многому научились у него и не чувствуем себя
беспомощными в этой обстановке.
Я достал из огня заранее положенный туда небольшой камень, хорошо
накаленный, опустил его в чуман. Нас обдало густым паром. Суп вдруг
забулькал, стал кипеть, выплескиваться из посуды. Над стоянкой расплылся
аромат мясного варева.
Пока я готовил суп, Трофим смастерил Василию Николаевичу трубку из
ольхи с таволожным чубуком. Любуясь, он долго вертит ее перед глазами.
-- Ну, как, Василий, нравится? -- спросил мастер, показывая ему свое
изделие. -- Сейчас табачок подсохнет, я ее заправлю, и ты разговеешься.
На лицо Василия Николаевича, освещенное жарким пламенем, набежала
улыбка, но тотчас же исчезла.
Ночь. Темнота проглотила закат, доверху захлестнула ущелье. Все
угомонилось. Только огонь с треском перебирал сушник да Мая, неистовствуя,
злобно грызла берега, дышала на стоянку холодной влагой.
-- Получай трубку, Василий. Дымит -- по первому разряду. Только уговор
-- губу не жевать. Слышишь? -- сказал строго Трофим.
-- Рад бы, Троша, да памяти нет. -- Это были его первые слова.
-- А ты не поддавайся. Беда -- как утренний гость, ненадолго пришла.
Вот доцарапаемся до устья, отправим в больницу, и гора свалится у тебя с
плеч.
Василий Николаевич молчит. Слишком глубоко проникло в сознание жало
безнадежности. Он, так же как и мы, понимает, что путь далеко не окончен и
река таит еще много неожиданностей.
Я сделал из бересты три маленьких чумана, емкостью на стакан, вместо
кружек, и мы начинаем свой пир.
Трофим кормит Василия Николаевича. Тот медленно жует белое мясо, дробит
крепкими зубами косточки, прихлебывая пресный бульон. От каждого глотка на
его морщинистой шее вздуваются синие прожилки. С болью гляжу на его худые
ключицы, на усталые грустные глаза, на безвольные руки, поседевшую голову.
Дорого же ты Василий, заплатил за этот маршрут! И еще неизвестно, чем все
кончится, сколько еще впереди километров, кривунов, перекатов. Может быть,
наступившая ночь -- всего лишь передышка перед новыми испытаниями? А
впрочем, зачем омрачать наше настоящее, добытое слишком дорогой ценою? Мы
живы, все вместе -- это главное.
Укладываем Василия Николаевича поближе к костру, укрываем с тыльной
стороны фуфайками. Под голову кладем чурбак, и больной погружается в
глубокий сон.
Настал и наш черед. Трофим делит мясо, разливает по маленьким чуманам
суп. Как все это соблазнительно! Каким вкусным кажется первый глоток
горячего бульона! Точно живительная влага разлилась по всему телу, и ты
добреешь: а что, не так уж плохо в этом неприветливом ущелье!
Наш суп, сваренный без соли, необычным способом, прогорк от камней,
пахнет банным веником. Но мы энергично уплетаем его за обе щеки, сдабривая
всяческой похвалой. Тупая боль голода отступает, так и не исчезнув совсем.
Трофим моет «посуду». Я достаю дневник. Раскрываю мокрые страницы. С
тревогой читаю последнюю запись: «Мы погибаем!»
Беру карандаш, пишу:
«Думаю, худшее осталось позади. Мы не способны на повторение
пройденного. Утром отправимся дальше. Мая здесь многоводнее, меньше
перекатов, да и уровень воды все еще высокий, может, пронесет. Если бы
природа подарила нам один солнечный день, только один, наверняка нас
обнаружили бы сверху. Где вы, друзья? Неужели вас нет близко впереди?»
Теперь спать. Никакое блаженство не заменит сна. Неважно, что нет
спального мешка и нечем укрыться. Как хорошо, что с нами рядом костер и нет
поблизости проклятых бурунов. Припадаю к влажной подстилке, подтягиваю к
животу ноги, согнутые в коленях, голову прикрываю ладонью правой руки, --
мною властно овладевает сон. Засыпая, на мгновение вспоминаю проводников.
Где-то они, бедняги старики, мытарят горе?
Бесконечная, окутанная дымкой, глубокая ночь. Меня осаждают две
непримиримые воздушные струи -- жаркая -- от костра, холодная -- от реки. Я
верчусь, как заведенная игрушка, отогреваю то грудь, то спину, но не
пробуждаюсь в силу давно укоренившейся привычки.
И все же холод берет верх. Начинается самое неприятное -- не могу найти
такое положение, чтобы согреться. Ноги, завернутые в портянки, леденеют, да
и пальцы на руках скрючились, как грабли, не разгибаются. Я собираю всего
себя в комочек, дышу под рубашку, но и внутри уже не остается тепла...
Вскакиваю. Вижу, у костра Трофим разучивает какой-то замысловатый
танец. Бьет загрубевшими ладонями по животу, выглядывающему из широкой
прорехи в рубашке, весь корчится, словно поджаривается на огне. Я
присоединяюсь к нему, пытаюсь подражать, но ноги, как колодки, не гнутся,
отстают в движениях.
-- Видно, не согреться, кровь застыла, сбегаю за водой, -- и Трофим
хватает чуман, исчезает в темноте.
Буквально через две минуты мы с ним уже пьем чай, и тепло медленно
разливается по телу. Теперь можно и спать.
II. Авось, придет Берта. Что с тобою, Трофим? Самолет, ей-богу,
самолет!
В полночь меня будит крик, кто-то зовет, но я не могу проснуться.
-- Собака воет, -- наконец слышу голос Василия Николаевича.
Вскакиваю. Пробуждается Трофим. Снизу, из-за утеса, доносится тревожный
вой. Его подхватывают скалы, лее, воздух, и все ущелье заполняется тоскливой
собачьей жалобой.
-- Кто же это? -- спрашивает Трофим.
-- Берта, больше некому. Бойку и Кучума -- поминай как звали! --
отвечаю я.
-- У-гу-гу-гу... -- кричит тягучим басом Трофим.
Мощное эхо глушит далекий вой, уползает к вершинам и там, в холодных
расщелинах, прикрытых предутренним туманом, умирает. Все стихает. Дремлют
над рекою ребристые громады, не шелохнется воздух. И только звезды живут в
темной ночи.
Мы подбрасываем в костер головешки. Присаживаемся к огню. Воя не
слышно.
-- Не надо было привязывать собак, -- говорит с упреком Василий.
-- Много мы тут дров наломали! Кого винить? -- отвечает невесело
Трофим.
-- Не будем оглядываться, -- вмешиваюсь я в разговор. -- Давайте
подумаем, что делать нам дальше: продуктов нет, каряга больше не попадется,
а до устья, наверно, далеко.
-- Может, придет Берта, -- отвечает Трофим, поворачиваясь ко мне.
-- Как тебя понимать?
-- Как слышите. Мы действительно можем рассчитывать только на Берту.
Конечно, ради удовольствия никто не будет есть собаку, да еще такую худущую,
как она.
Где-то далеко в вышине загремели камни. Мы поднялись. Еще ночь. Густой
туман лег на горы, заслонил небо. Кто-то торопливыми прыжками скачет по
россыпи, приближаясь к нам. Мы обрадовались.
-- А может, Бойка или Кучум?
-- Нет, Трофим, на этот раз, коль так складываются наши дела, пусть
будет Берта, -- ответил я и вышел за загородку.
Стук камня сменился лесным шорохом. Вот недалеко хрустнула веточка,
послышалось тяжелое дыхание. Берта, вырвавшись из чащи, вдруг остановилась,
осмотрела стоянку, завиляла хвостом. Затем, стряхнув с полуоблезлой шкуры
влагу, стала шарить по стоянке. Тщательнейшим образом обнюхала все закоулки,
щелочки, заглянула под дрова. Конечно, Берта догадалась, что у нас на ужин
была каряга. Но где же внутренности, кости?
-- Напрасно, Берта, ищешь, ничего нет и не предвидится. Тебе бы лучше
уйти от нас, как-нибудь проживешь в тайге, может, с людьми встретишься, а с
нами и двух дней не протянешь. Ты понимаешь меня, собачка? -- И Трофим вдруг
помрачнел от набежавших мыслей.
Берта долго смотрела на него голодными глазами. Затем уселась возле
костра на задние лапы, стала тихо стонать, точно рассказывала о чем-то
печальном, нам не известном, а возможно, сожалела, что напрасно потратила
столько усилий, разыскивая нас.
-- Ладно, Берта, чтобы ты не думала плохо о людях, я тебя угощу, --
снисходительно сказал Трофим. -- С вечера оставил для Василия ножку от
каряги, мы ее сейчас разделим: ему мясо, а тебе косточку. Хорошо?
По тону ли его голоса, или по каким-то признакам, неуловимым для нас,
Берта вдруг повеселела, завиляла хвостом. Она подошла к нему, просящая,
ласковая, и уже не отвертывала от него своего взгляда, наполненного
преданностью и рабским смирением.
Трофим снял с дерева чуман. В нем действительно лежало мясо, что при
дележке досталось ему. Пока он отдирал от костей мякоть, Берта извивалась
перед ним, точно индийская танцовщица.
Что ей косточка, один раз жевнуть не хватило!
«Ки-ээ... ки-ээ...» -- повисает в воздухе крик чайки.
Я встаю. Редеет мрак вспугнутой ночи. Глухой шум реки, точно рокот
старой тайги, разбуженной ветром, сливается с криком чайки. Одиноко
колышутся скошенные крылья птицы над мутным потоком. Что тревожит ее?
Неужели скоро в дальний путь? И мне вдруг до боли захотелось вместе с чайкой
покинуть этот холодный, неприветливый край.
Солнечные лучи пронизали бездонную синь неба. Трофим принес дров. Ожил
костер. Ночь ушла бесследно.
-- Давайте собираться и плыть.
-- Что собирать, все на нас, -- отвечает Трофим. -- А впрочем, не все.
У нас на вооружении еще трубка и четыре чумана. Берта не в счет, Берта
пойдет на своих ногах, -- и он, подобрав с земли посуду, несет ее на плот.
Василий Николаевич молча следит за нами. Его, кажется, тревожит шум
реки.
-- Что болит у тебя? -- спрашиваю я.
Он отрицательно качает головой. Я опускаюсь на землю. Прикладываю
ладонь к лицу -- у него жар.
-- Тебе плохо, Василий? Попробуй подняться.
Молчание. Правая рука сваливается с живота. Он пытается опереться на
нее. Я помогаю ему, поддерживаю голову. Невероятным напряжением всех сил
больной пытается подчинить своей воле недвижное тело. Еще одно напрасное
усилие, и глаза теряют сосредоточенность, медленно смыкаются ресницы, изо
рта вместе с тяжелым стоном вываливается трубка. Чувствую, его сознание
меркнет или бродит где-то у грани.
Напрасно пытаюсь заставить его съесть маленький кусочек мяса. Кипячу
воду. С трудом пою его. Изжеванная нижняя губа не держит влагу. Тело
неподвижно. Глаза ничего не выражают.
-- Василий, ты узнаешь меня?.. Утром слышали выстрел, вероятно, наши
близко. Сейчас отплываем, -- пытаюсь подбодрить его.
Но слова не задевают его слуха. Внутри идет страшная борьба жизни и
смерти. Неужели он сгорит, уйдет от нас?..
Надо немедленно плыть, у нас нет другого лекарства!
Иду за Трофимом. И вижу -- он загружает салик крупными голышами,
складывая их бугорком на мягкой подстилке из мха.
-- Ты что делаешь? -- поразился я.
-- Не видишь, что ли? Василия укладываю, пусть плывет!
-- Опомнись, Трофим, что с тобою?
У него вдруг безвольно опустились руки, и они кажутся мне необычайно
длинными, как у гориллы. Он стал дико оглядываться по сторонам, словно
пробудился от тяжелого сна и еще не узнал местность.
-- Что же это такое? -- произнес он с отчаянием и, показывая на плот,
спросил: -- Это я таскал камни?
-- Ты.
-- Втемяшится же, господи!..
Кажется, ничто меня в жизни так не поражало, как сейчас Трофим. Что бы
это значило? Ведь мы далеки от шуток. Я смотрю на него. Глаза прежние,
ласковые, только губы искривила незнакомая, чужая улыбка, да длинные руки
по-прежнему висят беспомощно, как плети.
-- Ты плохо чувствуешь себя?
-- Нет, нормально. Мне кажется, будто в голове что-то не сработало или
я только что пробудился.
-- Ты переутомился. Давай задержимся на день.
-- Нет, нет, будем плыть! -- и он идет к стоянке.
Я сбрасываю с салика камни, взбиваю подстилку. Гоню прочь чудовищное
предчувствие. Нам действительно надо как можно скорее выбираться из
ущелья...
Собираем в путь Василия Николаевича. Завертываем ноги в сухие портянки,
надеваем сапоги. Полы фуфайки запускаем под брюки, перехватываем поясом, на
котором все еще болтается конец обрезанного ремня. Голову перевязываем
рубашкой. Он не приходит в себя. Так, в бессознательном состоянии, мы
переносим его на салик. Но я теперь слежу за Трофимом. Что же это будет?..
Тучи заслоняют солнце, чернотой прикрывают ущелье, дышат на нас
холодной влагой. Река отступает от берегов, но поверхность ее еще в пене, в
буграх, и кое-где, над лежащими под водою камнями, взметываются белые гривы.
Пробуждаются придавленные половодьем перекаты, Встречный ветер ершит бегущие
с нами волны.
На корме Трофим. Он мрачен. Прячет от меня свой взгляд. Я делаю вид,
что всего этого не понимаю. Плывем хорошо. Течение быстрое, да беда -- негде
реке разгуляться: кривун за кривуном...
Сижу рядом с Василием Николаевичем, мокрой тряпочкой смачиваю сохнущие
от жара губы. Больной дышит тяжело, нервно. Каждый вздох колет мне сердце:
боюсь, не последний ли?
С неба падает мелкий моросящий дождь. Салик захлестывает волнами. Мы
мокрые. Нас нагоняет ураганный шум, словно какая-то комета несется низко над
землею. Это стая чирков спасается от смертельной опасности. Следом за ними,
несколько выше, со свистом режет пространство сапсан. Какая быстрота, какая
чертовская целеустремленность! Кажется, в этот момент он не видит ни опасных
скал на поворотах реки, ни вершин береговых елей, все в нем подчинено
хищному инстинкту...
Развязка произошла, видимо, где-то за ближайшими утесами.
Салик тихо качается на волнах, словно колыбель. Какой день, как хочется
жить! Насыщенный теплом воздух несет с собою ощущение вечности. С неба
падает орлиный крик. Он дробится, мешается с шумом реки, и кажется, будто из
недр мраморных скал доносится колокольный перезвон. Птица растаяла в синеве,
а эхо от ее крика еще долго будит тишину.
Но вот еще какой-то гул, далекий-далекий, встревожил покой солнечного
дня.
-- Самолет, ей-богу, самолет! -- кричу я. -- Снимай, Трофим, рубашку,
сигналь ею.
С юга, откуда наплывает гул, горы заслонили небо, ничего не видно. Я
припадаю к больному.
-- Василий, самолет летит! Ты слышишь, самолет! -- Это слово действует
на больного магически, медленно раскрываются его ресницы, и из глубоких
впадин смотрят невидящие глаза. Губы шевелятся, но не могут ничего сказать.
-- Самолет летит! -- и я в диком экстазе начинаю трясти его.
Он пытается приподнять голову, и какой-то неясный звук, напоминающий
стон зверя, вырывается из его уст.
А гул нарастает. Мы напрасно шарим глазами по синеве. Ничего не видно.
Салик выносит за кривун, и тут только приходит неожиданная разгадка --
где-то ниже воют собаки.
Я вскакиваю. Ну разве усидишь! За перекатом, ниже скалы, вижу наш плот
на берегу, наполовину залитый водою. На нем привязанные Бойка и Кучум. Не
знаю, кто больше рад -- мы или собаки? Они, видно, давно учуяли нас и
подняли вой, боясь, как бы мы не проплыли мимо.
Трофим подворачивает салик к берегу. Я соскакиваю в воду, бегу по
отмели. Собаки в восторге, дыбятся, визжат, воют. Мы растроганно обнимаем
их. Но вот Бойка обнаруживает, что с нами нет того, чьи руки всегда ее
ласкали и кого она, вероятно, как-то по-своему ждала. Беспокойным взглядом
окидывает она пустое пространство вокруг нас, поднимает морду, пристально
смотрит на меня. В ее малюсеньких глазках что-то разумное, И кажется, она
упрямо ждет ответа.
Отвязанная, она бросается по отмели, вскакивает на салик, настороженно
начинает обнюхивать ноги Василия Николаевича. Затем запускает острую морду
под фуфайку, добирается до головы и тут вся оживает. Мы видим, как шевелится
голова больного, как открываются глаза и как он напряжением всех сил
поднимает правую руку, ловит ею Бойку и та припадает к нему.
Трофим заглядывает под плот, ощупывает брезент.
-- Груз-то целый! -- кричит он. -- Ну и денек выпал, удача за удачей!
-- Теперь спасены! -- радуюсь я и чувствую, как неодолимая усталость
вдруг хватает за руки, за ноги, хочется сесть на скошенный край плота,
закрыть глаза и ни о чем, совершенно ни о чем не думать.
Проходят первые минуты радости. К нам постепенно возвращается
уверенность. Мы переносим Василия Николаевича на берег. Укладываем на
теплую, отогретую солнцем гальку. У него жар. На нем мокрая одежда, надо бы
переодеть, да не во что.
Я подсаживаюсь к нему, приглаживаю волосы на голове, протираю ему
влажной рубашкой глаза, щеки, шею.
-- Пить... пить... -- шепчут его губы.
-- Вода, Василий, мутная, да и нельзя тебе пить сырую, потерпи немного,
сейчас вскипятим чай.
Больной закрывает глаза, лицо морщится от обиды. Он как ребенок,
которому отказали в любимой игрушке. Мне становится грустно. Я не могу себе
представить, что это Василий, никогда не помнящий обиды. А что, если это
последняя его просьба?
-- Пить... пить...
Бегу к реке, приношу маленький чуман воды, пою больного.... Теперь за
дело. Переворачиваем плот. Развязываем веревки. Освобождаем из-под брезента
груз. Все мокрое. Вода проникла в потки, в спальные мешки, в рацию, погибла
фотопленка, аптечка. Растения в гербарных папках почернели. Хорошо, что
сегодня солнечный день.
Берег в цветных лоскутах -- это сушатся одежда, вещи, продукты. На
кустах, под теплым ветерком, развешаны меховые спальные мешки. В ущелье
теплынь. Нет счастливее нас людей на планете!
Совсем недавно мы были безумно рады каряге, а теперь имеем увесистый
кусок жирной корейки, копченую колбасу, литровую банку сливочного масла,
сгущенное молоко, овощные и мясные консервы, килограммов пять крупы. Это ли
не богатство! Вот когда мы оценили заботу о нас Василия Николаевича.
На дне его спального мешка нашли спрятанные им две бутылки спирта. Все
это он приберегал для торжественного окончания пути. Но если он встанет,
думаю, нам и без спирта будет весело. И еще одна находка: в мешке с мукою
нашлись две сумочки с солью и сахаром: и это он предусмотрел, зная, что
сквозь муку вода не скоро проникнет.
Трофим уходит с топором в таежку вытесывать весла. Я слежу за ним. Он
никогда так небрежно не держал в руках топор, да и походка не его -- вялая.
И я уже не могу избавиться от недоброго предчувствия.
Бойка лежит рядом с больным. Неужели понимает, что с ним стряслась
беда? Кучум следит за мною, сторожит момент стащить что-нибудь съестное.
Раньше он занимался мелкой кражей из озорства, а теперь его толкает на это
голод.
Из каменных раструбов выползает ночь, бесшумно шагая, нас обступают
тени. Природа вся -- в томительном ожидании. Даже река затаилась, молчит и
только на перекате поигрывает бликами вечернего света. Ничто не смеет
нарушить час великого перелома!
Трофим принес два небольших, грубо вытесанных весла, годных разве
только для лодки, но никак не для плота. Я умолчал, не спросил, для чего ему
понадобились такие весла.
Дружески говорю ему:
-- Устал ты, Трофим, пойдем поужинаем и спать.
Он тяжело поднимает голову. Загрубевшими ладонями растирает на лбу
набежавшие морщины, силится что-то вспомнить. Я усаживаю его на чурку возле
огня. Открываю банку мясных консервов, ставлю на жар. Подогреваю лепешку.
Чай давно кипит.
У Трофима на лице убийственное безразличие.
...Над костром сомкнулась тьма, крапленная далекими звездами. Лагерь
уснул. У больного спал жар.
Меня не на шутку беспокоит странное поведение Трофима. Я не должен
спать. Как это трудно после стольких утомительных дней!
Чем заняться? Только не дневником. Сейчас я слишком далек от того,
чтобы переложить на бумагу случившееся. Запишу утром. Решаю почистить
карабин. Подсаживаюсь к костру. Сразу чувствую ласковое тепло, расслабляются
мышцы, глаза начинают слипаться, и приятная истома, какую я не испытывал за
всю жизнь, овладевает мною. Но спать нельзя! Вскакиваю. Иду к реке, плещу в
лицо холодной водой.
Плотный туман затянул ущелье. Пугающими темными сугробами лежит он на
кустах. Тихо, как после взрыва. Возвращаюсь не торопясь на свет костра,
шагаю осторожно, мягко по скрипучей гальке. На цыпочках подкрадываюсь к
Василию Николаевичу. Наклоняюсь -- он спит, дышит часто, тяжело. Крепким
сном уставшего человека спит Трофим. Спят собаки. Уснул весь мир. Остался я
один в этой строгой ночи.
Набрасываю на плечи телогрейку, усаживаюсь поодаль от костра.
Принимаюсь за карабин. Разбираю затвор. Руки мякнут. Глаза слепнут. Мысли
безвольны, как никем не управляемая лодка на волнах.
-- Не спи! -- и шепот губ кажется мне грозным окриком часового.
На рассвете пишу в дневнике:
«Стараюсь избегать скороспелых выводов, однако ясно: Василию не лучше,
Трофим невменяем, и я по отношению к нему начинен подозрительностью, ужасной
подозрительностью. Помощи, видимо, ниоткуда не дождаться. Надо плыть. Любой
ценой выиграть время, иначе больным уже не нужны будут ни врачи, ни
лекарства. Но как плыть с больными одному на плоту по бешеной Мае? Знаю, это
безумство, но нужно рискнуть. Иду на это сознательно. Утром отплываем.
Хорошо, если это не последние строки».
Бросаю в воду весла, вытесанные Трофимом, иду с топором в лес.
III. Снова в путь. Стычка у кормового весла. Еще один перекат. В небе
лоскуток серебра.
Возвращаюсь на табор настороженным. Трофим заботливо кормит Василия,
уговаривает того съесть тушонки. Вот и хорошо. Но я не могу освободиться от
подозрительности.
Утро сдирает с угрюмых скал ночной покров, обнажая глубину каньона. Где
же кулички -- предрассветные звонари? Почему молчат лесные птицы, не
плещется на сливе таймень? Неужели и это утро не принесет нам облегчения!
Какой еще дани ждет от нас Мая?
Река угрожающе шумит в отдалении. Теперь меня тревожит вопрос: что
делать с Трофимом -- доверить ему корму или нет? Это надо решить до
отплытия. Вот когда мне нужен был бы Василий!
Небо хмурое, холодное, подбитое свинцовой рябью облаков. Я укладываю
багаж. Трофим налаживает весла. Вижу, он не может сообразить, как подогнать
их к рогулькам. Нет, не тот Трофим.
Плот готов к отплытию. Мы переносим Василия Николаевича вместе со
спальным мешком. Устраиваем ему повыше изголовье. Собаки, не ожидая команды,
занимают места На опустевшей галечной косе догорает костер. С болью и
тревогой я покидаю берег. Нехорошее предчувствие уношу с собою на реку.
Собираю остатки мужества. Становлюсь на корму, беру в руки скошенный край
весла.
-- Отталкивай! -- кричу я Трофиму.
-- А почему вы на корме? -- удивляется он.
-- Сегодня моя очередь, иначе с тобою никогда не научишься управлять
плотом, -- отвечаю я спокойно, стараясь ничем не выдать себя.
-- Тут не место учиться, тем более, что с нами больной Василий.
Переходите на нос. -- И он, поднявшись на плот твердой поступью человека,
уверенного в своей правоте, берется за весло рядом с моими руками.
Мы стоим почти вплотную друг против друга, крепко сжимая весло. Оба
молчим. Оба неуступчивые, как враги. Я ловлю его взгляд. В нем что-то дикое,
вдруг напомнившее мне того хромого беспризорника, что с финкой в руке
защищал Хлюста. Сделай сейчас какой-то жест, брось одно неосторожное слово
-- и случится ужасное. Таким я его не видел с тех первых дней нашей встречи.
-- Ладно, Трофим, после сменишь меня, а сейчас не упрямься. Отталкивай!
-- И я чувствую, что играю уже на последней струне.
Василий Николаевич слышит нашу размолвку, умоляющим взглядом смотрит на
Трофима.
-- Плот поведу я! -- и по его побагровевшему лицу высыпали стайками
рябины.
-- Сейчас же сойди с кормы или...
-- Что или? Договаривайте до конца.
Наши взгляды сошлись в момент, когда взрыв казался неизбежным. Что
прочел он на моем лице: гнев, угрозу или, может быть, ему вспомнились наши
давно сложившиеся отношения, не терпящие никаких противоречий? Это или
что-то другое вдруг потушило в нем бурю. Он сразу как-то расслаб, руки
свалились с весла. В глазах запоздалый протест, обида. Всем своим видом он
показывает, что подчинился, только щадя меня. «Бедный мой Трофим, как ты
далек от истины. Узнаешь ли когда-нибудь причины этой нелепой стычки?» --
подумал я горестно.
Он отталкивает плот, становится на нос, и наше суденышко, покачиваясь
от ударов весел, выходит на струю. Я чувствую себя окончательно
опустошенным. В щели сыро и мерзко.
Мутный поток легко и плавно несет плот. За первым кривуном Мая
сворачивает на север. Уходят ввысь мраморные скалы, и где-то в поднебесье их
иззубренные края царапают серое, мокрое небо. Над водою, по-прежнему мутной,
реет голодная скопа, да где-то на берегу стонет кулик.
Меня гнетет стычка с Трофимом. Не могу смириться с мыслью, что наши
отношения нарушились -- впервые за столько лет. Не могу без боли видеть его
повернувшимся ко мне спиной. Не знаю, какой ключ подберу теперь к его душе.
Как проста, кажется, была наша жизнь, когда мы, сколотив свое
суденышко, отправлялись в путь! Теперь она стала слишком сложной. Мы все еще
на грани катастрофы. Неужели, черт побери, друзья нас похоронили и не
торопятся с поисками? Нет, не может быть, они где-то тут, за ближними
кривунами, за высоченными голубыми стенами, идут навстречу, строят
невероятные догадки.
Все время слежу за Трофимом.
Река продолжает делать сложные петли, расчленяя прихотливой щелью
отроги. Никаких надежд, что где-то близко раздвинется теснина и мы вырвемся
на равнину. Как долго и бесконечно тянется наш путь по зыбкой текучей
дороге! Выиграть бы еще день, только день. На большее у меня не хватит сил.
За очередным поворотом Мая потекла спокойнее. Я подсаживаюсь к Василию
Николаевичу. Он тоже встревожен нашей размолвкой с Трофимом. Только этого
огорчения ему недоставало!
К нам подходит Трофим. Виновато переступает с ноги на ногу. Затем
присаживается рядом, кладет свою правую руку мне на колени. Этот молчаливый
жест растапливает наши сердца, и мы снова близки, как прежде.
Мне почему-то вдруг показалось, что мы дети и наш путь -- всего лишь
игра в путешествие, а стычка -- заранее придумана для эффекта. Ах, если бы
это было так!
Ко мне возвращается профессиональное любопытство. Снова глаза ищут по
просветам скал водораздельные вершины, определяют проход. Память отбирает
более характерное, с чем придется столкнуться подразделениям экспедиции при
проведении работ. А работать здесь, видимо, придется. Даже после стольких
неудач нет оснований отказаться от них. Право же, все, что мы претерпели, а
претерпели мы поистине много, не убеждает нас в недоступности Маи. Скорее
всего это результат наших ошибок, результат того, что мы совсем не знаем
режима реки. Все, с чем мы здесь столкнулись, поражало нас внезапностью, и
от этого трудности плавания казались преувеличенными, на самом деле все не
так уж страшно.
Те, кто пройдут по Мае позже, учтут наши промахи, неудачи. И хотя путь
по этой реке по-прежнему остается опасным, он уже не будет изобиловать
неожиданностями.
Растительный покров ущелья куда беднее тех мест, где нам пришлось
побывать в этом году. Уж если и есть зелень, так наверху, над нами, да и то
скудная. Здесь же, в глубоком ущелье, больше камень и мхи. Деревья растут
чаще в одиночку, жадно подкарауливая солнце, так редко заглядывающее в щель.
Цветов мало. Для них слишком короток вегетационный период. Вообще в ущелье
не хватает тепла. Даже в самые жаркие дни лета здесь постоянно чувствуется
сырость земной глубины, и вода в Мае настолько холодна, что купаться в ней
можно только ради спорта или уж по нужде, как это делаем мы.
-- Смотрите, кабарга! -- кричу я.
Она стоит на самом краю отвесного обрыва. С высоты ей видна
значительная часть ущелья Маи, плот на воде и, вероятно, слышен наш говор.
Несколько минут она неподвижно наблюдает за нами, потом, удовлетворив
любопытство, начинает кормиться. Она пробирается по узким прилавкам,
цепляясь крошечными копытцами за самую ничтожную шероховатость и на ходу
срывая макушки ягеля. Иногда она делает бесстрашные прыжки над пропастью,
чудом удерживаясь на крошечных пятачках-выступах, буквально с детскую
ладонь, словно демонстрируя перед нами свою изумительную ловкость.
Вот она затяжным прыжком бросает себя вниз, падает четырьмя копытцами,
собранными вместе, на острие утеса и, поворачиваясь всем телом то в одну, то
в другую сторону, запускает свою продолговатую мордочку в трещины, чтобы
достать щепотку зелени. А сама ни на минуту не забывает про опасность,
окидывает быстрым взором ущелье и не выпускает из поля зрения нас.
Мы с замиранием сердца следим за каждым ее движением.
Собаки тоже не спускают глаз с кабарги. В их позах, на их мордах
любопытство, но не больше, точно они понимают, что животное для них
недоступно. И только когда до слуха долетает шорох падающих из-под ног
кабарги камней, собаки вдруг все разом вскакивают и в их глазах вспыхивает
звериный огонек.
Уровень воды падает. Обнажаются перекаты. Путь опять становится
опасным. Будет ли когда-нибудь конец этой щели? Не опоясывает ли она
замкнутым кругом всю землю?
Я все еще не могу отделаться от какой-то скованности, не могу
довериться надежде, что Трофим здоров. Если бы навсегда растаял тяжелый
комок, что засел у меня где-то внутри! Пусть вернется к нам прежнее доверие,
и тогда не останется препятствий на нашем пути к жизни. А к ней мы должны
вернуться, мы имеем право...
-- Не кажется ли вам, что ущелье становится просторнее? Видите просвет?
-- кричит Трофим.
Я смотрю направо, куда он показывает рукою, и дивлюсь -- в узкой
прорехе береговых отрогов, далеко-далеко, виднеются горные кряжи, щедро
политые солнечным светом. Они напоминают вздыбленные волны свободного
океана. Кажется, прошла вечность с тех пор, как нам открывалась последний
раз даль.
Бросаю весло, подбегаю к Василию Николаевичу.
-- Горы видишь? -- кричу вне себя от радости. Он вытягивает шею, я
помогаю ему приподняться,
-- Скоро устье? -- спрашивает больной.
-- Ну конечно! Это виднеются хребты над Удою.
Он смотрит на меня, не верит словам.
-- Да, да, Василий, скоро конец мучениям! Тебя сразу отправим в
больницу.
-- Ты думаешь, меня вылечат, и я буду ходить?
-- Конечно, вылечат! Ноги же у тебя целы. Все уладится, и зимою мы с
тобой погоняем на лыжах зверей.
-- Нет уж, ищи себе другого спарщика, в тайгу мне не вернуться, --
говорит он с горечью.
Густая лиственничная тайга закрывает просвет, и горные кряжи исчезают,
как виденье. Снова нас подавляет ощущение земной глубины. Мы убеждаемся
сначала с удивлением, затем с горечью в том, что река свернула от просвета и
уносит нас в противоположную сторону.
На курчавых вершинах скал серое барашковое небо, бесприютное и
холодное.
В этой проклятой щели никогда не бывает тишины, все гудит: воздух,
стены, овражки. А когда в этот гул врывается ветер, когда завоют скалы,
здесь творится что-то невообразимое, ад кромешный! В такие ущелья только
зимою, в лютые сибирские морозы, когда обмелевшую реку скует ледяной
панцирь, спускается безмолвие, такое безмолвие, в котором слышен шорох
падающего снега. И если в это время случаются обвалы, то они потрясают
ущелье, словно залп тысячи орудий.
Я давно потерял счет кривунам, не знаю, где север, где юг. Но теперь с
нами надежда. Мы видели далекий горизонт, верим, что этот путаный лабиринт
ведет к нему. Верим, что где-то . близко за поворотом нас наконец-то вынесет
река к давно желанному простору.
Минута за минутой проходят в остром ожидании перелома. Неужели мы
плывем по щели рядом с широким просветом?
-- К берегу! -- кричу я, наваливаясь на весло.
Впереди, у края поворота, во всю ширь реки показалась длинная шивера,
прикрытая пенистыми волнами. Мы причаливаем к берегу. Я бегу вперед
посмотреть шиверу. Вода у первых камней вдруг поднимается валом,
откидывается назад, точно испугавшись крутизны. Опасность ниже, там, где
весь поток собирается в двадцатиметровую струю и рассекается пополам
угловатым обломком. Но по обе стороны проход свободный.
Мы привязываем к плоту покрепче груз, подтыкаем под ронжи веревки,
запасные шесты и укладываем поверх больного. Он молчит, как покорный немой.
Я отвязываю собак, на случай неприятности -- пусть сами распорядятся собою.
Трофим прячет свой взгляд от меня. Он привязывает к грузу капюшон
спального мешка, в котором лежит Василий, и не может завязать морской узел.
Я слежу за ним, удивляюсь. Неужели забыл, как это делается! Да, не может
вспомнить, тычет концом не с той стороны в петлю, тянет, узел не вяжется, но
он упрямо повторяет одно и то же.
-- Тебе помочь?
-- Чертов узел, кто его придумал! -- и Трофим зло выругался.
Я вижу, как он опять не в ту сторону делает петлю, не так держит конец.
Узла не получается. Он в гневе отбрасывает веревку, мрачным уходит на нос, к
веслу.
Надо бы не плыть, но я этого не сделал.
Привязываю капюшон спального мешка к грузу, так Василия не снесет
волна, даже если засядем в бурунах. Проверяю, все ли убрано. Беру шест,
отталкиваюсь от берега. Теперь надо торопиться, выбраться на середину реки.
Но едва Трофим увидел близко впереди беснующиеся волны, вдруг, точно
испугавшись, не в такт зачастил веслом, отводит от струи нос.
-- Ты что делаешь? -- кричу я изо всех сил.
Но Трофим не слышит. А плот подхватило течение. Только теперь, с
безнадежным опозданием, я окончательно убеждаюсь, что на носу стоит
невменяемый человек. Течение несет нас в горло шиверы. Уже вытыкается
камень. Не успеваю осмыслить положение. Трофим изо всех сил гребет веслом,
тужится развернуть плот поперек реки, бесстрашно ведет его на гибель.
В последний момент я бросаюсь к нему, еще хочу выровнять нос. Перед
лицом опасности сила человека неизмеримо возрастает. С дикой беспощадностью
хватаю Трофима сзади, отбрасываю от весла. Но уже поздно -- от удара о
камень лопается пополам крайнее бревно. Разгневанный Трофим ловит меня
сильными руками сумасшедшего...
Мы схватываемся, как враги. Чувствую, как во мне пробуждается звериный
инстинкт, а он не знает жалости. Неизвестно, чем бы это кончилось, но Трофим
поскользнулся, не удержался на ногах и, падая, ударился головою о бревно.
Сразу стих в нем гнев, руки расслабли, только с губ еще продолжали срываться
несвязные слова.
Я выпрямляюсь. Только теперь соображаю, что наш никем не управляемый
плот медленно плывет по тиховодине. Как нас развернуло у камня, каким чудом
пронесло за шиверу -- не знаю.
-- Свяжи его, иначе он всех погубит, -- слышу голос Василия
Николаевича.
Я выдергиваю из груза спальный мешок, укладываю на него покорного
Трофима. Ощупываю всего его и немного успокаиваюсь. Достаю веревку, связываю
ему руки, ноги и, как пленника, приторачиваю к средней ронже -- так
действительно надежнее. Когда человек на грани смерти, он может быть
чудовищно жестоким.
Большой плот с одним веслом -- все равно, что без весел. Над ним теперь
власть Маи. На моей обязанности всего лишь держать его вдоль течения.
Солнца не видно, но вершины левобережного отрога щедро политы ярким
светом. Где-то продолжается день. Еще можно продвинуться вперед. С ужасом
думаю о ночи. Она придет, непременно придет. Что я буду делать един со
своими больными спутниками?
Сквозь прозрачную толщу речного стекла видно плотное дно, выложенное
крупными цветными голышами. Где-то позади глохнет последний перекат. Усталая
река течет спокойно. Я присаживаюсь на край груза. Каким долгим кажется
день!..
Трофим словно пробуждается, открывает уставшие глаза. Осматривается,
потом вдруг замечает, что связан, пытается разорвать веревки, и из его уст
вырывается брань вместе с проклятиями. Он свирепеет, бьется ногами о бревно,
стискивает челюсти до скрежета зубов. Он все еще в невменяемом состоянии.
Мне больно видеть близкого друга связанным мокрой веревкой, безжалостно
брошенным на бревно, но иначе нельзя.
А что стало с Василием Николаевичем! Бедняга плачет без слез, тихо
всхлипывая. Его маленькие черные глаза ничего не выражают, завяли, как
полевые цветы, скошенные в знойный полдень!
Трофим в буйстве устает, голос падает, брань стихает -- он засыпает. Я
накрываю его брезентом. Ах, если бы сон вернул нам Трофима...
Река побежала быстрее. Я стою у кормового весла, но плот не подчиняется
мне. Не дай бог, если теперь впереди попадется шивера -- тогда не выбраться.
-- Самолет! -- кричит Василий Николаевич и пытается подняться.
Я вскидываю голову. До слуха долетает гул моторов. Нет, это не
галлюцинация. Гул виснет над нами. Его можно узнать среди тысячи звуков.
Вижу, из-за края скалы вырывается большой лоскут серебра -- наконец-то!
Спешу дать о себе знать. Хочу сорвать с Василия Николаевича нательную
рубашку -- она почти белая и должна бы быть заметной, но не успеваю.
Машина минует нас, уходит на север.
Неужели не заметили?
А гул не смолкает, обходит ущелье стороною, и снова появляется над нами
крылатая птица. Она кружится, немного снижается. Ревут моторы, видимо,
экипаж не уверен, что мы их видим.
Но вот качнулись крылья -- раз, два, три, и машина легла на запад.
И вдруг захотелось жить. Было бы чудовищной несправедливостью погибнуть
после всего пережитого, когда нас обнаружили и, возможно, близка помощь.
Резкий низовой ветер кажется лаской. В провалах копятся густые вечерние
тени. Высоко в небе парит одинокий беркут. Чем кончится этот обнадеживающий
день?
-- За что меня связали? -- слышу голос Трофима. Он приподнимает голову,
в упор смотрит на меня, ждет ответа.
Нас несет медленно взбитая ветром река. Не знаю, что сказать ему. На
его лице не осталось гнева. В глазах жалоба. И кажется страшным, как могли
его молчаливые губы час назад выпалить столько бранных слов, которых он
никогда не произносил.
-- Посмотрите, что с моими руками!
Я не могу видеть эти узловатые кисти, со вздутыми венами, перехваченные
веревками. Не могу слышать его упрека.
-- После все расскажу, Трофим, а сейчас лежи связанным. Иначе нельзя!
-- Так поступают только с преступниками, -- и он отворачивается,
зарывает обиженное лицо в спальный мешок.
IV. Нас выносит из ущелья. Выстрел. Первая ночь без тревоги. Филька
готовит баню. Мы желаем счастливого пути Василию Николаевичу.
Мая течет спокойно, точно сжалившись над нами. Все молчим. У каждого
свои думы, свои желания. Слишком долго нас окружало уныние, мы пережили
горькие минуты бессилия, неудач.
-- Ты думаешь, они увидели нас? -- спрашивает Василий Николаевич,
растревоженный сомнениями.
-- Ну конечно! -- отвечаю я. -- Мы спасены, Василий! Теперь-то уж
выплывем.
Он утвердительно кивает головою и неожиданно спрашивает:
-- Как думаешь, ноги мне отрежут?
-- Зачем напрасно терзаешь себя? Были бы ноги сломаны -- другое дело.
Тебе их быстро подлечат, и ты на Трофимовой свадьбе такого гопака отобьешь!
-- Не до пляса будет мне!..
-- Перестань, Василий, хныкать. Нас обнаружили, все уладится.
-- Я согласился бы на одну ногу, пусть режут, -- продолжает он.
-- Ишь, щедрый какой! Побереги, пригодится. Не три их у тебя.
Он успокаивается.
Трофим точно догадывается, о чем думаю, умоляюще смотрит на меня. Я
опускаюсь на груз рядом с ним, расчесываю пятерней его густые, сбившиеся
войлоком волосы на голове и не знаю, что сказать, как объяснить ему, что
случилось, ведь он сейчас в здравом уме.
-- За что? -- и Трофим опять показывает связанные руки.
-- Успокойся, дорогой Трофим, ничего страшного не случилось. -- И я
чувствую, как обрывается мой голос. -- Потерпи, умоляю тебя, потерпи, так
нужно, чтобы все мы остались живы.
Он мрачнеет, не понимая, почему я так безжалостен к нему.
И все же придется, отблагодарив судьбу за удачный день, останавливаться
на ночевку. Если завтра будет летная погода, дальше не поплывем, будем ждать
самолета. Он непременно прилетит. Теперь нам нет смысла рисковать. Я дам
знать экипажу, что плыть дальше не можем, в крайнем случае «напишу» на
гальке стланиковыми ветками: «Помогите».
А Трофима придется до утра оставить на плоту. Я боюсь повторения
приступа. Уговариваю себя, что с ним за ночь ничего не случится, но сам
чувствую, что это не решение вопроса.
Быстро надвинулся вечер. Потемнела река.
Нас выносит за скалу, и -- какая радость! -- мрачные стены ущелья вдруг
пали, как взорванные крепости. С широким гостеприимством распахнулись
берега. В лицо хлынул свет. Мы вырвались из проклятой трущобы! Вижу: влево
толпами уходят от реки отроги, в ярко-зеленой щетине леса, с облысевшими
вершинами. Справа вздыбился толстенный голец, весь исполосованный старыми
шрамами, на ободранных боках ржавые потеки. Он, как часовой, застыл в
настороженной позе над дремлющим в вечерней прохладе пространством. А
впереди, за просинью береговых тальников, чуть заметно сквозь голубоватую
дымку маячит далекий горизонт.
Еще не верю. Не знаю, что сказать. С плеч сваливается обреченность, и
вдруг становится так легко, будто только что народился. Одно ясно: мы
вырвались, мы еще можем быть людьми. Навстречу сплошной зеленью наплывает
тайга. Высокой стеной пирамидальных елей встает она над измученной Маей,
шумит ласково, зазывно. Лесной хвойный аромат опьяняет, не могу наглотаться.
Какая в нем живительная сила, и почему мы раньше не замечали этого?..
Еще плывем, плывем потому, что не хочется обрывать этот счастливый
день. Да и река вдруг становится нашим союзником, легко несет наш плот по
зыбкой прозрачной дороге. Надежда становится реальностью...
Теперь мы чувствуем -- цель близка. Никогда я еще не испытывал такой
чистой радости. К ней примешивается чувство гордости за спутников. Они
прикованы к плоту, но я твердо знаю, что лишь благодаря их смелости,
благодаря их преданности мы выбрались из мрачной щели. Бывают минуты, когда
самая сложная обстановка внезапно открывается перед нами в совершенно ясной
форме, -- такое состояние у меня сейчас. Нет, не напрасны были наши
усилия!..
Василий Николаевич поворачивает голову ко мне, рот его полуоткрыт,
хочет что-то сказать и от волнения заикается. Я подхожу к нему.
-- Дым! -- выпаливает он.
-- Где дым?
-- Снизу тянет.
Вижу, собаки всполошились. Подняв морды, они взахлеб глотают воздух. Я
впиваюсь глазами в пространство: над широкой долиной реет закатный сумрак,
тайга наливается густой синевой, меркнет прохладное небо. Но дыма не вижу.
Трофим пытается подняться, выгибает живот, силится разорвать веревку.
-- Проклятье!.. -- И он со стоном валится.
Я подсаживаюсь к нему.
-- Успокойся, Трофим. Клянусь, как только причалим к берегу -- развяжу.
-- Какой вы жестокий! -- и он отворачивается от меня.
-- Да, Трофим, это ужасно, но судить меня ты будешь после, а сейчас
терпи.
Я отхожу к веслу. Теперь мне кажется, что мы безбожно медленно плывем,
на самом же деле мы не плывем, а летим. Впереди виден залесенный отрог,
перехватывающий наполовину долину. Я смотрю левее, что-то там серое клубится
над вершинами елей? Да, да, это дым!
-- Люди близко, лю-у-ди-и! -- кричу я, а сам еще боюсь радоваться.
Береговые ели закрывают дым. Возвращаются сомнения. Не воображение ли
шутку сыграло с нами? Я становлюсь на груз -- ничего не видно. Кричу во всю
силу. А река отходит вправо...
Дым был виден далеко левее от реки. Неужели пронесет?.. Я бросаюсь к
грузу, хочу достать карабин, дать о себе знать, но он зацепился ремнем за
что-то твердое, не могу вытащить. И вдруг где-то впереди выстрел потряс
вечерний покой долины. Еще и еще.
Река побежала быстрее. Замелькали частоколом береговые тальники. Ближе
надвинулся отрог. Я поднимаю к небу ствол карабина, стреляю. Нам отвечают
выстрелом. Стреляю еще, и опять слышится ответный звук.
У Маи не хватает для нас скорости. Вот-вот долину накроет ночь.
До отрога остается с километр. Река, спрямив свой бег, несется к нему и
там, у последней скалы, обрывается белыми бурунами. Быстро тает
расстояние... Еще неуловимое мгновение. Но тут нас щадит поток -- проносит к
тиховодине за скалу.
Собаки вдруг все сразу попрыгали в воду и были отброшены течением вниз.
Вижу, слева на пологом берегу палатки, костер. На гальке стоят люди, они
машут руками, что-то обрадованно кричат.
Но как только мы отплыли от скалы и нас можно было рассмотреть, восторг
мгновенно исчез. Связанный веревками Трофим, лежащий в спальном мешке
Василий Николаевич, донельзя потрепанный плот с одним веслом -- произвели на
всех удручающее впечатление. Первую минуту никто не знал, что делать. Да и я
растерялся от радости.
Мы уже проплывали лагерь, когда послышался знакомый голос Хамыца
Хетагурова.
-- Что же мы стоим, ловите!
Двое рабочих бросились к нам вплавь. Я подал им конец причальной
веревки, и наше героическое суденышко подтащили к берегу...
Не знаю, забуду ли я когда-нибудь этот плоский берег, усыпанный мелкой
речной галькой, с дремлющими лиственницами под теплым небом, горячий шепот
тальников и этих людей, онемевших от ужасного зрелища, которое мы собою
представляли в момент встречи.
-- Развяжите! -- со стоном вырывается у Трофима.
Все смотрят на меня. В их глазах и протест и обвинение. Мне больно. Я
опускаюсь к Трофиму. Спальный мешок и одежда на нем мокрые, в рыжеватой
бороде запутались блестящие капли влаги. Пытаюсь развязать веревки, но
мокрые узлы прикипели к рукам. Кто-то резанул по ним ножом.
О, я хорошо помню эти ужасные руки, синие, с кровавыми браслетами.
Я помогаю Трофиму встать. Он улыбается, обнимает меня правой рукой, --
в такие минуты не только другу, а и кровному врагу простишь обиду. Хетагуров
подхватывает его слева, и мы сходим с плота на берег. Какими счастливыми
были эти первые шаги прочь от опасности, от смерти!
Василия Николаевича снимают вместе со спальным мешком.
Вдруг снизу, из-за берегового тальника, вырывается Берта, несется к
нам. Тут мы оказываемся свидетелями сцены, умилившей наши сердца. Берта еще,
видимо, на реке узнала своего хозяина Кирилла Лебедева. Как очумелая,
бросается на него, сбивает с ног, лижет его. Тот не сразу узнает давно
пропавшую собаку. Но вот он захватывает ее своими сильными руками.
Посмотрели бы вы на эту сцену!
Мы все направляемся к костру. Пахнуло свежеподжаренным мясом. Вижу, на
брезенте «накрыт стол» с претензией на какую-то торжественность: тут и
бутылки спирта, и отварной молодой картофель, и городская закуска, и зеленый
лук... В другое бы время порадоваться заботе друзей, а сейчас ничего этого
не нужно.
-- Давно вы здесь? -- спрашиваю я Хетагурова,
-- Часа три как пришли из Удского. Только успели установить рацию, как
с борта самолета нам сообщили, что обнаружили плот в десяти километрах
отсюда. Мы выставили сторожевой пост на скале, накрыли стол, хотели
встретить, как положено, но получилось не совсем...
-- Ничего, все наладится. Мы пережили свою смерть, -- это самое
главное.
Собираемся у костра. Трофим немного размялся. У Василия Николаевича
такое отчужденное лицо, словно у него не осталось ничего в жизни. Он зарылся
в спальный мешок, тихо плачет. Над ним склонились товарищи. Мною овладевает
усталость, от которой, кажется, можно умереть. Я не борюсь с нею, рад, что
пришел ее час. А на лицах друзей ожидание, они хотят знать, почему плачет.
Василий, почему у Трофима на руках кровавые ссадины? Но я не хочу об этом
вспоминать.
-- Кирилл! -- обращаюсь к Лебедеву. -- Достань из нашего груза большой
полог, натяни его. Я лягу спать.
-- А ужинать? -- спрашивает Хетагуров.
-- Это после, все -- после, когда мы придем в себя.
-- Может быть, ты скажешь хотя бы в нескольких словах, что случилось с
вами?
-- Что случилось... Вот вам мой дневник, написан он неразборчивым
почерком, но ты, Хамыц, прочтешь.
Над далеким горизонтом потух закат. Еще не окрепли редкие огоньки
звезд, а уж долину накрыло мраком. Тайга, убаюканная прохладой, засыпала.
Где-то в чаще, не добежав до нас, заглох ветерок.
-- Спокойной ночи! Ты, Трофим, ляжешь со мною,
Он не удивился.
Я сбрасываю с себя жалкие остатки одежды. Забираюсь под полог. Полное
ощущение, что нас выбросило на благодатную землю, и уже не нужно напрягать
мышцы, бороться с бурунами, здесь все к твоим услугам... Я засыпаю, точно
опускаюсь на дно теплого озера.
В полночь пробуждаюсь внезапно, словно от набатного звука. Где я?
Напрягаю память: в голове неясные обрывки вчерашнего дня. Узнаю рев бурунов
под скалою. Открываю глаза. Рядом лежит Трофим. По полотняной стене пляшут
огненные блики костра. Слышится людской говор.
С трудом приподнимаю полотнище полога. Непроглядным мраком окутана
тайга. Стоит она, не шелохнется, спит. Огонь, вспыхнув на миг, осветил
картину. Хетагуров, сложив по-кавказски калачиком ноги и наклонившись к
огню, читает вслух дневник. Техник Кирилл Лебедев сидит рядом, обхватив
загрубевшими руками согнутые колени, хмурит густые брови. Радист Иван
Евтушенко, светловолосый парень с задумчивым лицом, топчется у костра,
сушник в огонь подбрасывает, а сам нет-нет да и прислушается, покачает
головою.
Вижу: не торопясь поднимается десятник Александр Пресников, добродушный
великан. Расправляет могучие плечи, широченными ладонями растирает затекшие
ноги, удивляется вслух:
-- Приключится же этакая чертовщина!.. -- и, зачерпнув из котелка чай,
стоя пьет.
Филька Долгих -- щупленький, с быстрыми птичьими глазами, -- сидя,
подпирает спиною толстую лиственницу. Вот он левой рукою достал из кармана
кисет, отрывает бумажку, мнет ее, насыпает махорки, подносит цигарку к
губам, хочет слепить ее, да так и замирает с открытым ртом, повернувшись к
Хетагурову.
У забытого всеми «стола» Кучум караулит пахнущие куски мяса, нанизанные
на деревянные шомпура. На хитрущей морде полнейшее безразличие, а сам
незаметно подползает все ближе и ближе.
-- Кучумка, нельзя при людях! -- ласково окликает его Филька.
Тот дико косится на него, нехотя отходит к исходной позиции, чтобы
начать все сызнова.
Пламя пляшет, подкормленное смолевыми сучьями. Скачут изломанные тени
деревьев, гримасничают лица слушателей. Самое глухое время ночи, ни шороха,
ни звука -- предрассветный час. От реки сплошным маревом наплывает густой
белесый туман. Цепляясь за влажные кроны дремлющих елей, он хочет подняться
к простору, но густой ночной мрак прижимает его к стоянке.
Голос Хетагурова слабеет...
Сон не вернулся ко мне. Лежу в полузабытьи. Это первая ночь, когда я
освобожден от мрачных мыслей и отчаяния. Ко мне возвращается раскрепощенный
разум. Я еще далек от экспедиционных дел, от суеты житейской. Но пережитое
уже отступает в прошлое, боль смягчается. Знаю, слово «Мая» мы долго будем
произносить с гордостью, преклоняясь перед непримиримой первобытностью реки.
А как же с Василием Николаевичем, с Трофимом? И об этом после.
Скоро смолк говорок. Затух костер. Лагерь уснул. Поднялся месяц, и его
голубоватый свет пронизал поредевший туман.
Я выбираюсь из-под полога. Дует леденящий ветерок. В тайге,
прихваченной ночною сыростью, копятся холодные синие тени. Над мутной сталью
реки тают легкие клубы серебристого пара. А вдали над грядами темных хребтов
широко и ясно разливается по небу голубоватый рассвет. .
«Утро... утро... утро...» -- твердит какая-то пичуга.
Долго стою я неподвижно, опьяненный великолепием первого утра
вернувшейся жизни. Окружающий мир кажется мне обновленным, более доступным и
понятным, чем когда-либо, и я смело вхожу в него с твердой жаждой
продолжения. И вдруг слабый крик чайки вырывает меня из раздумья. Белым
лоскутом кружится птица над бурунами. И все кричит, кричит... Неужели это та
добрая чайка, что звала нас с собою с камня? Но почему и теперь ее крик
полон печали?
Нет, память не обманула меня, мы действительно среди своих, и
завтрашний день уже не вызывает тревоги.
Я бесшумно возвращаюсь под полог и, раскрепощенный от всех бед, надолго
засыпаю.
Странно устроен человек: после такой встряски нам оказалось достаточно
суток покоя, чтобы прийти в себя. И вот уже все пережитое постепенно уходит
в прошлое, одно забывается, другое иначе расценивается, и только узлы
главных событий остаются навсегда в памяти.
Нас окружают заботой. Ни слова об экспедиционных делах. Но жизнь сама
незаметно подводит тебя к ним. Вначале я осваиваюсь с лагерем, таскаю воду,
хожу в лес за дровами и никак не могу избавиться от ощущения какой-то
новизны в окружающей обстановке...
Затем начинают всплывать на поверхность и дела полевых подразделений,
тревожившие меня в начале путешествия по Мае. И хотя я еще часто обращаюсь к
прошлому, я чувствую, что настоящее овладевает мною -- все постепенно
возвращается на свое место.
Пришло в лагерь и второе утро. Я чувствую себя хорошо. Побрился. Пора
браться за дела. Трофим разжег костер. Он уже захвачен работой: разобрал
свою рацию. И я, глядя на него, думаю: «Уж если ты ее соберешь и она
заговорит -- значит ты здоров, мой друг!»
Василия Николаевича не слышно. Он замкнулся, живет один со страшными
думами.
Из соседней палатки доносится голос Лебедева:
-- Филька, налаживай баню!
Минут через десять из полога высовывается взлохмаченная голова Фильки.
Заспанными глазами парень осматривает небо, косится на меня, точно впервые
видит, и сладко -зевает.
-- Кирилл Родионович! С утра баню или после завтрака? -- спрашивает он.
-- Сейчас готовь.
-- Мигом иду, -- отвечает Филька, а сам долго чешет пятерней затылок,
поднимается, вихляющей походкой идет к костру, волоча за собою байковое
одеяло. Он расстилает его у огня, уютно располагает на нем свое хлипкое
тело, говорит, не взглянув на меня:
-- Маленько прикорну. Тут у нас, ежели со всеми соглашаться, --
заездят. Баню успею, не на пожар, -- и сразу захрапел.
-- Филька, дьявол, спишь! -- кричит Лебедев, выбираясь из палатки.
Тот поднимает голову, обращается ко мне:
-- Чего он гутарит? -- Но, услышав шаги Лебедева, вскакивает.
-- Кто вечером обещал до восхода баню приготовить?
-- Ты не кричи на меня, Кирилл Родионович, испужаюсь, ни на что
годиться не буду. Лучше послушай, какой сон я видел, -- отвечает он
добродушно.
-- Провались ты со своими снами! -- гневается Лебедев.
-- Ведь тут только и счастья, что во сне с девками побалуешься!
-- Врешь, черт голопузый! Какая девка хоть и во сне польстится на
такого брехуна?
-- Спросите у Пресникова, Наташа моя -- во! -- Филька показал мне
торчмя поднятый большой палец.
-- Иди, говорю! -- и голос Лебедева звучит угрожающе.
Филька нехотя поплелся к реке, захватив с собою на всякий случай
одеяло.
-- Пропадает талант, -- говорит Лебедев, кивнув в сторону Фильки.
Солнце яркими лучами взрывает тайгу, еще не успевшую отряхнуть с себя
ночной покой. Я беру полотенце, иду умываться. Маю не узнать: тут она
отдыхает после трудного пути и не торопится покинуть просторную долину. Вода
в ней прозрачная. Дно просматривается до мельчайших песчинок.
Черпаю горстями студеную воду, плещу в лицо, на грудь, растираю тело.
Чертовски неприятная процедура! Но через минуту награда: такая свежесть и
такая бодрость, словно с твоих плеч свалился стопудовый панцирь.
Василия Николаевича перенесли к костру на мягкую подстилку. Больно
видеть его глаза, переполненные мольбою о жизни.
Рядом с ним сидит Лебедев, сгорбленный, весь подавленный бедою друга.
Евтушенко отправляет в эфир позывные. Ему отвечают сразу несколько
станций. Еще с минуту продолжается настройка.
-- Плоткин у микрофона, -- сообщает радист.
Мы с Хетагуровым забираемся в палатку.
-- Здравствуйте, Рафаил Маркович! -- кричу я в микрофон. -- Спасибо за
помощь. Мы закончили маршрут. Но у нас не все благополучно. Мы потеряли ниже
устья Эдягу-Чайдаха проводников: Улукиткана и Николая. Надо срочно
организовать поиски самолетом, они где-то южнее Чагарского хребта, у истоков
Удыгина и Лючи. Им надо сбросить продукты, палатку, обувь, одежду, спички --
этого ничего у них нет. Хорошо бы сегодня начать поиски.
-- Все возможное сделаем.
-- Но это не все. Надо немедленно доставить в Хабаровскую больницу
Мищенко и Королева. Промедление опасно. Сопровождать их буду я. Договоритесь
с край-здравом о посылке санитарной машины. Сейчас мы находимся в двух
километрах выше устья Нимни. Здесь посадочной площадки нет. Завтра сплывем
до устья Маи на плоту. Дальнейшее -- ваша забота.
-- На устье Маи вас встретит катер, доставит на косу, а оттуда, при
наличии погоды, вывезем самолетом. Какие еще будут распоряжения?
-- Необходимо срочно приступать к организации работ на Мае. Все людские
и материальные резервы нужно перебросить сюда. Подробности получите завтра
утром от Хетагурова. Что есть у вас?
-- Знаю, вы ждали помощи, но не было погоды, и самолеты долго не могли
пробиться к Мае. Пришлось перебросить Лебедева с Алданского нагорья и
организовать поиски по реке. Остальное в норме. За Ниной послан человек в
Ростов. Вчера получил от нее телеграмму, что вещи днями отправляет, а сама
немного задержится.
Хетагуров остается ответить на радиограммы, а я выбираюсь наружу. Снова
меня захватывают экспедиционные заботы. Окончательно отступают в прошлое
трудные дни, прожитые на Мае.
Идем с Трофимом в баню.
-- Чего не радуешься? -- спрашиваю я его.
-- Чему?
-- Нина едет. Столько ее ждал, и хоть бы улыбнулся.
Трофим насупился. Отстает. Ноги тяжело шагают по гальке. Какие-то мысли
о Нине снова тревожат его.
Палатка окутана паром. Лебедев и Пресников купают Василия Николаевича.
Слышно, как хлещут по телу березовые веники. Филька сидит на гальке, делает
из бузины дудочку. Ни забот, ни печали.
-- Сейчас донышко заткну и заиграю, -- говорит он, не отрываясь от
работы.
-- Сколько я тебя, Филька, знаю, ты в одной поре, без изменений, --
говорит Трофим.
-- Завидуешь? -- отвечает тот.
-- Не о том речь, кнопки одной у тебя не хватает, баню на камнях
устроил. Можно же было поставить палатку на песочке?
-- Удивил, кнопки не хватает, да ежели бы они были у меня все, неужто
пошел бы в экспедицию работать?! -- и Филька вдруг разразился громким
смехом. -- У нас в колхозе председатель когда-то ходил с изыскателями, да,
видно, не поглянулась ему эта работенка; так вот, как, бывало, осерчает на
кого-нибудь, кричит: «Я тебя, сукиного сына, в экспедицию запеку, ты там
узнаешь кузькину мать!» Я и подкатись к нему с провинностью, нашкодил в
посевную, он и подмахнул мне бессрочную увольнительную. Вот я и угодил к
вам. А в прошлом году в отпуск приехал к себе в деревню. Он увидел меня и
начинает: «Филя, вернись, -- учти: не Филька, а Филя, -- бригадиром
заступишь». А я ему: с удовольствием бы, да занят.
-- Это у тебя, Филька, новая биография. Быстро же ты ее меняешь.
-- Нельзя на одном месте топтаться, -- отвечает быстро Филька.
Он продул дудочку, заткнул донышко деревянной втулкой и, прежде чем
заиграть, пожевал пустым ртом.
Мы знаем, Филька чудесный музыкант, но его пальцы никогда не касались
струн обычных инструментов, клавишей баяна, его губы не знают ни флейты, ни
кларнета. Он играет на губной гармошке, на расческе, в его руках поют
стаканы, рюмки. Попади ему на губы листок березы, перо дикого лука, лепесток
рододендрона, и он вдует в них жизнь. Филька обладает удивительной
способностью передавать на своих примитивных инструментах крик птиц, зверей,
звуки тайги.
Филька рывком головы откинул назад нависающие на глаза густые пряди
волос, и вдруг его лицо стало серьезным. Щеки музыканта надулись, точно
кузнечный мех, глаза затуманились, -- все забыл Филька, кроме дудочки, и
потекли по притихшему лесу стройные звуки, то поднимаясь высоко, то падая.
-- Филька, черт, забавляешься, а воды холодной принес? -- кричит
Лебедев.
Филька сунул мне в руки дудочку, вскочил, схватил ведро и побежал к
реке.
Василия Николаевича завертывают в брезент, уносят к палаткам. Теперь
наш черед с Трофимом. Я плещу горячую воду на раскаленные камни, и в
полотняной бане становится жарко.
-- Зачем вы хотите отправлять меня в больницу? -- вдруг спрашивает
Трофим.
Меня его вопрос захватывает врасплох.
-- Всем нам нужно показаться врачу.
-- Я не вижу в этом необходимости.
-- Разве ты не замечаешь, что последние дни твои нервы слишком
расшатались, и неудивительно после такого напряжения.
-- Неужели за это на руках ссадины, до спины больно дотронуться?
-- Ну, знаешь, Трофим, если бы не веревка, то нас не было бы в живых.
-- Договаривайте до конца.
-- Ты же буйствовал, и у меня другого выхода не было.
-- Даже если я сходил с ума -- в больницу не поеду. Теперь я вижу, куда
вы хотите меня определить, -- перебивает он меня.
-- Надо серьезно подумать.
-- Не будет этого. Нина скоро приедет, а я в доме умалишенных. Хороша
встреча!
-- Успокойся. Баня не для этих разговоров, поговорим в другом месте.
-- Я остаюсь здесь и не должен болеть, -- решительно заявил Трофим.
-- Хочешь лечиться внушением?
Он молчит, окатывает себя из ведра водою, демонстративно выбирается из
«бани».
Я встревожен нашим разговором. Трофим добровольно не полетит в
Хабаровск, но и насильно отправлять его нельзя. Какой же выход?
Мы с Трофимом принесли на стоянку душистых еловых веток, чтобы помягче
было на камнях сидеть. Садимся в круг и принимаемся за еду. Аппетит у нас --
дай бог каждому! На первое уха из свежих ленков. Нет, вру: начале выпили по
сто граммов спирта за встречу. Затем занялись ухою. Сервировка у нас вполне
соответствует обстановке: лист березовой коры служит блюдом, на котором
горой сложены отварные куски рыбы; эмалированные кружки, из которых пили
спирт, -- тарелками, а вместо вилок -- собственные пальцы. Но как
соблазнительно все едят!
После завтрака я забираюсь от комаров под тюлевый полог. Хочу сделать
заключительную запись в дневнике. Вот когда я почувствовал, как дорога мне
эта, изрядно потрепанная тетрадь в бесцветном коленкоровом переплете, мятые
страницы, исписанные торопливым почерком. Знаю, время приглушит остроту
событий, память многое утеряет под тяжестью новых впечатлений, но дневник
навсегда сохранит всю свежесть, весь аромат этих бурных дней, когда мы
испытывали свои чувства друг к другу, когда личная жизнь отступала перед
долгом. С каким волнением я спустя год раскрою тетрадь и придирчиво пробегу
глазами по ее страницам! Снова воскреснут передо мною угрожающие откосы
заплесневевших скал, дикие застенки Маи, силуэт снежного барана в
поднебесной высоте, освещенной фосфорическим светом луны, камень на роковом
перекате, печальный крик чайки, предупреждающей об опасности, и Трофим,
связанный мокрыми концами веревки, брошенный на сучковатые бревна плота...
Последний раз оттачиваю огрызок карандаша, привязанный к тетради,
сосредоточиваю свои мысли на заключительной записи.
В памяти сразу возникают старики с их печальной судьбою. При мысли, что
мы вне опасности, окружены заботой друзей, уютом и нас не терзают муки
голода, -- становится не по себе. Выберутся ли проводники из этих пустырей,
и, если они унесли с собою обиду на нас, -- сумеем ли мы когда-нибудь
оправдаться перед ними?
Теперь можно подвести итог нашему путешествию.
Мая, несмотря на свой буйный нрав, не может служить препятствием для
проведения здесь необходимых работ. Но люди, попавшие на реку, должны
соблюдать осторожность и уметь уважать опасность. Слабого человека она может
напугать своею дикостью, высоченными береговыми скалами, свирепым ревом. Но
к этому можно привыкнуть. Мы здесь новички, и Мая серьезно занималась нами.
Это позволит теперь найти более правильное решение на будущее. Мы твердо
знаем, что по Мае порогов нет, что на плоту и на долбленке рисково
спускаться по ней в малую воду, зато в половодье, когда река превращается в
мощный поток, вас пронесет без аварии. Конечно, при наличии хорошего
кормовщика.
Организовывать работы на Мае можно только снизу по реке, передвигаясь
на долбленках. Это потребует от людей много физических усилий, особенно от
шестовиков, которым придется гнать против течения груженые лодки. При таком
способе передвижения всегда имеется возможность заранее осмотреть перекат,
обойти препятствие и на быстрине поднять долбленку на веревке. В этом случае
меньше риска и больше уверенности.
Поскольку сами работы будут проводиться на водораздельных линиях
хребтов, подразделениям выделим оленей для заброски грузов от реки.
Если мне еще раз представится случай проплыть по этой своенравной реке
я непременно воспользуюсь им, но отправлюсь на резиновой лодке с брезентовым
чехлом. Думаю, пройти на ней можно при любом уровне воды в реке.
Итак, Мая открыта для дальнейших исследований!
Я выбираюсь из-под полога, пора собираться в путь. Трофим сидит на
спальном мешке у ног Василия Николаевича, косит упрямые глаза. Ничего не
замечает, дикий, недоступный. Кажется, только дотронься до него, только
окликни, как он взорвется. Нет, Трофим не уедет отсюда. Как ошибаешься ты,
мой бедный друг, что одним внушением можно избавиться от такой болезни!
Рядом с Василием Николаевичем Лебедев пишет письмо своей жене. Вот он
поднял голову, и тотчас его поймал взгляд больного.
-- Кирилл, мы давно с тобою вместе, скажи хоть ты, отрежут мне ноги?
-- Ты уж слишком. Все останется при тебе, вот увидишь. Домой явишься
как огурчик.
-- Кому я теперь нужен -- калека. -- И опять в его голосе
безнадежность, тоска по жизни. -- Разве на лыжах плохо я ходил, --
продолжает Василий. -- Помнишь, Кирилл, как мы на Подкаменной Тунгуске
медведя гнали с тобой по снегу? Только что я из чашечки высунулся, а он
поверни на меня. На задки! Здоровущий, сатана, да злой. Вижу, сворачивать
поздно. Наплываю на него, винтовку выбросил вперед, да осеклась она. Оробел
тут и я, а медведь как фыркнет, всего меня захаркал, лапой замахнулся, хотел
заграбастать, да ты вовремя пулю пустил... Теперь уж больше такого не
будет...
Я не могу слышать его голоса, видеть его беспредельной тески по
ушедшему времени. Как тяжело ему расставаться с нами, с тайгою, где прошла
добрая половина его жизни. Какими словами вселить в него веру в то, что все
обойдется хорошо? Но обойдется ли? И от этой мысли во мне все леденеет.
Лебедеву тоже больно слушать его слова. Он отрывается от письма.
-- Послушай, Василий, -- говорит он деловито. -- Вернешься домой из
больницы, посади мне новую сплавную сеть.
-- Ты думаешь, я смогу работать? -- и в его голосе появляется какая-то
надежда.
-- Ряж сплетешь сам, ячею делай покрупнее, высоту сети пускай с метр,
думаю, хватит.
-- Конечно, хватит. А дель и грузила у тебя припасены?
-- Все лежит дома у Нюры.
-- Сеть-то тебе понадобится нынче, да успею ли я скоро вернуться из
больницы?
-- Там тебя не задержат, а дома поторопишься, -- и Кирилл начинает
укладывать его с такой нежной заботой, что ему удается совершить чудо,
утешить больного. Василий Николаевич вдруг смолкает, успокаивается и,
обнадеженный, засыпает.
Шальная туча заслонила солнце. С неба упал на тайгу журавлиный крик.
Вот и осень пришла, не задержалась. Взглянул на голец и удивился: вершины
уже политы пурпуром, уже пылают по косогорам осенние костры. Но долина еще
утопает в яркой зелени тайги.
Осень здесь обычно короткая. Незаметно отлетят птицы, притихнут реки,
оголятся леса и нагрянут холода. Зима часто приходит внезапно вместе со
свирепыми буранами, и надолго, больше чем на полгода, скует землю лютая
стужа. Чувствуется, скоро наступит этот перелом в природе, а работы у нас
здесь еще много, слишком много...
-- Чайку не хотите? -- спрашивает Трофим и вдруг вскакивает,
настораживается.
-- Копалуха!.. -- говорит он таинственным шепотом.
«Ко-ко-ко-коо-коо...» -- доносится ясно из чащи.
Трофим бросается в палатку, шарит в вещах, достает мелкокалиберку,
долго ищет по карманам патрончики. В глазах азарт, второпях не может
зарядить винтовку, а из лесу доносится четко:
«Ко-ко-коо-коо...»
Трофим скачет на звук, спотыкается о колоду, на кого-то чертыхается.
Давно я не видел его в такой горячке.
-- Стой, не стреляй, своих не узнаешь! -- и я вижу, как перед Трофимом
из-за ольхового куста поднимается Филька. Морда довольная, будто только что
кринку сметаны съел.
-- Это ты, дьявол, кричал?
-- Троша, не сердись, в наш век всему есть оправдание! Вот послушай, --
Филька усаживается на валежине, прикрытой густым мхом, предлагает рядом
место Трофиму и начинает рассказывать.
Слова он выпаливает с каким-то треском, беспрерывно жестикулирует
руками, как бы стараясь восполнить ими то, что не может выразить языком.
Одновременно ему помогают и глаза, и брови, он гримасничает, то вскакивает и
начинает наглядно изображать какую-то сценку, то тычет себя в грудь кулаком.
Словом, Филька весь, как есть весь, участвует в рассказе, где, чаще всего,
герой он сам.
Вот он любовно кладет свою руку на плечо Трофима.
-- Я хотел тебя, Троша, поманежить. Побегал бы ты по чаще, поискал бы
копалуху, да побоялся, как бы по мягкому месту свинцом не угадал. Вчера меня
за такие дела чуть-чуть не столкнули в пропасть. Стою на скале, вас караулю,
орешки стланиковые пощелкиваю, а наши все сидят на берегу, насупились, как
сычи перед непогодой, ждут, когда я пальну из ружья, знак подам, что вы
плывете. Дай-ка, думаю, развеселю их малость. Разрядил винтовку, приложил
конец к губам и заревел по-изюбриному. Вот уж они всполошились! Хетагуров
кинулся в палатку за пистолетом. Кирилл Родионович схватил карабин, в лодку,
второпях чуть было не утоп. Кое-как переплыл -- и давай скрадывать... Мне-то
хорошо видно сверху, как он вышагивает, словно гусь, на цыпочках, глаза по
сторонам пялит или вытянет шею, прислушивается. Чудно смотреть со стороны,
страсть люблю!.. Вижу, он уже близко. Приложил я к губам ствол, потянул к
себе воздух, ан не ту ноту взял, сфальшивил, ну и сорвалась песня. Родионыч
сразу смекнул, в чем дело, бежит ко мне, ружьем грозится. Ну, думаю, Филька,
конец тебе, добаловался. Стопчет, и пойдешь турманом в пропасть. Да хорошо,
не растерялся -- давай стрелять в воздух, а сам кричу: плывут, плывут! Тот
сразу размяк, остыл. «Ну, черт желтопузый, -- говорит он -- твое счастье, а
то бы уже бултыхался в Мае!» А меня, веришь, смех распирает. Где плывут, --
спрашивает Родионыч и конкретно хватает меня одной рукой за чуб, а другой за
сиденье. -- Показывай, где плывут?! -- У меня мозга сразу не сработала, не
знаю, что соврать. И вдруг от вас выстрел. Тут я ожил, попросил повежливее
со мной обращаться.
Спускаемся мы со скалы к реке, я и говорю ему: пусть Хетагуров не
охотник, сгоряча бросился, а ты, Родионыч, чего махнул через реку, неужто
поверил, что в августе может реветь изюбр?
-- Тебе, черту, шуточки, -- отвечает он, -- а я, посмотри, поранил
ногу.
-- К чему ты людей баламутишь? -- спрашивает, уже успокоившись, Трофим.
-- Так ведь, Троша, живем мы только раз, как сказал наш великий Саша
Пресников, а он это точно знает. От такой кратковременности я и шучу.
Филька давно работает в экспедиции. Родных у него нет, семьи тоже, и
никакой Наташки, весь он тут с нами. Филька принадлежит к категории людей,
для которых жизнь в городе или в деревне -- тюрьма, а всякое накопление
ценностей -- тяжелая ноша. В нем живет дух бродяги. Это и привело его к нам
в экспедицию несколько лет назад. Тут он и обосновался.
На работу Филька хлипкий, как говорят его друзья, но на шутки, на
выдумку -- горазд. С ним не заснешь, пока он сам не выбьется из сил. Он не
даст унывать. Всюду он желанный гость. Все горой за него.
...Трофим принес к костру свой приемник, начинает испытывать его.
Решаюсь еще раз поговорить с ним.
-- У меня есть интересный план, -- начинаю я. -- Мы отвезем Василия в
Хабаровск, затем полетим с тобою в Тукчинскую бухту, обследовать район
будущих работ.
Трофим привинтил обратно только что снятую крышку, отставил приемник в
сторону и, не взглянув на меня, не сказав ни слова, ушел в лес.
-- Одичал мужик, -- сказал Филька серьезно, когда его скрипучие шаги
смолкли за чащею.
Я не знаю, что делать? Упрямство Трофима меня окончательно обезоружило:
оставить его здесь нельзя и уплыть без него не могу. Теперь-то уж можно было
бы пожить без тревоги, так нет: она все еще плетется следом.
Ко мне подсаживается Лебедев.
-- Работы тут у нас много, оставьте Трофима, -- начинает он выкладывать
давно созревшие мысли.
-- Ты с ума сошел! Не вздумай сказать ему.
-- Он не поедет, зачем упрямитесь? А уж ежели приступ повторится, тогда
отправим, сам не поедет -- увезем связанным.
-- Это, Кирилл, не выход. Не наделать бы глупостей. Ты не представляешь
Трофима в невменяемом состоянии.
-- Но и насильно увозить нельзя. Ей-богу, нельзя!
Мысли мои раздвоились. Пришлось согласиться с предложением Лебедева, и
я стал собираться в путь.
Вечером получили сообщение из штаба, что У-2 завтра приступит к поискам
проводников и что во второй половине дня к устью Маи прилетит санитарная
машина.
Тайгу прикрыла ночь. Мы не спим. Много раз догорал и снова вспыхивал
костер. Близко у огня лежит Василий Николаевич. У него закрыты глаза, а сам
он весь в думах. Больно покидать ему тайгу. И от каких-то мыслей у него то
сомкнутся тяжелые брови, то вздрогнет подбородок или вдруг из горла вырвется
протяжный стон, и тогда долго мы все молчим.
«Неужели, Василий, это твой последний костер, последняя остановка, и
тебя ждут горестные воспоминания о былых походах, так нелегко оборвавшихся?
У тебя есть что вспомнить, и не эти ли воспоминания будут тебе вечной
болью!» -- записал я тогда в дневник.
-- Кирилл, сядь ближе, -- говорит Василий, не раскрывая глаз. -- Посиди
со мною, не оставляй одного.
-- Хорошо, я буду с тобою, -- и он пытается отвлечь его от мучительных
дум: -- Скажи, Василий, на лодках мы поднимемся по Мае, хотя бы километров
пятьдесят?
-- Подниметесь... Где на бичеве, где на шестах, -- отвечает он, тяжело
ворочая языком. -- Ну не без того, что искупаетесь.
-- А ты не забудь насчет сети, вернешься из больницы, поторопись. --
Кирилл расстилает рядом с ним свой спальный мешок, подсовывает в огонь
головешки. Долго слышится их медлительный говор.
Ночь дышит осенним холодком. Устало плещется река. Я забираюсь под
полог, но не могу уснуть. Завтра покидаю тайгу. Вспомнился Алгычанский пик,
весь в развалинах, опоясанный широченным поясом гранитных скал, вспомнилась
схватка с Кучумом из-за куска лепешки, глухие застенки Маи и перерезанный
ремень. Вот и конец путешествию. Уже отлетели журавли, пора и мне. И вдруг
потянуло к семье, к спокойной жизни, от которой весною бежал. Неужели нынче
я так рано утомился? Но как только подумалось, что придется снять походную
одежду, пропитанную потом, лесом, пропаленную ночными кострами, и укрыться
от бурной жизни в стенах штаба, мне вдруг стало не по себе.
Разве вернуться из Хабаровска? Не будет ли поздно, ведь до окончания
работ остается с месяц. В голове зарождаются новые мысли и, как бурный поток
реки, захватывают всего меня. Я встаю, забираюсь под полог к Хетагурову.
-- Ты не спишь, Хамыц?
-- Что случилось? -- спросонья спрашивает он.
-- Сейчас расскажу. Плыви-ка ты с Василием. Пусть Плоткин отвезет его в
Хабаровск, он все устроит лучше меня, а тебе надо вернуться в штаб. Начнут
съезжаться подразделения, пора готовиться к приему материала.
-- Видимо, ты хочешь продолжения...
-- Не совсем так. С Василием все ясно, ему нужна больница, а с
Трофимом, видишь, как получается, не хочет ехать. Я не могу оставить его
здесь. Всяко может случиться, и тогда ни за что себе не прощу. К тому же мне
сейчас полезнее не в штабе быть, а здесь. Мая еще может сыграть с нами
шутку.
-- Самое разумное -- отправиться тебе вместе с Трофимом и Василием.
-- Это исключено.
-- Тогда поплыву я.
Я возвращаюсь к себе и мгновенно засыпаю.
Лагерь разбудил крик взматеревших крохалей, первое лето увидевших
беспокойный мир. Еще нет солнца. Хвоя, палатки, песок мокры от ночного
дождя. По небу медленно плывут разорванные тучи зловещего багрово-красного
цвета.
Плот сопровождать будут Хетагуров и Пресников. Последний вернется с
рабочими на двух долбленках, уже закупленных в Удском для Лебедева.
Садимся завтракать.
-- Филька, опять дрыхнешь! -- кричит Лебедев.
-- Его нет, до рассвета куда-то ушел, -- поясняет Евтушенко.
-- Опять что-нибудь затеял! На работу не добудишься, а на выдумки и сон
его не берет!
В лучах восхода тает утренняя дымка. Все собрались на берегу. Где-то
бранятся кедровки, да плещется перекат под уснувшим над ним туманом. В
заливчике на легкой зыби качается плот. Посредине на нем лежит Василий
Николаевич с откинутой головой. Я опускаюсь к нему, припадаю к лицу. Он
мужественно прощается. Это успокаивает меня. За мною подходят остальные.
Тяжелое молчание обрывает Хетагуров:
-- Счастливо оставаться, нам пора!
Мы жмем ему руку, прощаемся. Но не успел он с Пресниковым подойти к
веслам, как из чащи выскакивает запыхавшаяся Бойка. Видно, бежала издалека,
торопилась. Вскочив на плот, она начинает быстро-быстро облизывать лицо
Василия, а сама не отдышится. И тут больной не выдерживает, прижимает
собаку, рыдает.
Мы, онемевшие, расстроенные, не знаем, чем успокоить его. А впрочем,
зачем! Пусть выплачется...
На плот поднимается Трофим, хватает Бойку, оттаскивает ее от Василия
Николаевича. Собака вырывается, грозится зубастой пастью, цепляется когтями
за бревна, хочет остаться.
И вдруг до слуха доносится грохот камней. Мы все разом оглядываемся. Из
леса выскакивает Филька с охапкой цветов, кое-как, наспех сложенных.
-- Чуть не прозевал! -- кричит он издали и, увидев сцену с Бойкой,
шагом подходит к плоту.
Как неумело держат его руки цветы, как неловко он себя чувствует с
ними, точно несет тяжелый груз.
-- Дядя Вася, это... -- и Филька вдруг теряет дар речи. Он прыгает на
плот, бережно кладет цветы на спальный мешок, молча сходит на гальку.
-- Отталкиваемся! -- командует Хетагуров, Плот медленно отходит от
берега. Василий Николаевич все еще плачет. Мы стоим молча. Так и остался в
памяти на всю жизнь дикий берег Маи, цветы и суровые лица людей, провожающих
своего товарища. И мне почему-то вдруг вспомнилась другая, давняя картина,
которую я наблюдал в Николаевске. На покой уходил пароход, бороздивший более
пятидесяти лет воды Амура, переживший революцию, помнящий былые времена
золотой горячки на Дальнем Востоке. Он был старенький-старенький, весь в
заплатах, с охрипшими двигателями. На всех кораблях, баржах, катерах,
находившихся в порту, были подняты флаги. Провожать пришли седовласые
капитаны, матросы, кочегары. Пароход, гремя ржавыми цепями, в последний раз
поднял якорь, развернулся и тихим ходом отошел от пристани, направился к
кладбищу. Помню, как одна за другой пробуждались сирены на кораблях,
стоявших у причалов, и как долго над широкой рекой висел этот траурный гимн
уходящему от жизни пароходу.
Что-то общее было в этом прощании с проводами Василия Николаевича.
Неужели он никогда не вернется в тайгу?..
VI. НА САГЕ НЕ ГACHET СВЕТ
I. Шумно стало в лагере. Ветер срывает последние листья. Белка
дразнится. Меня спасают Бойка и Кучум. Неожиданная встреча.
Лагерь на Мае не узнать. Шумно стало на левом берегу притомившейся
речки. Сюда пришли новые отряды, и каждый из них принес на косу свои
палатки, свой костер, свои песни. Полотняный городок, возникший внезапно в
дикой тайге, живет бурной деятельной жизнью.
На другом берегу Маи, несколько повыше лагеря, расположились
проводники-эвенки из Удского со своими оленями. Я не могу видеть конусы их
закопченных чумов, не могу слышать их говора -- это мне напоминает стариков
Улукиткана и Николая. Их не нашли. Долго У-2 рыскал по-над Чагарским
хребтом, не раз облетал вершины рек Удыгина, Лючи -- и все напрасно! Не
обнаружили их следа и наши топографы, работающие в том районе. Вчера
получили сообщение из стойбища Покровского, что Улукиткан с Николаем не
вернулись домой. Больно думать, что так нелепо погибли эти два чудесных
старика. Ушел от нас Улукиткан без теплого прощального слова, ушел, и мы
никогда не узнаем о причинах, заставивших проводников бежать с Маи, не
дождавшись нас.
Когда я теперь встречаюсь с новыми проводниками, почтенными старцами,
такими же трудолюбивыми и честными, как Улукиткан и Николай, мне всегда
кажется, что в их строгих лицах, в их малюсеньких глазах, даже в молчании --
суровый приговор. Теперь я знаю, мертвые не прощают.
Мы с болезненной настороженностью ждем сообщений из Хабаровска. На наши
ежедневные запросы Плоткин отвечает лаконично: «Днями сообщу». И мы ждем.
Видимо, и для врачей болезнь Василия Николаевича остается загадкой.
Тревожные думы не покидают меня вместе с раскаянием, что я не с ним в
эти решающие для него дни. Каким одиноким и заброшенным он там чувствует
себя в незнакомом ему городе, так далеко от нас, от привычной для него
обстановки.
А что творится с Бойкой! Она как-то по-своему ждет хозяина,
настороженно караулит малейший звук, долетающий до нее с реки. Чуть что
стукнет, послышится всплеск волны или удар шеста, как она уже там. И тогда
оттуда доносится ее тоскливый вой, ее жалоба миру.
Иногда, вернувшись с реки, Бойка кладет свою морду мне на колени, долго
и пристально смотрит в лицо. Сколько в ее чуточку прищуренных глазах грусти,
ожидания!
У Трофима приступы не повторились. Он здоров. Теперь я, пожалуй,
спокоен за него. Но мне кажется, что в наших отношениях нет прежней
доверчивости. Когда мы остаемся вдвоем, нам не о чем говорить, мы как будто
стесняемся друг друга. Может быть, это потому, что у него еще не зажили
кровавые браслеты на руках, а я все еще не могу избавиться от ужасного
зрелища, когда Трофим, силясь порвать веревки, бился, привязанный к бревнам.
Он ведет постройку пунктов на гольцах левобережных гор. Рабочие в его
бригаде впервые попали на геодезические работы, все для них тут ново,
непривычно, и на плечи Трофима легли все хлопоты: он и плотник, и бетонщик,
и повар, и носильщик. Но это ему, как говорится, по плечу.
У него радость -- в Зею приехала Нина с Трошкой. Скоро она будет нашей
гостьей в тайге.
Утро прозрачное, безветренное. Тухнут ночные костры. Небо над тайгой
кажется высоким и легким. Над сопкой с двугорбой вершиной холодное солнце, а
против него на западе, прильнув к гольцу, дремлет никому не нужная луна.
Отряды один за другим покидают лагерь, уходят к местам работы. Я
остаюсь один с радистом Евтушенко. Сегодня у нас связь со всеми начальниками
партий. Для экспедиции наступила напряженная пора: скоро зима, надо
проследить, чтобы не осталось незавершенных объектов, и успеть до заморозков
вывезти людей из далеких районов тайги. А в поле еще много работы.
Топографы -- молодцы, они выполнили задание, потушили в тайге свои
походные костры, пробираются в жилые места. Но геодезисты и астрономы все
еще не могут выйти из прорыва. Сильно отстают наблюдения. Для них это лето,
с обильными лесными пожарами, было неблагоприятным. Вся надежда теперь на
осень, и сюда -- на Маю, стягиваются люди, материальные и транспортные
средства. Погода благоприятствует нам: дни стоят теплые, дали открыты, ночью
для астрономов щедро светят звезды.
Целый день пустует наш лагерь. Вот и тьма уже подползла из трущоб,
распласталась лохматой шкурой по широкой долине. Тишина чуткая, выжидающая.
Где-то у черных развалин правобережных скал, над синей, еле поблескивающей
рябью реки, протяжно заскулил и смолк куличок-перевозчик.
«Ух... ух... ух...» -- простонала над лесом сова.
Вспыхнул костер, и тьма отхлынула к померкшим небесам. Быстро закипел
чайник. Жду, напряженно прислушиваюсь к дремлющим пространствам. И вдруг
сердце наполнилось приятной тревогой -- из далекой глуши прорвалась песня.
Вздрогнула тайга, насторожилась и захлебнулась чужим звуком. А вот и с реки
долетел людской говор, затем снизу народились и уже не смолкли торопливые
шаги каравана. Это бригады возвращались на стоянку после работы.
Шумно вдруг стало в лагере. Грохот посуды, смех, перекличка сливаются в
разноголосый гомон. По лесу не смолкает звонкое эхо.
...Появившийся Филька затолкал в огонь смолевой пень, и вспыхнувшее
пламя осветило необычную картину. Костер у моей палатки окружили люди,
разместившиеся кто на чем смог: на дровах, на ящиках от инструментов или на
земле, подложив под себя телогрейку. Их одежда истлела на плечах, вся
украсилась латками. Кто в поршнях, кто в эвенкийских олочах или в изношенных
сапогах, выдержавших испытания долгого лета. Пальцы у многих поржавели от
цигарок.
Все они великолепные инженеры, начальники подразделений, переброшенные
на Маю решать сложную геодезическую задачу. Тут опытные наблюдатели,
астрономы, базисники, строители. На их бронзовых, загорелых лицах печать
тяжелых походов, долгих раздумий и внутреннего удовлетворения. Настроение у
всех воинственное. А ведь, казалось бы, им уже давно пора заскучать о покое.
Сегодня они собрались у моего костра за кружкой чая. Последним пришел
Петя Карев -- главарь базисной партии, как его называют шутя. Худой,
длинный, он шагал мерно, твердо, походкой вождя сильного племени.
Подойдя к костру, Карев снял с головы ситцевый накомарник, и налетевший
с реки ветер ласково взъерошил светлые волосы.
-- Где бы примоститься? -- сказал он, окинув быстрым взглядом
присутствующих.
Наблюдатель Михаил Куций отодвинулся от края бревна, и Карев опустился
рядом.
-- Мошка, братцы, заела, видно, зима тут близко возле нас, -- сказал
он, устало растирая лицо ладонями.
-- Ты когда кончаешь измерение базиса? -- спрашивает его Арсентий
Виноградов -- худощавый наблюдатель, заядлый таежник.
-- Дня через два приходи провожать.
-- Уедешь?
-- Уеду.
-- А зима, говоришь, близко?
-- Не за горами.
-- И все-таки уедешь, не поможешь наблюдать? -- и Виноградов нервно
начинает крутить цигарку.
Карев настороженно смотрит на Виноградова, пытаясь разгадать, насколько
серьезен разговор.
-- Мне еще надо до зимы успеть измерить Кулундинский базис, -- сказал
он примирительно.
-- Его и через месяц измеришь, а нам тут самим не управиться, снегом
завалит. Вот и получится: кобылка воду возит, а козел бороду мочит.
На лицо Карева, облитое заревом костра, легла грусть несбывшихся
желаний. Видимо, в нем уже окрепла мысль ехать на Кулунду, жаль менять
планы.
-- Трудная задача, Арсен, -- и Карев нервно теребит густые завитушки
курчавой бороды.
-- Трудно, но надо решать, -- вмешиваюсь я в разговор. -- Думаю, что мы
последний раз собрались вместе. Скоро действительно зима. Многие
подразделения уже вышли из тайги, а у нас тут на Мае работы непочатый край.
Если будем работать прежними темпами, времени не хватит. Пусть каждый из нас
сейчас решит, способен ли он отказаться от всех удобств, сутками не спать,
передвигаться ночью, работать до победного конца?
Тишина... Кто-то громко вздохнул.
В темноте, за краем тальников, то всхлипывая, то посмеиваясь, шумит
невидимая река. Вдруг шорох ветвей и хруст валежника доносятся из леса. Все
поворачивают головы в сторону звука -- то собаки возвращаются с какой-то
таинственной прогулки. Кучум обходит круг твердой, уверенной походкой,
обнюхивает всех присутствующих и, видимо решив, что люди ненадежные, ложится
у моих ног.
У костра неожиданно появляется Филька. Люди настораживаются, тишина
становится выжидающей. Видим, он запускает руку в карман, медленно
вытаскивает из него новенькую коробку «Казбека». Все так и ахнули -- откуда
у него это взялось?! А Филька, на виду у всех, ногтем разрезает наклейку,
раскрывает коробку и с небрежным безразличием, точно ему надоело всю жизнь
курить табак высшего сорта, достает папиросу, стучит ею по коробке,
засовывает в рот, а остальные демонстративно прячет в карман.
-- Ну и наглец же ты, Филька! -- слышится приглушенный голос Куцего.
Филька прикуривает от уголька, с наслаждением затягивается и только
после этого с притворной поспешностью достает коробку.
-- Может, кто закурит?
Ребята со смехом тянутся к коробке.
Разговор продолжался до полуночи. Он был полезным: Карев, после
измерения базиса, задержится на Мае, астроном Новопольцев отнаблюдает
пункты, и завтра все отряды снимут свои палатки, переселятся к местам работ.
Не хочется уходить от костра.
-- Чайку горячего налить? -- спрашивает Филька и снова достает коробку
«Казбека», повторяет сцену соблазна.
-- Ты же, Филька, не куришь!
-- Кирилл Родионович разбаловал.
-- Ну уж это ты не ври!
-- Не верите?! С места не сойти мне, он приучил!
-- Тебе поклясться -- все равно что сплюнуть.
Филька кривится, точно от ушиба, прячет неприкуренную папиросу обратно
в коробку, усаживается против меня.
-- Хотите, расскажу без вранья? -- А у самого с лица не сходит
лукавство. -- Выехали мы нынче весною в тайгу. Все честь по чести: ребята
курят махорочку, а Кирилл Родионович табачок. Трубку завел резную,
загляденье! Спустя месяц зовет он меня и говорит: «Хочу, Филька, бросить
курить. Что ты посоветуешь?» Я возьми да все и выложи от чистого сердца: «На
вас, -- говорю, -- лица нет от этого проклятого зелья. Ночью хрипите, как
бегемот, заговариваться стали». Он сразу оробел. «Бери, -- говорит, -- всю
эту дрянь: и табак, и трубку, и кисет выброси. Баста, не курю!» Забрал я
все, вышел из палатки, а вот выбросить -- рука не поднялась. Табачок он
курит отменный, да и трубка рублей сто стоит. Оставил у себя и стал
помаленьку, крадучись, баловаться, ну и привык. А дней через десять слышу,
Кирилл Родионович ревет: «Филька, поди сюда! Это ты, голопузый черт, смутил
меня бросить курить! Где трубка? Шкуру спущу с тебя!» Уж я-то знаю, рука у
него тяжелая, -- отдал. «А табак где?» Я и так, и сяк, не говорю, что
выкурил, дескать, выбросил, как приказывали. «На первый раз, -- говорит он,
-- отделаешься рублем, а в следующий раз посмей закурить!» -- и вытолкал
меня. Пришлось бросить курить... Через месяц опять зовет, сразу за грудки:
«Ты трубку мне подсунул?» -- и пошел, и пошел. «Забирай, -- говорит, --
табак и все причиндалы, чтоб духу их тут не было, унеси подальше, пусть
черти курят! Попробуй, не выброси, суслика из тебя сделаю!» Так вот он и
приучил меня курить.
-- А папиросы у тебя откуда?
-- С трубкой отдал Кирилл Родионович, теперь за них он не то что
суслика, мокрое пятно сделает из меня.
-- Сделает! -- вырывается у меня, а сам-то знаю, что Филька врет, врет
ради потехи.
...С утра моросит мелкий дождь. Глухо отдаются в сыром воздухе звуки
пробудившегося дня. Лагерь постепенно пустеет: снимаются палатки, стихает
говор. Связки груженых оленей, сопровождаемых криком каюров, скрываются в
лесу, и их следом уходят люди.
Отряды Трофима и Лебедева задержатся сегодня, чтобы расчистить площадку
на косе ниже устья Нимни для У-2, и уйдут вверх по Мае на постройку пунктов
ряда Уда-Алданское нагорье. Базисную же сеть за них будет достраивать Гриша
Коротков, и наблюдать ее будем в последнюю очередь, когда закончим работу на
вершинах гольцов.
В разоренном лагере гнетущая скука. Что делать сегодня? Решаюсь
отправиться к астрономам и принять участие в утренних наблюдениях, к которым
они должны приступить завтра.
Нагружаю котомку, беру плащ, карабин. Кладу в карман кусок лепешки.
Случайно ловлю на себе настороженный взгляд Бойки. И тут меня осеняет:
возьму-ка собак, авось, зверя найдут! Без мяса невесело в тайге.
-- Пошли! -- кричу я собакам.
Обрадованные Бойка и Кучум носятся вокруг стоянки. Но стоило мне отойти
от палаток, как они исчезают с глаз.
От лагеря разбежалась по сторонам тайга, редкая, гнилая, с еловым
буреломом. Как быстро пролетело короткое лето! Лиловая мгла повисла над
тайгою. Только тучи, изредка набегающие с юга, все еще потрясают обнаженную
землю могучими разрядами.
Тропа, протоптанная людьми Новопольцева, подводит меня к броду через
Нимни. Вода в реке прозрачная, как воздух после дождя, и такая холодная,
будто только что скатилась с ледника. Я разуваюсь, скачу по скользким камням
переката.
Собаки где-то впереди обшаривают тайгу.
Иду не спеша. Под ногами шуршит опавший лист. Тропа становится
капризной, озорной. Заманивает вглубь, крутится по бурелому, скачет по
уступам оголенных сопок, бежит вниз и пропадает в густом лесу, опаленном
осенним холодком. Тишина. Шагаю по мшистому полу тайги. Что-то промелькнуло
в просвете, еще и еще. Белка!
Она быстро скачет по веткам, задерживается на сучке, глядит на меня
крошечными бусинками. Я ни с места, стою, не шевелюсь. Белка вдруг как
зацокает, как захохочет!
Пугаешь? А я не уйду!
Ее это удивляет. Она протирает крошечными лапками плутовские глаза,
нацеливает их на меня, не верит, что это пень. И вдруг падает по стволу вниз
головой до самых корней, и словно дразнится. Я не поддаюсь соблазну, стою.
Два прыжка, и плутовка на тоненькой березке совсем рядом. Опять сверлит меня
лукавыми глазками. То привстанет на дыбы, приложит лапки к белой грудке, то
почешет за ушком, беспрерывно гримасничает и трясет пушистым хвостом.
-- Ах ты, баловница! -- шепчу я в восторге, как ребенок, плененный
игрой.
Миг -- и белки нет на березке. Вижу, скачет попрыгунья вверх по стволу
и замирает на первом сучке, озорно повернувшись в мою сторону: «Вот и не
поймал, ха, ха!..»
-- Да я и не ловил тебя, глупенькая шалунья!
Иду дальше. Опять тихо, мирно в тайге. Шаги глохнут в мягком моховом
покрове. Сквозь колючие узоры леса виднеется пологая вершина гольца Нимни,
где работают астрономы. Правее и ближе широкая падь. Выхожу к ней,
останавливаюсь в раздумье -- куда направиться?
Исчезающее солнце бросает на умиротворенную тайгу прощальный луч.
Природа проникается молитвенной грустью. Над пылающим закатом теснятся
прозрачные облачка, похожие на пыль. Сказочная картина, разрисованная
красками мягких тонов, какие не может придумать даже воображение. Все
мерцает, переливается, гаснет. Тут же опять возрождается, и я вижу новые,
еще более нежные, цвета. Сделай их ярче, контрастнее, и они уже не будут
столь прекрасны.
Вижу, какая-то крошечная птичка свечой поднялась в высоту и, замирая
над вершинами лиственниц, долго трепетала крылышками от восторга.
Собак не видно, но я знаю, они где-то впереди и не выпускают меня со
слуха. Придирчиво осматриваю кочковатую падь, заглядываю в просветы леса.
Стою, придавленный тишиной. Нигде никого. Точно совсем оскудела земля. И
вдруг безмолвие леса потрясает рев. Что бы это значило? Стою, жду. Рев
повторяется...
Вижу, из перелеска пугливо выкатывается черный зверь. Узнаю сохатого.
Это самка. Стремительной иноходью несется она через падь. За ней теленок.
Следом из чащи вырывается медведь. Огромными прыжками он накрывает малыша,
подминает под себя. До слуха доносится предсмертный крик сохатенка. Короткая
возня, и на краю порозовевшей от заката степушки вырастает живой бугорок.
Я упираюсь спиною в лиственницу, спокойно подвожу под медведя мушку
карабина. Тишину взрывает выстрел и следом второй. Бугорок разламывается.
Одна часть подпрыгивает высоко, никнет к земле бурым пятном. Жду с минуту.
Не шевелится. «Хорошо угодил!» -- хвалю себя мысленно и иду через падь.
Иду не торопясь. Глаза караулят бурое пятно. Уже различаю голову
медведя, спину, сгорбленную предсмертными муками, и его переднюю когтистую
лапу, упавшую на морду.
Медведь мертв. Поодаль от него, за елью, лежит загрызенный теленок,
вверх брюхом, раскинув в воздухе, как в быстром беге, длинные ноги.
Сбрасываю котомку, кладу на нее карабин. Тишина. Собак не слышно, но они
должны явиться на выстрел. Все слилось с легким сумраком. В светло-зеленом
небе плывут облачка нежных очертаний.
Я ощупываю зад убитого медведя. Он толстый и мягкий, как хорошо
поднявшееся тесто. А какая шуба -- густая, пушистая! Радуюсь -- легко
досталась добыча.
Вытаскиваю нож. Подхожу к зверю, слегка выворачиваю его на спину.
Начинаю свежевать. Беру заднюю лапу в руку, с трудом втыкаю острие ножа под
кожу у пятки. Ну и крепкая!
Хочу сделать надрез на-под ступней, но вдруг чувствую на себе чей-то
гипнотизирующий взгляд. Поворачиваю голову, и сердце каменеет -- на меня
смотрят синие малюсенькие глаза медведя. Он жив! Он, кажется, еще не
понимает, что происходит. Я стою как истукан. Не выпускаю из левой руки его
лапу. Зверь поднимает голову, тянет носом, и от сильного толчка я лечу
кубарем в сторону, за ель.
Не попадись в этот момент зверю под ноги котомка с карабином, он поймал
бы меня в прыжке. Этого не случилось.
Как выяснилось позже, одна из пуль задела медведю позвонок. У него
получился шок. Он потерял сознание, но ненадолго. Возможно, физическая боль,
причиненная ножом, помогла ему прийти в себя.
Пока медведь потрошит рюкзак, я прихожу в себя. Вся надежда на ель.
Косолапый точно вдруг вспоминает про меня, бросается к стволу, за
которым стою я. Пальцы правой руки до боли сжимают рукоятку ножа. Никогда
этот зверь не был мне так страшен и не казался таким могучим. В коротких
лапах, слегка вывернутых внутрь, чудовищная сила. Медведь гонит меня вокруг
ели, ревет от злости, и из его открытой пасти брызжет слюна вместе со
сгустками черной крови.
В слепой ярости зверь набрасывается на корни ели, рвет их зубами,
мечется то вправо, то влево. В напряжении я слежу за каждым его движением,
чтобы вовремя отскочить. Но так не может продолжаться долго. Разве рискнуть
ударить ножом? Другого выхода нет. Я еще колеблюсь, но медлить больше
нельзя.
С дикой решимостью откидываю назад руку с ножом -- и замираю от
неожиданности: вижу, из тайги выкатывается Кучум, за ним Бойка. Оба несутся
к нам с невероятной быстротой. Зверь не успевает прийти в себя, как на него
наваливаются собаки. Одним рывком он сбрасывает со спины кобеля. Тот
ударяется о кочку, турманом летит через нее, и его накрывает лохматой глыбой
медведь. Но Бойка уже на спине хищника, и клубок сцепившихся врагов
разрывается на три части. Я хватаю карабин. Стрелять опасно: зверь и собаки
держатся кучно. Вижу, Кучум сатанеет, лезет напролом, вот-вот попадет в лапы
медведя.
Так их всех разом и поглотила тайга.
Свежую сохатенка, раскладываю мясо по кочкам, чтобы оно остыло. Где-то
тут заночую.
Преследовать медведя нет смысла. Напуганный собаками, он теперь уйдет
далеко, если не ослабнет от пулевых ран. Собираю рюкзак, кое-как связываю
его, накидываю на плечи. Решаюсь перейти падь и у кромки леса дождаться
возвращения Бойки и Кучума.
Бреду по мелким кочкам, а сам все прислушиваюсь, не донесутся ли
знакомые голоса собак. Нет, молчит тайга, как заколдованная. Срам какой,
упустил зверя!
Миную озерко. За ним небольшая возвышенность, прикрытая лиственничной
тайгою, спустившейся сюда с сопок. Выхожу наверх. Сбрасываю котомку. Сажусь
на столетний пень. Отсюда мне хорошо видна вся падь, перехваченная узкими
перелесками, отдыхающая в вечерней мгле. Дымокура не развожу, таюсь, жду.
Может, еще какой зверь появится.
Никого нет. Глаза устают. Мошка беззвучно толчется над головой, липнет
к лицу. Слишком короткая у нее жизнь, чтобы пренебрегать возможностью
напиться крови. И вдруг налетает ветерок, со звоном перебирает листву, и
запах увядшей травы наполняет долину. Воздух полон стрекоз. Тысячи
трепещущих жизней с легким стоном провожают день.
Вечерняя прохлада отпугивает мошкару. Дышится легче. Что это за черное
пятно появилось на мари у мыса? Встаю, протираю глаза, смотрю внимательно.
Шевелится. Ей-богу, шевелится! Неужели медведь? Хватаю карабин. Стрелять
далековато. Надо подойти ближе. Хочу спуститься с пригорка. Вижу, черное
пятно поднялось, вытянулось. Да ведь это человек! Зачем он здесь? Куда идет
один в ночь?! Добавляю в карабин патрон.
Быстро меркнет закат. Я не свожу глаз с незнакомца. Замечаю, что он
идет строго моим следом. Что бы это значило? Кто он? Зачем понадобился я ему
здесь, в таежной глуши?
Я отползаю вправо, подальше от пня, прячусь за толстой лиственницей.
Держу наготове карабин. По телу бежит холодок.
А человек приближается, не теряет мой след. За плечами у него ружье.
Одежонка какая-то странная, не наша, сильно поношенная. Кто-то чужой. И от
этой мысли руки крепче сжимают карабин.
Вот-вот стемнеет. Слышу, чавкают шаги по болоту, все ближе и ближе.
Жду, полон решимости встретить спокойно любую неприятность. Хочу запомнить
лицо незнакомца, но оно окутано густым вечерним сумраком. Да, это чужой!
Он выходит на пригорок, останавливается у пня, ощупывает голой рукой
место, где я сидел. Окидывает беспокойным взглядом лес.
-- Эй, люди! -- слышу его слабый голос, и мгновенная догадка вдруг
осеняет меня.
Не верю. Не может быть! Это привидение!
А ноги выносят меня из-за лиственницы, бесшумно шагают к пню. Я
тороплюсь, боюсь, как бы не исчез этот человек. Нет, не привидение. Я узнаю
дорогие мне черты, седые, никогда не чесанные пряди волос на голове,
скрюченные пальцы протянутых ко мне рук.
-- Улукиткан!.. -- вырывается у меня в приступе величайшей радости.
Вот он, мой старик, стоит рядом, завернутый в поношенную одежонку,
вместо шапки. -- грязный лоскут, на ногах какая-то рвань.
Улукиткан вздрагивает, поднимает на меня влажные глаза. В них и радость
и еще не пережитый страх за завтрашний день. Я сильнее прижимаю дорогого мне
человека к себе. Почти успокоившись, он берет мою руку холодными, как у
птицы, пальцами, прикладывает к своей костлявой груди. Бормочет какие-то
грустные слова и тихо плачет.
Этот вечер был для меня полон радости, больше, чем все другие, вместе
взятые, вечера.
Но не успели пройти первые минуты восторга, как вспомнилась Мая. Мне
почему-то показалось, что вот сейчас Улукиткан оттолкнет меня от себя и
начнет допрос. Я этого страшно боюсь...
-- Вижу, ты один идешь с котомкой, где же Василий? Где Трофим? Их нет с
тобой, и сердце упало подстреленной птицей.
-- Нет, нет, все живы! -- утешаю его.
-- Тогда пошто без них в тайге? Куда след ведешь? -- спрашивает он
строго.
-- Потом расскажу. А ты как попал сюда, где Николай?
-- Мы тут на незнакомой земле жалкий люди: все чужое, идем без тропы
куда глаза глядят, куда ведет нас голод...
Он откидывает назад голову, и я вижу его исстрадавшееся лицо. Скулы и
приплюснутый нос обтянуты желто-серой морщинистой кожей. На лбу и за ушами
краснеют бугорки -- свежие следы комариных укусов. Из-под тяжелых бровей, из
глубины впадин глаза источают слезы. Они скачут поперек морщин, точно по
ухабам, катятся по кровавым расчесам на шее и свинцовой тяжестью падают на
теплую землю.
Старик пятится назад, приседает на пень, подносит усталые руки к мокрым
глазам. Я обнимаю его седую голову.
-- Мы, Улукиткан, не виноваты, мы не хотели причинить вам горе...
Он освобождается от моих рук, встает. Лицо вытягивается. Исчезают на
нем серые пятна.
-- Это Харги, злой дух, сделал так, что мы не встретились на Мае. Он
тут, как тень, постоянно идет моим следом, отнял у меня учага, Баюткана, а
потом и вас, -- и печальный голос старика умолкает.
-- Но мы встретились, -- значит, ты сильнее Харги. Старик оглядывается,
шепчет:
-- Не скажи так. Жизнь старого Улукиткана -- все равно что гнилой
валежник на большой тропе, все, кто идет -- топчет ее. Разве ты это не
знаешь?
Что ответить! Чем утешить старика? Мы стоим молча, оба захваченные
внезапно нахлынувшим счастьем. В памяти пестрым листопадом замелькали
незабываемые дни наших скитаний по этим бедным пустырям, сроднившие меня со
старым эвенком.
-- Что же случилось у вас на стрелке? -- спрашиваю я не без волнения.
-- Долго говорить надо, пойдем к Николаю. Потом на таборе расскажу.
-- А где твой табор? -- и я накидываю на плечи рюкзак.
-- Там, за падью, -- старик проткнул скрюченным пальцем холодный
воздух, показал на закат. -- Наш табор все равно что зимой брошенный чум.
Третий день не знаем огонь... Мы только остановились, слышим, зверь заревел,
кто-то из ружья пальнул. Николай говорил, однако, эвенки зверя промышляют,
надо искать их. Пришел я на марь, вижу след сапога. Откуда, думаю, взялся
тут лючи (*Лючи -- русский), какое ему тут дело есть? Иду еще, смотрю, что
такое? Амикан (*Амикан -- медведь) топтался, мясо лежит сохатенка. А где же
охотник? Посмотрел кругом -- пусто; послушал -- никого. Нашел печенку,
пусть, думаю, зубы вспомнят свою работу, да и брюху не плохо печенка. Потом
до леса пришел, смотрю, пень насиженный. Ощупал его -- теплый, только что
люди сидел. Стал кричать. Тебя увидел, и сердце размякло, как язык от
сладкого сока, горе переломилось.
-- Пошли на носок, там послушаем собак, они за медведем ушли, может,
лают.
Старик вдруг помрачнел.
-- Другой стал Улукиткан, голос Кучума не узнаю, забывать стал его
добро.
Выходим на край леса. С гор сползает мутный завечерок. Вдалеке о
звонкую сушину последний раз бьет носом дятел. С реки налетел ревун-ветер и
падает устало на дно тайги. В вышине густеют звезды.
Стоим, прислушиваемся.
Улукиткан поворачивается в ту сторону, куда смотрю я. Потом становится
на колени, припадает ухом к земле.
-- Близко лая нет.
Я вспоминаю про лепешку, что захватил с собою про запас. Обрадую сейчас
старика! Сбрасываю рюкзак, тороплюсь развязать ремешок, достаю круг свежей
пшеничной лепешки. У Улукиткана добреет лицо. Он приподнимает голову,
осторожно, точно не доверяя глазам, тянет носом и начинает жевать пустым
ртом. Тут уже не до собак!
Бедный старик забыл давно вкус хлеба. Он протягивает просящие руки ко
мне, не может оторвать от лепешки глаз.
Я разламываю податливый круг. Одну половину даю старику, вторую
оставляю для Николая. Улукиткан берет кусок, торопливо запихивает его край в
рот, надкусывает, жует. Но вдруг что-то вспоминает. Разламывает свою порцию
пополам, стаскивает с худой, изъеденной мошкою шеи полуистлевший платок,
бережно завертывает в него хлеб и прячет глубоко в карман.
-- Это Кучуму... Его я не должен забывать, -- и грусть воспоминаний
сузила глаза.
-- Да ты что, Улукиткан, ешь, тебе он сейчас важнее, а отблагодарить
успеешь, на табор придем -- там всего много.
-- Это верно: когда много -- не жалко отсечь кусок, но ты разве забыл,
что Кучум спас меня слепого, вывел на Джегорму. За это не жалко отрезать
даже кусок сердца, -- отвечает он и молча жует лепешку.
Землю окутала ночь. Тайга слилась с небом, захлебнулась тьмою, уснула.
Ни лая, ни рева зверя, только звон в ушах да жук шевелится под жестким
листом, и где-то над болотом пронесся пугливый бекас.
-- Пошли, одному Николаю без огня неловко, -- и старик, припадая на обе
ноги, ощупью спустился с пригорка.
Захлюпала под дырявыми олочами черная маристая вода, взлетел уснувший у
озерка табунчик куличков. По пути я захватил мясо на ужин. Запах леса
остался позади. Там из-за сквозных вершин старых лиственниц выполз кособокий
месяц. Ушли выше звезды. Приближалась полночь. Мы долго петляли по мари. При
лунном свете кочки показались стадом пингвинов, преградившим наш путь. Среди
них фигура Улукиткана была странной, особенно ее горбатая тень, качающаяся
впереди по кочкам.
За падью, у края леса, Улукиткан устало опускается на валежину. С плеча
валится бердана... Виснет голова. Щуплое тело сползает на землю.
Я тороплюсь к старику. Засовываю руку ему за пазуху. «Тук, тук, тук»,
-- вяло бьется сердце.
Растираю лицо старика, грудь. Оживает его дыхание. Раскрывается рот, и
он спрашивает со жгучей боязнью:
-- Со мною что?
-- Устал ты, Улукиткан.
Я помогаю ему приподняться, усаживаю на валежину, а сам думаю: как
много ты, друг мой, пережил за эти пятнадцать дней нашей разлуки, и как ты
еще ходишь по тайге? Не пора ли тебе бросить испытывать счастье, повернуть
след к родному очагу!
Вдруг подозрительный хруст, глухой топот, стремительный бег. Улукиткан
поворачивает голову в сторону звука, напрягает узкие глаза. Из леса
вырывается олень, пугливо бежит в сторону луны.
-- Майка своих не узнала! -- ласково бросает старик и начинает
подниматься. Я помогаю ему выпрямить спину.
Месяц подбирается к звездам. Припорошенной лыжней стелется по небу
Млечный путь. Безмолвен таежный простор. Идем лесом. Он весь просветлен, но
сквозь этот дымчатый свет мы с трудом различаем пни, валежник, промоины...
-- Скоро табор, -- говорит старик.
-- А почему костра не видно?
-- Я же говорил -- огонь уже три дня как покинул нас. До этого порохом
добывали, и теперь только два заряда осталось, без костра и без чая ночуем.
Шибко худо.
Вот и табор, под стеною темного леса. Нас встречает Николай. Он
удивлен. Не верит, кого привел к нему Улукиткан.
-- Э-э, как попал ты на нашу тропу? -- старик ощупывает всего меня
костлявыми пальцами -- не дух ли явился?
Я достаю спички. Рыжим колонком запрыгало в костре пламя. Улукиткан
насадил кусок свежей телятины, принесенной нами, на деревянный шомпур.
Приткнул ее к огню. Бросил под себя оленью шкуру. Потоптался по ней, как
глухарь на сучке. Опустился с тяжелым вздохом, точно только теперь
почувствовал усталость.
Николай калит камни в костре, бросает в чуман с водою -- готовит чай. Я
присаживаюсь к Улукиткану. От дыма у него веки красные. Лицо, при свете
костра, кажется еще более морщинистым.
-- Как так получилось, что мы не встретились за стрелкой? -- начинает
он трудный разговор.
-- Нас набросило на корягу. Надо было хоть бы выстрелом предупредить
вас, что мы задерживаемся, да не догадались. Долго снимались с коряги.
Василий простыл, у него совсем отнялись ноги. А когда вечером выплыли за
носок, там никого не оказалось. Мы долго искали вас, кричали, потом нашли
след и решили, что вы ушли совсем. Так было, Улукиткан.
Тепло от костра выхватывает ветер. Старик вздрагивает от озноба,
сжимает плечи. Лицо становится строгим. Куда-то далеко откочевывают его
невеселые думы.
-- Вспоминать Маю -- все равно что сдирать с раны свежую коросту. Пусть
заживет, но не забудется. Сломанная нога оленя срастается, да все равно он
хромает.
-- Почему же вы все-таки ушли с реки? Старик весь поворачивается ко
мне.
-- На стрелке Баюткан ногу поломал, долго искали сухой пень, клали на
ногу щепу, много времени прошло -- не бросишь же больного оленя в тайге без
помощи. Потом спустились к реке -- ни следа, ни заломок ваших не нашли. Ты
думаешь, мы не ждали вас? Всяко разно думали и решили, что по такой большой
воде вас на плоту пронесло ниже за скалы. Вот и пошли искать. И там никого
не оказалось. Еще половину дня глаза от реки не отнимали, караулили вас, да
напрасно...
Старик передохнул. Растер рукавом правой руки взмокшие от огня скулы.
Отсек ножом поджаренный ломоть телятины, проглотил нежеваное. Облизал жирные
пальцы.
-- Всяко думали с Николаем. Как так получилось, что мы не встретились,
остались без палаток, без лепешек, без щепотки соли, и спичек совсем мало? А
место шибко глухое, далеко от стойбища человека, ни зверя. Мы знали, что вы
не бросили нас, так в тайге не бывает, человек человеку не должен плохо
делать. Значит, что-то случилось. Злой дух и на вас мог послать беду. Надо
идти по Мае, сказал я Николаю, будем смотреть, нет ли близко вас, может, тут
где найдем пастухов, скажем, что люди не вышли с Маи, пусть ищут. Вот и
пошли...
На костер падает упругий ветер, проносится дальше. Тайга отвечает ему
ворчливым прибоем. Улукиткан засовывает под себя босые ступни ног, поднимает
к небу глаза, ищет приметы ночного времени.
-- Может, довольно, пора спать, -- говорит он, стряхнув с дошки горящий
уголек.
-- Успеем, выспимся, рассказывай до конца, -- прошу я.
Он глотнул из кружки горячего чая, бросил в огонь сушнику.
-- Шли каждый день, допоздна мяли ноги, -- устало продолжал старик, --
путь держали по-над Маей, без тропы, как звери. Тяжелым был наш ход: в брюхе
пусто, в груди боль -- сыромятным ремнем сердце стянуло. Через несколько
дней оглянулись -- почти ничего не прошли, а намаялись шибко. Так, думаю, и
к зиме не дойдем до устья. Говорю Николаю: давай переправляться на левый
берег, будем тайгою пробиваться. Мая для каравана совсем худой речка -- ты
теперь сам знаешь... Сделали салик, плавились через реку. Пошли тайгою.
Места худые: бурелом, болото, куда ни свернем -- горы поперек. -- И вдруг
его голос зазвучал печально: -- Обезноженных оленей бросали. Торопились.
Думали, не дойдем и чужая тайга станет могилой. А теперь... -- он облегченно
вздохнул, -- теперь в груди не осталось боли. Скажи, куда идти нам, и мы
пойдем с тобою дальше.
Старик придвинулся к костру, смолк, а брови так и остались сомкнутыми
от каких-то невысказанных дум.
-- Спасибо, Улукиткан, я верю тебе и рад, что все это закончилось
благополучно.
-- Однако, не плохо, что ветер дул нам в лицо, это хороший ветер, --
заключил старик. -- А как же с Василием? -- вдруг спохватился он.
-- Василий в хабаровской больнице, но я ничем не могу порадовать тебя.
-- Его вылечат, обязательно вылечат, доктор хороший люди, -- убеждает
он меня.
-- Будем надеяться.
Ложимся спать. Кто-то живой грустно вздыхает в лесу. Падает лист на
влажную почву. Гаснут последние угольки костра. Мне сейчас все кажется
обновленным, легким... Видно, чем труднее путь, тем сильнее ощущение жизни.
Собаки не пришли, и я в сон уношу тревогу за них. С медведем шутки
плохи.
...Близко на озерке внезапно прогорланила гагара -- скоро утро. Под
полог врывается холодная струя воздуха. Вижу, Бойка просовывает ко мне свою
морду, затем поочередно обе лапы.
-- Набегалась, заползай, -- предлагаю я, отодвигаясь, к противоположной
стене.
-- Зову Кучума. Он не пришел! -- кричит Улукиткан. -- Однако,
задержался у зверя.
Я выбираюсь из полога. От костра веет теплом. Над лагерем, над еще
дремлющей тайгою трепещет бледный свет раннего утра. Горы, точно
пробудившиеся чудовища, поднимаются из мрака. Ближние еще в зеленой щетине
леса, с каймою яркого пурпура, у границы курума; у дальних же видны только
черные ребристые скосы вершин на фоне чистого неба.
По пади бесшумно крадется туман, захватывая мари и перелески. Какие-то
легкие тени скользят в тающем сумраке старого леса. Тайга колышется, шумит
темно-зеленым живым морем.
День начался...
Улукиткан горбит спину над дырявыми олочами, пришивает латки.
-- Где Бойка? -- спрашиваю я старика.
Он поднимает голову, смотрит по сторонам, переводит на меня недоуменный
взгляд.
-- Однако, ушла. Послушай, не лает ли где Кучум? -- говорит Улукиткан,
погружаясь в работу.
Я выхожу к краю леса. Нет, Бойка никуда не убежала. Она стоит недалеко
от стоянки, напряженно смотрит вперед, куда вчера угнали медведя. Собака вся
насторожена. Иногда она вздрагивает от каких-то неуловимых для меня звуков.
Понять не могу, что ее привлекает в этой утренней тишине?
Вся падь лежит передо мною открытая, доступная глазу. Я тщательно
осматриваю редкие перелески, длинные языки кочковатых марей, -- ни единого
живого существа, точно утро все еще не в силах разбудить землю.
-- Бойка, пошли!
Собака поворачивает ко мне озабоченную морду, но не сдвигается с места.
Ее внимание по-прежнему привлекает падь.
Я возвращаюсь к костру. При моем появлении старик поднимает свое
плоское скуластое лицо, обожженное костром.
-- Убежала?
-- Нет, тут кого-то караулит.
-- А Кучум где?
-- Не знаю, что-то долго нет.
-- Скажи Николаю, куда вести караван, он один управится, а мы пойдем с
тобою искать Кучума. Он у зверя, иначе пришел бы, -- говорит уверенно
старик.
II. Загадочное поведение Бойки. Нас постигает тяжелая утрата. Месть.
Яблоки апорт.
Сборы недолги. В рюкзак кладу полог, плащ, топор, чуман, кусок мяса.
Как только Бойка попала на привязь, точно сдурела: рвется вперед,
гребет в потуге острыми когтями землю, хрипит, торопится. Теперь ясно:
собака прибежала за на-, ми. Куда же она ведет нас? Зачем?
Где-то далеко, не то впереди, не то влево в хребтах грохнул одинокий
выстрел. Мы все разом остановились. Улукиткан смотрит на меня, не может
отгадать, что это значит.
-- Вероятно, кто-то из астрономов охотится, и с ними Кучум, больше ему
некуда деться, -- говорю я, готовый повернуть назад, в лагерь.
-- Надо ходить, может, Кучум не там, -- и старик зашлепал латаными
олочами по болоту.
Бойка выводит нас на пригорок, где встретились вечером с Улукитканом.
Дальше ушла к хребтам волнистая тайга, плотная, густая, захламленная. На
твердом «полу» никаких примет. Но как уверенно и ходко вышагивает собака,
можно подумать, что у нее под ногами хорошо знакомая торная тропа.
Идем дальше по следу медведя. Теперь Бойка чаще останавливается,
вытягивает вперед голову, выворачивает уши. Явно мы приближаемся к развязке.
-- Ты пошто торопишься, не смотришь под ноги, -- слышу позади голос
старика. -- Твоя пуля зверя хорошо поймал, -- видишь, тут он падал, долго
лежал, -- и проводник показывает мне глубокую вмятину во влажной почве.
На всякий случай держу наготове карабин. Пробираемся чащей. Отдаленный
гул вдруг касается слуха. Он крепнет, близится, расплывается широкой волною
по тенистой тайге. Но вот редеют деревья, сквозь вершины голубеет небо. Мы
выходим к широкому просвету, залитому солнцем. Впереди грохочет осатанелый
ручей. Бегучая вода бьет в валуны, вздымается и, падая, дробится в пыль.
Мы ищем брода, я помогаю старику преодолеть поток, и Бойка снова
выводит нас на след. Опять пошла тайга, заваленная буреломом, выстланная
зеленым ковром низкорослых папоротников.
В полдень выходим к горе. Огонь пришел сюда весною, сожрал молодую
листву, бородатый мох, гнезда птиц, угнал зверей, надолго омертвил тайгу.
Ветер, налетая на посеребренные солнцем колонны погибших стволов, гудит и
воет по дуплам, точно тысяча струн поет прощальный гимн утраченной жизни.
Через гарь медведь шел напролом, не щадя себя, ломал звонкие сучья,
сбивал тонкий сухостой. Удивительно, как он в этом отчаянном беге не выколол
себе глаза, не сломал хребет.
Идти трудно. Колючие сучья подкарауливают тебя на каждом шагу. Мы оба в
саже, как кочегары. - Но уже близко край.
Бойка не унимается: торопится, вся напряжена, чуть что -- вздрагивает,
откинет голову, прислушивается к непонятному звуку. Улукиткан не сводит с
нее глаз.
-- Однако, где-то близко медведь пропал, -- говорит он.
-- Вряд ли, судя по следу, идет хлестко, -- отвечаю я.
-- Сильный зверь всегда так бежит, на ходу пропадает.
По небу залохматились черные тучи.
Бойка уводит нас в глубину сыролесья, под свод лиственниц. И вдруг
останавливается, поворачивает голову, поднимает на меня усталые глаза.
Понять не могу, в чем дело? Подходит Улукиткан. Смотрим по сторонам --
никого нет, тишина, а собака ни с места. Что за дьявольщина! Передаю поводок
старику, а сам с карабином шагаю вперед. Крадусь медвежьим следом. Зверь тут
удирал саженными прыжками, оставляя на влажной почве глубокие отпечатки
когтистых лап, и, видимо, не собирался пропадать. Оглядываюсь. Бойка на
месте, следит за много, чего-то ждет.
Подбираюсь к толстой лиственнице. Не могу унять сердце. Лес кажется
переполненным какой-то таинственностью. Я высовываюсь, смотрю вперед. Что
это там чернеет за валежиной? Напрягаю глаза -- вроде медведь над выскорью.
Даю знак Улукиткану затаиться, а сам подкрадываюсь ближе, выглядываю...
В первую секунду мне хочется повернуть назад, не верю глазам, но ноги
не повинуются, бегут дальше, к выскори.
-- Кучум!.. -- кричу я на весь лес, хватаю его, пытаюсь поднять,
тормошу, ободряю ласковым словом. Поворачиваю голову к себе и содрогаюсь от
ужаса: на меня смотрят два огромных стеклянных глаза, выкатившиеся из орбит.
В них застыла боль предсмертной муки.
-- Кучум!..
Смерть поймала его в прыжке. Лиственничный сук пробил ему грудь,
пронзил сердце, вышел справа в паху. Так он и застыл на весу, весь
устремленный вперед, с разбросанными в стремительном беге ногами. Казалось,
сними его с поторчины и он продолжит свой бег.
-- Эко беда! -- слышу голос старика.
Неожиданно молния раскалывает небосклон. Поднимается ветер. Лес гудит,
качаясь по ветру волною. На землю сваливаются один за другим траурной
канонадой удары грома.
Бойка не подошла, даже не посмотрела на погибшего сына, осталась за
валежиной.
Мы бережно снимаем Кучума с сучка. Укладываем на мох. Нелепый случай
отнял у нас верного друга. Какая тяжелая утрата!
Мы с помощью топора роем яму под той выскорью, где погиб Кучум.
Опускаем его на дно. Как можно свободнее укладываем голову, ноги. Улукиткан
вдруг забеспокоился. Он вытаскивает из кармана кусок лепешки, оставленный им
вчера для Кучума, и, обращаясь к мертвой собаке, говорит:
-- Это тебе. Улукиткан помнит Джегорму, твое добро... Без тебя теперь
нам худо будет в тайге...
Старик медленно опускается к яме, кладет лепешку под голову Кучума,
бросает горсть влажной земли. Вот когда я понял, что Кучума нет.
Мы засыпаем могилу. Над нами в синих вспышках рвутся тучи. По тайге
проносится ураган, и высокие лиственницы, вершины которых царят над всем,
отвечают ему покорным гулом.
Я накидываю на плечи рюкзак. Последний раз окидываю взглядом роковое
место. Даже теперь, спустя много лет, когда я взялся за перо, помню и
выскорь с огромным пластом поднятой земли, всю в острых тычках, и курган над
могилой любимой собаки, и полусгнившую валежину, накрытую зеленым мхом, и
рядом три голые березки, и полосатого бурундучка, сиротливо застывшего на
пне...
Дождь проходит стороною, до нас долетает только его шум. Напрасно зову
Бойку. Куда она могла убежать?
Улукиткан тяжело отрывается от пня.
-- Пошли, уже поздно, -- говорит он.
Вдруг слева на разлохмаченную после бури тайгу наплывает собачий лай, и
тут же до слуха доносится медвежий рев. Он потрясает всю округу, от реки до
самых хребтов, и глохнет далеко в недрах бескрайнего леса. После него голос
Бойки не смолкает.
Улукиткан впереди. На ходу он распахивает телогрейку, так легче дышать.
Поторапливает меня, а сам еле бежит, одна видимость.
Солнца нет, словно снеговые сугробы завалили небо. Лес выпрямился,
притих, не шелохнется. Где-то в стороне треснула, падая, сушина. Мы без
команды оба разом останавливаемся. Улукиткан стаскивает с потной головы
меховой лохмот, настораживает слух.
Ничего не слышно. Тайга пуста. Идти некуда. Я слежу за выражением лица
старика.
-- Однако, не задержала, ушел, -- говорит он безнадежно, и тут снова
слышится рев, затем глухой предсмертный стон сильного зверя. Где-то там,
близко, жалобно завыла Бойка.
Мы спешим на вой. Минуем лесные прогалины, продираемся чащей. Уже
близко...
За перелеском сухая ерниковая степушка. Сбрасываю с себя всю тяжесть,
оставляю только карабин. Где-то тут Бойка. Легонько свистнул, -- как завопит
собака!
Бегу вперед. Вижу, колышется ерник. Навстречу ползет Бойка, волоча
отшибленный зад. Я к ней. Ощупываю собаку -- свежих ран нет. Хочу поднять
ее, но она ловит пастью мою руку, предупреждает, что ей больно.
Подходит Улукиткан.
-- Вот полюбуйся, что сделал медведь и с ней! -- и меня вдруг
захватывает дикое желание мести.
-- Дурная, разве не знаешь, что одной с ним связываться нельзя! -- и
старик, присев на корточки, начинает ощупывать собаку. Бойка корчится,
дрожит.
-- Ты, Улукиткан, жди меня здесь.
Старик ловит полу моей телогрейки. Смотрит строго в глаза, говорит
твердо:
-- Иди, только помни, раненый медведь не тугутка, может подкараулить.
Забираю вправо. Бегу по-над перелеском. Вот и след. Зверь шел шагом,
оставлял примерно через каждые десять метров лежку. Останавливаюсь. Ни
звука. Но чувствую что-то предательское в этой тишине. Выбрасываю из
карабина подмоченные в речке патроны, загоняю в магазинную коробку свежую
обойму.
На ходу ориентируюсь. Хорошо помню, зверь правее и дальше. Иду без
опаски. Место открытое, просматривается хорошо. Но дальше след начинает
постепенно отходить от степушки, уползает в перелесок. Там под сводом
лиственничных вершин густой сушник. Очертания предметов неясные. Меня сразу
захватывает подозрительность: тени деревьев, пни, обломки стволов кажутся
живыми существами, враждебно окружившими меня. Малейший шорох, точно
внезапный удар колокола, потрясает всего. Никогда слух не был таким чутким.
Иду осторожно, как рысь, почти не касаясь земли и не задевая сучьев.
Карабин держу на взводе. Глаза не упускают отпечатка медвежьих лап. Вот
когда мне пригодился весь опыт, накопленный за много-много лет зверовой
охоты, и уроки Улукиткана.
Время тянется слишком медленно. Вижу впереди просвет. Тайга редеет.
Глаза слепит закатное солнце. Крадусь к краю леса, припадаю к лиственнице.
Впереди неширокая заболоченная полоска открытого места. Медведь не свернул,
так и пересек напрямик болото, вывернув на противоположной стороне гору
ржавого мха и корней троелиста. Дальше следа не заметно, но на кромке леса,
куда вышел зверь, вижу примятый куст ольхи и несколько сломанных березок.
Значит, ушел дальше.
Ставлю затвор карабина на предохранитель. Выхожу открыто из-за
лиственницы. Как я мог забыть слова Улукиткана! Не успел сделать и трех
шагов, как из-под единственного ерникового куста выворачивается огромная
бурая глыба, заслоняет свет, из распахнувшейся пасти брызжет в лицо липкая
влага. Ноги мгновенно отбрасывают меня в сторону. Пальцы машинально
откидывают собачку предохранителя. Не помню, как поднял карабин. Какое-то
мгновение до выстрела я осознаю страшную близость зверя. Наши взгляды
встречаются. В выброшенных вперед лапах, вооруженных когтями, в открытой
пасти, в зеленоватых холодных глазах -- могучая сила.
Выстрел взрывной волной валит его через голову на землю. Где-то в лесу
коротко поет пуля, щелкая по веткам. Зверь поднимается, встает на дыбы,
ревет и... открытой пастью ловит горячий кусок свинца. Хищник оседает на
зад, роняет лобастую голову. Широко раскинув лапы, он обнимает ими толстую
кочку, никнет к ней. Я не могу сдержать себя, в упор пускаю еще три пули.
Затем всаживаю нож в горло. И даже теперь все еще не в силах затушить в себе
ярости...
Долго не могу успокоиться. Смахиваю с лица кровавые сгустки медвежьей
слюны. Опускаюсь на кочку.
Что-то ухнуло, точно ударило в пустую бочку, вырвало меня из минутного
оцепенения. За болотом, над поникшими вершинами лиственниц, зреет закат. А в
недрах леса уже проснулась тьма, распласталась по влажному седому ягелю,
нетерпеливо ожидая, пока погаснет в небе последний луч.
Иду к старику за перелесок. Он не задает вопросов, будто иначе с
медведем и не могло закончиться. Я осторожно поднимаю собаку. Улукиткан
накидывает на плечи мой рюкзак.
-- Далеко? -- спрашивает он между прочим, а скорее всего, чтобы
нарушить тягостное безмолвие угасающего дня.
Не дойдя до болота, у края леса, мы нашли место для ночевки, оставили
свой груз, и я подвел старика к убитому медведю. Он лежал толстенным
сутунком (*Сутунок -- короткое толстое бревно) на правом боку, все еще
держась передними лапами за кочку. Улукиткан обошел его вокруг, потеребил
шкуру, ощупал ребра. И, судя по выражению его лица, остался доволен. Для
эвенка жирная медвежатина -- блаженство.
Затем он идет к болотцу, как близорукий, припадает к следу зверя,
рассматривает примятые листики, что-то додумывает.
-- Иди сюда! -- зовет он меня. -- Смотри, тут медведь шел назад,
видишь, на следу с двух сторон когти есть. Старик не зря тебе толмачил, --
раненый медведь может подкараулить.
Мы сидим у жаркого костра. Над расплавленной синевою углей жарится
мясо. Я так устал, что без ужина ложусь спать. Мысли о Кучуме уходят в сон.
Ночь вернула нам силы. Идем напрямик. За плечами у меня рюкзак с живым
тяжелым грузом -- Бойкой. Ремни впиваются в плечи. Шаги сузились. На собаку
действует каждый мой шаг, как удар бичом, от которого она то и дело
взвизгивает. А когда толчки невмоготу -- Бойка ловит пастью меня за шею,
мягко сжимает челюсти, дескать, не спеши, мне больно...
...Еще упали со счета три недели. Короче стали дни. Пора покинуть этот
неприветливый край. Во мне уже окрепло манящее видение: родной очаг, семья и
детский лепет. Отчего же грустно? Всегда больно покидать места, где
работалось трудно. Сколько уже было в моей жизни таких крутых поворотов: то
я несусь очертя голову в тайгу, навстречу ураганам, стуже, случайностям, то
вот так, как сейчас, у осеннего костра один мечтаю о спокойной жизни за
надежными стенами дома, оставшегося далеко от этих диких мест. Да, я устал,
пора!
Ко мне подходит Бойка, жмется боком, ластится. Она поправляется, но еще
не забыла боли, не делает резких движений. Сегодня есть о чем с нею
поговорить.
-- Василий встал на костыли, ходит. Ты понимаешь, что значит -- ходить?
Врачи обещают вернуть ему ноги. -- Бейка поднимает голову. -- Потерпи... Дня
через два-три, как окончательно оправишься, сходим на могилу Кучума,
непременно сходим. -- И я чувствую, как дрогнул мой голос, как Бойка при
слове «Кучум» вмиг насторожилась, уши замерли торчмя, глаза забегали По
сторонам.
-- Нет, не жди, не придет, -- успокаиваю я ее. Мысли о Кучуме обжигают
всего меня, точно пронизывают незажившую рану каленым железом.
-- Помнишь ту страшную грозовую ночь на Систиг-Хеме, когда принесла его
к нам в зубах? Он был совсем крошечный, слепой, мокрый, в крапчатых чулках,
в которых проходил потом всю жизнь. Скажи, как угадала ты в том бесформенном
черном комочке будущего Кучума? И почему ты нарекла ему такую короткую
жизнь?
Из палатки показывается радист.
-- Нина летит! Часов через пять будет здесь.
Как жаль, что нет близко Трофима! А впрочем, он кончает работу и не
позже как дней через пять спустится в лагерь.
А мысли уже заняты предстоящей встречей с Ниной. К нам едет женщина!
Это слово здесь звучит иначе, нежнее и возвышеннее.
Я придирчиво осматриваю свой наряд, ощупываю давно не бритое лицо и
замечаю, насколько не в порядке пальцы моих загрубевших рук. Костюм менять
не буду, он вполне умеренно украшен заплатами. Достаю свежий носовой платок
и вместо сапог надеваю ичиги. В таком виде, мне кажется, можно встретить
Нину.
Ее приезд тревожит прошлое. Всплывает красочным видением Шайтан-Базар в
Баку, где я впервые встретил ее, красивую, властную, с цыганскими серьгами,
в живописных лохмотьях. Все это до сих пор отчетливо хранит память.
Нине уже тридцать четвертый год. Жизнь долго и трудно соскабливала с
нее накипь преступного прошлого. Не все бакинские беспризорники пошли этой
дорогой. Она была слишком крутой, доступной только для сильных натур. Многие
погибли в диком упрямстве, и среди них такой замечательный парень, как
Хлюст. Нина сумела сохранить в буре своих беспризорных лет и чистоту, и
душевную щедрость. В Сочи Трофим встретил обаятельную женщину, пленившую и
меня и его своей простотой, искренностью. И вот сегодня она прилетает к нам!
Теперь уж надолго, навсегда.
Жизнь, как тяжелый пресс, выжала из Трофима и Нины всю муть прошлого.
Трудный путь «в люди» бывших беспризорников окончился давно, но их долгий
путь друг к другу завершится только теперь. Еще несколько дней, и они
встретятся, чтобы больше не разлучаться.
Для меня Трофим и Нина -- тоже радостный итог большой работы над собою.
Из-за спокойных серых облаков глянуло солнце. Безбрежная тайга кажется
мягкой зеленоватой тканью, небрежно наброшенной на холмы.
На берегу Маи рабочие разгружают долбленку. Это подразделение Карева
закончило работу. «Вот и первая ласточка», -- с радостью думаю я.
-- Евтушенко! -- зову я радиста. -- Что нового?
-- Передал погоду в Удское. Самолет будет часа через два. Нина просит
встретить ее.
-- Как же иначе! Мы еще не одичали совсем. Давайте собираться. О, да
ты, Иван, уже побрился, свеж как огурчик. Штаны-то чьи на тебе? Суконные,
почти новые!
-- Саши Пресникова. Дьявол, он их затолкал комом в рюкзак, ишь, как
помялись. К тому же они мне маленько просторны.
-- Да, размер явно не твой, -- и я еще раз придирчиво осматриваю его
наряд -- чистую гимнастерку военного образца, сапоги, жирно смазанные
медвежьим салом.
Замечаю, и Улукиткан принарядился: шапку достал зимнюю, олочи завязал
по-праздничному -- в елочку, рубашка на нем чистая, вобрана в штаны.
Снизу по реке доносится гул мотора. Улукиткан бросает на огонь охапку
сырых веток, и дым столбом поднимается в небо.
До косы не меньше получаса хорошего хода. Торопимся. А гул наплывает
нам навстречу, доносится яснее. Видим, из-за поворота, в косую полоску
солнечного света, врывается серебристая птица. Не шелохнутся распластанные,
строго симметричные крылья, будто впаянные в небесную синеву. Как хорошо,
что Нина видит с высоты грандиозную панораму дикого края, где мы нашли
приют. Трудно будет ей поверить, что мы добровольно забились в лесную глушь,
что нам стала дорогой и близкой эта унылая земля.
Самолет, не долетев до нас, разворачивается и, падая на дно долины,
скрывается за вершинами леса. Мы прибавляем шагу. У Улукиткана развязываются
ремешки на олочах, он отстает. Нас нет на косе, какое непростительное
опоздание!..
До косы остается немного больше километра. Вдруг впереди неожиданно
закашлял мотор, еще и еще, перешел в гул и стал отдаляться.
-- Не мог дождаться! -- бросаю я с досадой.
А в это время до слуха долетает человеческий крик. Мы бросаемся вперед,
несемся по просветам. Вот и коса. Она сразу открывается вся, длинной
полосой, прижатая к реке темной стеною смешанного леса. Никого нет. Но на
противоположной стороне косы, где виднеется палатка-склад и чернеет только
что привезенный груз, стоит Нина, одна. Я кричу ей. Она замечает нас,
срывается с места и, точно подхваченная ураганом, легко бежит навстречу. Не
разбилась бы!
Лица не узнать. В перекошенных губах -- ужас. Она с разбегу падает на
меня, но вдруг, крепко став ногами на гальку, откидывает голову на свой
след, показывает туда пальцем вытянутой руки.
-- М-м-ме-е-дведь!..
-- Да что ты, милая Нина, откуда ему тут взяться! Успокойся!
-- Да смотрите, вон он ходит возле палатки, -- и она вся вздрогнула,
как сосенка от удара топора.
-- Э-э, дочка, тебя пугала наша собака Бойка...
-- Бойка?.. -- Нина поворачивается к Улукиткану, доверчиво смотрит в
его спокойное старческое лицо. -- Я перед тем, как ехать сюда, начиталась
про тайгу и не представляю ее без медведей, волков. Вот и насмешила...
-- Ну-ка покажись, какая ты?
Привычным движением головы она отбрасывает назад прядь волос, нависшую
на глаза, вся поворачивается ко мне.
-- Узнаю... Здравствуй, дорогая гостья! -- и мы расцеловались.
С Улукитканом и Евтушенко она здоровается сдержанно.
-- Вот вы какие!.. -- вырывается неожиданно у нее.
-- А ты, наверное, ожидала, что тебя встретят люди, с тигровыми шкурами
на бедрах, с дубинками в руках, обросшие, и поведут в пещеру!
-- В пещеру -- это мило! Но, признаюсь, представляла все хуже, чем на
самом деле, -- поправилась Нина и еще раз быстрым взглядом окинула нас.
-- Не Улукиткан ли это? -- спрашивает она, пронизывая старика пытливым
взглядом и уже готовая наградить его ласковыми словами.
-- Угадала.
-- Я представляла тебя большим и сильным, а ты обыкновенный, к тому же
маленький. -- И Нина вдруг обняла его. Старик размяк от ласки, стоит, ногами
гальку перебирает, не знает, что ответить.
-- Айда за вещами, да и в лагерь. День уже на исходе... -- предлагает
Евтушенко.
Трогаемся к палатке. Идем повеселевшие. Я продолжаю наблюдать за Ниной.
На ней темно-серый костюм из плотной ткани, красная шерстяная кофточка. На
ногах сапоги. Косынку она несет в руке, и легкий ветерок шевелит ее густые,
растрепавшиеся в беге волосы. Она, кажется, помолодела после нашей последней
встречи в Сочи и стала еще обаятельней.
Из-за палатки выскакивает Бойка и несется к нам. Нина пытается
спрятаться за меня.
-- Не бойся, это добрейшее существо на земле. Ты скоро узнаешь, -- и я
легонько подтолкнул ее вперед.
-- А где же Кучум? Я так много слышала о нем!
-- Его нет...
-- Он с Трофимом?
-- Его нет совсем. Недавно погиб.
-- Какая жалость! -- Нина поворачивает ко мне опечаленное лицо. -- Что
же случились?
-- Гнал медведя, наткнулся на сучок, ну и погиб.
Нина неожиданно остановила нас.
-- А я-то и забыла: всем вам от Василия Николаевича большой привет.
Надя ездила к нему в Хабаровск, говорит -- ожил, по палате без костылей
ходит. Через неделю ждут домой...
-- Приедет, непременно приедет, доктур сильнее злого духа, --
перебивает ее Улукиткан.
Мы стаскиваем в палатку груз, доставленный самолетом, берем багаж Нины,
рюкзак, чемодан, свертки и покидаем косу. Гостья успевает одарить нас
великолепными яблоками -- алма-атинским краснобоким апортом. Как приятен их
освежающий аромат, чуждый для этих мест. Иван ест яблоко на ходу, со смачным
треском. Улукиткан настороженно следит за ним, откусывая небольшими
ломтиками сочную мякоть.
Я несу свое яблоко в руке. Оно напоминает мне юг. Далекий юг... Бывало,
раньше, осенним утром, по росе, распахнешь с разбегу калитку и замрешь, не
надышишься спелым яблочным ароматом, скопившимся в лиловом тумане над садом.
Не утерпишь, сорвешь. Еще и еще! Нет уже места за пазухой, а все бы рвал и
рвал. Потом тихонько крадешься к себе под навес и, забившись в постель, ешь
одно за другим...
За носком, за тальниковой зарослью, дымок костра сверлит тихую глубину
сонного неба. Близко лагерь. Ноги шагают быстро. А на горизонте, за
изорванной чертою потемневших листвягов, пылает закат. Оранжевый свет
трепещет над вставшими вершинами гор. И весь воздух над рекою и зеленым
простором тайги чуть звенит, будто где-то далеко, в недрах леса, смолкают
аккорды оркестра.
Вот-вот на землю сойдет ночь...
Мы обходим берегом тальник. Пробираемся чуть заметной тропкой по
закрайку. В воздухе запах дыма и жилья. В просветах мерцает огонек, одинокий
и кажущийся отдаленным, точно где-то за рекою. И как раз в тот момент, когда
мы появляемся у палаток, Петя Карев со своей дружиной спешно делает
генеральную уборку лагеря. Наше неожиданное появление сразу прерывает
работу. Тут уж не до уборки!
Нина с первого взгляда, видимо, поняла, что здесь сами мужчины
управляют бытом и всем хозяйством, что обитатели этой одинокой стоянки,
затерявшейся в лесной глуши, давно не видели женщину и ее присутствие
занимает всех их.
-- Вот и наше стойбище. Тебя бы, конечно, больше устраивала пещера, но
мы, как видишь, в культурном oтношении на ступеньку выше первобытного
человека.
-- Не прибедняйтесь, у вас здесь очень хорошо! -- смущаясь, отвечает
Нина.
-- И это тоже ради твоего приезда.
-- Право же, трогательно. Значит, стоянка подверглась генеральной
уборке.
-- Иначе тут был бы лирический беспорядок... Знакомься, это все
сподвижники Трофима и твои будущие друзья.
-- Здравствуйте, меня зовут Ниной, -- и тут же смутилась, -- кажется,
догадалась, что все эти незнакомые люди знают ее как Любку, слышали о ее
прошлом.
Она поочередно подает всем свою белую, чуточку пухлую руку.
-- А где мне расположиться?
-- Вам приготовлен полог, -- говорит любезно Карев.
Нина старается быть незаметной, но это невозможно. Она смущена,
взволнована, но постепенно свыкается с необычной для нее обстановкой.
Удивленно смотрит на закопченное оцинкованное ведро, в котором варится
на костре ужин, на хвойные ветки, разостланные на полу вместо стола, на
груды лепешек... Ее явно смущает, что есть придется, сидя на земле. А
деревянные ложки у Нины вызывают восторг, они, видимо, живо ей что-то
напоминают.
Только мы сели за стол и повар готовился зачерпнуть разливательной
ложкой суп, как на берегу зашуршала галька под чьими-то тяжелыми шагами. Все
насторожились. Кто-то расшевелил огонь, и вспыхнувшее пламя отбросило далеко
мрак ночи. От реки из-за кустарника вышел Пресников. По его лицу, по тому,
как низко висела у него за спиною котомка, как тяжело передвигались ноги и
волочился сзади посох, можно было без труда угадать, что позади у него
остался тяжелый путь.
-- Умаяла чертова дорога, -- говорит он, но вдруг замечает Нину,
подбадривается, выпрямляет уставшую спину, тянется через «стол» и своей
огромной лапой ловит крошечную руку Нины.
-- Саша Пресников, -- отрекомендовался он.
-- Наш великан и большой добряк, -- добавляю я. -- С хорошими вестями
или с плохими торопился? -- спрашиваю его не без тревоги.
-- Письмо срочное принес от Михаила Михайловича Куцего, сейчас достану.
-- Он торопится выбраться из круга, но задевает ногами за колоду, теряет
равновесие -- и весь, огромный, тяжелый, валится на землю.
Взрыв дружного хохота катится далеко по ночной тайге.
-- Фу ты, черт, опьянел, что ли? -- бормочет Пресников и, схватив
выпавший из рук посох, вскакивает, поправляет сбившуюся набок котомку. --
Письмо потом дам, плохого в нем не должно быть, -- и он уходит в палатку.
-- А ужинать? -- спросил кто-то.
-- Умоюсь, приду.
Мы не стали дожидаться. Разве утерпишь, если перед тобою стоит чашка,
доверху наполненная ароматным супом, сваренным в лесу, на лиственничном
костре, сваренным поздним вечером, к тому же опытным поваром.
Все едят сосредоточенно. Для Нины вся эта таежная обстановка, простота
сервировки стола, костер вместо светильника и дрожащие тени деревьев --
диво. Без привычки, конечно, неудобно сидеть на земле -- некуда деть ноги...
Из палатки доносится угрожающий голос Пресникова:
-- Кто штаны мои надел?
-- Несу, Саша! -- испуганно отвечает Евтушенко, вскакивая, и исчезает в
полумраке.
Нина улыбается... Все готовы рассмеяться. Но выручает повар. Он
нарочито громко зачерпывает со дна ведра гущу, подносит Нине.
-- Получайте добавок.
-- Что вы, не надо, спасибо! -- но уже поздно.
-- Придется, Нина, тебе доедать все, иначе завтра будет ненастье и
Трофим не сможет закончить работу в срок, задержится на пункте. Тут в тайге
свои законы, -- говорю я серьезным тоном.
-- Да?.. Неужели все это надо съесть? -- с отчаянием спросила она.
-- Да, если хочешь, чтобы завтра было ведро.
-- А можно без хлеба?
-- Да можно и совсем не есть, это шутка.
«Угу... угу...» -- падает с высоты незнакомый ей крик.
-- Кто это? -- вздрогнув, спрашивает Нина.
-- Филин есть хочет, -- поясняет Карев.
После ужина еще долго людской говор будоражит покой уснувшей ночи.
Нина своим появлением в лагере расшевелила воспоминания этих, чуточку
одичавших, людей. У каждого нашлось о чем помечтать. Вот и не спят таежные
бродяги! Кто курит, кто сучит дратву, кто лежит на спине, молча смотрит в
далекое небо, кто следит, как в жарком огне плавятся смолевые головешки, а
сам нет-нет да и вздохнет, так вздохнет, что все разом пробудятся от дум.
Я подсаживаюсь ближе к костру, распечатываю письмо, принесенное
Пресниковым. Нина тоже придвигается к огню. Она захвачена ощущением ночи.
Кажется, никогда она не видела такого темного неба, не ощущала его глубины и
не жила в такой тяжелой земной тишине. Молча смотрит она в ночь безмолвную,
чужую, и, вероятно, чувствует себя где-то страшно далеко, на самом краю
земли.
К нам подходит Бойка. Я подтаскиваю ее к себе.
-- Завтра нам с тобою придется идти на пункт, а к Кучуму на могилку
сходим, как вернемся. На этот раз не обману -- сходим.
-- Вы завтра уходите на пункт? -- всполошилась Нина.
-- Да. Я должен быть к вечеру у Михаила Михайловича на правобережном
гольце. Ему нужны данные наблюдений смежных пунктов, чтобы подсчитать
неувязки в треугольнике. Пишет, что не может отнаблюдать направление на
Сагу, где сейчас Трофим, пирамида проектируется на дальние горы и плохо
заметна.
-- А это не хорошо? Я ведь не разбираюсь в геодезии.
-- Если он так и не сможет в инструмент, даже с большим оптическим
увеличением, четко увидеть пирамиду, то придется организовывать наблюдение с
помощью световых сигналов: днем свет будут давать гелиотропом, то есть
зеркалом, а ночью специальным фонарем. В этом случае, конечно, работы
задержатся и для завершения их понадобится несколько дней хорошей погоды.
Нина не сводит с меня глаз.
-- С гольца, куда вы идете, видна пирамида, где сейчас находится
Трофим?
-- Видна. А что?
-- Так просто, -- отвечает она и не сводит с меня глаз.
-- Потерпи, немного осталось, -- уговариваю я ее.
Люди расходятся по палаткам. Гаснет костер, и тьма окутывает стоянку.
От реки, дождавшись полночи, ковыляет белым медведем туман.
-- Иди, Нина, спать. Ты устала. У тебя сегодня столько впечатлений!
-- Боюсь -- усну и не проснусь. Не верится, что человеку бывает так
хорошо на земле, как мне у вас. Спокойной ночи. -- И она, вздрогнув от
озноба, скрывается под пологом.
Затаилась тайга на груди онемевшей земли, закуталась в сизый туман.
Опять запах апорта. Это Нина подложила мне под подушку еще одно яблоко.
Ну что ж, спасибо! Откусываю снежную мякоть, и снова ее аромат возвращает
меня в сад моей юности, к сверстницам-яблоням...
Слышу, в темноте крадутся шаги к моему пологу. Кто-то осторожно
касается рукою ситцевой стены.
-- Можно к вам? -- слышу шепот Нины. Я поднимаю край полога.
-- Садись вот сюда, на мешок.
Нина шарит в темноте руками по брезенту, ощупывает место, садится,
опускает за собою полотнище полога. Меня обдает горячим дыханием.
-- Что случилось?
-- Возьмите меня завтра с собою на голец.
-- Да ты с ума сошла! Это далеко, и тебе без привычки не подняться
туда.
-- Поднимусь, честное слово, поднимусь!
-- Не вижу, ради чего обрекать тебя на муки. Изорвешься, а то и
искалечишься, тогда не отчитаться перед Трофимом! Нет, и не уговаривай!
В молчании Нина нащупывает мою руку, крепко жмет.
-- Возьмите, здесь я пропаду в ожидании Трофима.
Чувствую, как трудно не согласиться с нею.
-- Право, не знаю, что с тобою делать?
Она наклоняется к моему лицу, целует в щеку, исчезает за пологом в
темноте.
-- Не радуйся преждевременно! -- кричу я ей вслед.
Михаил Михайлович пишет, что он еще не теряет надежды отнаблюдать Сагу
без световых сигналов, ну а если этого не добьется? Упустит время -- и это
будет пагубным для нас. Тут нельзя рисковать и одним днем. Решаюсь завтра
утром заранее отправить необходимое оборудование на пункты. Таких пунктов
четыре, в том числе и Сага. Трофиму пошлю письмо, пусть он задержится на
гольце до окончания работы. Это будет надежнее. Как я сразу не догадался!
Ведь на всех пунктах сейчас работают люди, и им ничего не будет стоить
подать свет.
Утром слышу голос Улукиткана:
-- Пошто долго спишь, разве не пойдешь на голец?
-- Сейчас, Улукиткан, встану. Собирай оленей.
Над лагерем густо-синее и удивительно спокойное небо, какое бывает
здесь только в эту позднюю осеннюю пору. Из-за леса поднимается солнце, и
природа, еще не утратив сонного покоя ночи, раскрывается перед ним во всем
своем великолепии.
Я стою с полотенцем в руках, не налюбуюсь. Сколько света! Как чудесно
мешается тяжелый пурпур осин с ярко-зеленой хвоей стлаников, омытых ночным
туманом. В густых космах увядшей травы горят разноцветные фонарики...
Нина уже встала. Я застаю ее на реке за чисткой посуды.
-- Каким чудесным утром встречает тебя первый день! -- кричу я, далеко
не дойдя до берега.
Нина кивает головой.
-- Рано встала, боялась, что вы уйдете без меня.
-- А я ведь раздумал брать тебя на голец.
Ее лицо мгновенно омрачается.
-- Зачем же без меня решили этот вопрос?
-- Пользуюсь данной мне властью.
-- Но если вам дано право отменять свои решения, то вы можете и
восстанавливать их?
-- Конечно.
-- Тогда я иду с вами на голец!
-- Ты с первого шага убедишься, что сделала глупость, -- говорю я. --
Посмотрю, что на тебе останется, бедная женщина! В каком виде предстанешь ты
хотя бы перед Михаилом Михайловичем.
-- Не сердитесь, постараюсь и перед Михаилом Михайловичем не потерять
женского достоинства.
-- Послушайся доброго совета, останься в лагере и, чтобы не было
скучно, наведи тут порядок. Как видишь, мы, мужчины, не очень-то
требовательны к себе в условиях таежного общежития.
-- Клянусь всеми богами -- как вернемся, займусь лагерем: выскоблю,
вымою, расчищу...
-- Вот уж не думал, что ты такая упрямая.
Пригнали оленей. Надо торопиться, путь не близкий. Петя Карев отправит
без меня фонари и гелиотропы на пункты вместе с предписанием о подаче света.
Омрачает мошка. Она сегодня чуть свет приступила к своим обязанностям.
Уже с утра засовываю голову в накомарник и, видимо, на весь день.
III. С нами Нина. Тороплю геодезистов. Лагерь под останцем. Ночные
наблюдения. Охота за снежными баранами.
Караван ведет Улукиткан. Мы с Ниной идем позади. Продвигаемся вверх по
галечному берегу Маи. Солнце уже обогрело тайгу. Горы отступили. В море
света долина кажется слишком широкой и плоской. Вдоль русла, далеко до скал,
тянется стеною лес, отодвинутый от реки половодьем.
Мы не торопимся. Нину разбирает любопытство. Диво для нее и болтовня
кедровок, и тайга в брызгах позолоченной листвы, и неожиданный всплеск
хариуса. То она остановится, прислушивается к шуму переката, точно пытается
что-то угадать в этих ломких звуках. То вдруг, пробудившись, догоняет нас с
радостным криком.
Улукиткан сворачивает к реке, останавливается у самой воды.
-- Однако, тут бродить будем, -- говорит он и начинает проверять вьюки
на спинах оленей, подтягивать ремни.
Нина пугливо смотрит на прозрачный слив, усыпанный галькой,
поворачивает ко мне голову,
-- Да, да, будем переходить реку, -- говорю я твердо. -- Это первое
действие таежной арифметики.
-- Не такие задачи решала, -- храбрится Нина.
Я начинаю разуваться.
-- Послушай, Нина, воспользуйся оленем -- это, пoжалуй, будет надежнее.
-- Ни за что! Боязно. -- И она пугливо смотрит то на оленя, то на слив,
гладкий, без единой завитушки, и прозрачный, как плавленое стекло.
-- Пошто напрасно ноги мочить будешь! -- говорит Улукиткан. -- Мой орон
сильный, хорошо пойдет -- не упустит.
-- Нет, нет, не сяду!
В конце концов нам удается оторвать ее от земли и водворить на оленя.
-- Упаду!..
-- Улукиткан, веди! -- командую я.
-- Снимите, упаду... а-а-ай... -- и ее голос наполняется ужасом.
-- Сниму при условии, что вернешься в лагерь.
Она теряется от неожиданного предложения, но тотчас же берет себя в
руки. Страх исчезает. На свежий румянец щек ложатся белые пятна. В глазах
грозовой блеск -- это уже Любка -- решительная, смелая.
-- Что же, Улукиткан, вы стоите? -- говорит она мягко и начинает
толкать пятками оленя.
Караван трогается. Нина хватается левой рукой за мое плечо. Зашумел под
копытами оленей быстрый слив. Старик оказался хитрее меня, не снял олочи,
идет твердо, торопится. Я бреду босиком по скользким камням, балансирую, как
на канате. Уже минуем средину реки, самую глубокую. И тут моя нога
застревает между камней. Невероятным усилием я выхватываю ее, но уже не могу
удержать падающее по инерции тело. За мною в воду летит Нина. Я едва успеваю
в последний момент поймать ее.
-- Пойдешь дальше? -- тут уж я не выдерживаю.
Нина встает, поворачивает ко мне лицо, все облепленное мокрыми
волосами, и утвердительно кивает головою.
-- Предупреждаю, впереди есть место повеселее! И тут обнаруживается,
что река унесла ее накомарник.
Как хорошо, что нас караулит солнце! На берегу мы выкручиваем одежду,
снова надеваем ее на себя, и караван скрывается в узком ущелье.
Над сутулыми хребтами, куда идет наш путь, над нарядной тайгою,
пахнущей спелой ягодой и упавшим листом, стынет прозрачная тишина бабьего
лета. Хорошо в эту пору в лесу. Под серым сводом осеннего неба все кажется
умиротворенным и уставшим. Какая грустная красота заключена в прощальном
сиянии лесов, в их величественном увядании. Склоны гор пылают вечным
закатом.
Тайга с трудом впускает нас в свои таинственные чертоги.
Лес захламлен папоротником, корявым валежником, сучьями. Всюду
обкатанные валуны, бог знает когда принесенные сюда ледником. Тишину
нарушает неистовый грохот ручья, стремительно бегущего с вершины ущелья.
Звериная тропа, присыпанная багряными листьями и умятая ногами
геодезистов, ползет в глубь гор. С каждым шагом ближе теснятся стволы
великолепных елей, густая черемуховая поросль; то и дело путь преграждает
валежник, точно нарочно поваленный на тропе.
Нина идет без накомарника (от моего она отказалась). Комары липнут к ее
обнаженному лицу, жадно сосут кровь и остаются красными бусинками на щеках,
на лбу, на подбородке.
Ущелье сжимается. Дичь, безлюдье -- то, что любят звери. Они проводят
здесь день, спасаясь от гнуса, забившись в густую тенистую чащу. Всюду мы
видим их следы, лежки. Да вот и они: точно из-под земли в широкий просвет
выкатывается стадо сокжоев, и все разом, словно по команде, замирают,
повернувшись в нашу сторону.
Стадо прикрывает крупный самец, с величественными рогами. Он стоит весь
на виду, гордый, могучий, захваченный тревогой.
-- Где ты, Нина, увидишь такую картину!
Мой голос доносится до стада. Сокжои беспорядочным стадом бросаются
вперед, исчезают.
Теперь нас осаждает мошка. Нину не узнать: вместо лица бесформенная
маска, вымазанная кровью и усыпанная мелкими шишками-укусами. Она устала
бороться с этой мелкой тварью, не чувствует ее укусов. И только иногда рука
как бы случайно пройдется по лицу, оставляя кровавые мазки на вспухшем теле.
Осенью мошка ядовитая, и злая, как черт.
-- Надевай мой накомарник или сейчас же повернем назад, -- говорю я
угрожающим тоном и, не дожидаясь ответа, натягиваю ей на голову тюлевую
сетку. -- Есть хочешь?
Она утвердительно кивает головой.
-- Обедать будем через час, а пока что вот тебе кусочек лепешки, замори
червячка...
-- Нога что-то левая... -- и я вижу, как она морщится от боли.
-- Ушибла?
-- Нет, кажется, растерла.
-- Снимай сапог, надо перемотать портянку. А вообще, Нина, все идет как
по писаному: следующая неприятность куда хуже -- ноги откажутся идти.
-- И все-таки я пойду! -- перебивает она меня.
-- Пойдешь. Теперь поздно раскаиваться.
-- Вот уж и не собираюсь. Дойду без жалоб.
-- Буду рад услышать эти же слова и на последнем подъеме.
Караван трогается. Шаги оленей глохнут в мягкой моховой подстилке, и
кажется, будто мы не идем, а плывем по этому необычному зеленому океану
тайги. На ходу Нина жует лепешку. Вряд ли она вспомнит сейчас что-либо
вкуснее и слаще этого черствого куска.
В лесу чаще появляются просветы. В них видны скалы. Точно призраки,
поднимаются они над вершинами деревьев, врезаясь остриями в небо.
На едва заметной тропе попадаются внушительные вмятины косолапого и
совершенно крошечные отпечатки копытец кабарги. В одном месте мы увидели
лопатообразный рог с изгрызенными концами. Его уронил сохатый в прошлую
зиму, и росомахи оттачивали на нем свои хищные зубы. Все это я поясняю Нине,
иначе у нее не сложится полного впечатления о тайге.
Лес кончается. Стало светло, словно двери распахнулись. Воздух заткан
паутиной. Дальше путь преграждает старая гарь, широким поясом перехватившая
ущелье. Обугленные деревья скрестились на земле в уродливых позах, точно
смерть их застала в страшной схватке. На всем лежит печать катастрофы.
Тропа ныряет в завал, петляет, забирается под навесы, извивается между
стволами, как удав в предсмертных муках. И хотя наши люди, прежде чем
попасть с инструментами на вершину хребта, много поработали тут топорами,
проход остается узким, сучья рвут вьюки, ловят одежду.
Проклятая мошка! Теперь она переключилась на меня. Отчаянно хлещу себя
ветками. Лицо, руки горят, как от ожога.
Олени выбились из сил. На первом ягельном пригорке, среди зеленых
стлаников -- привал. Ветерок отпугивает гнус, и к нам снова возвращается
способность любоваться красотами живой природы.
Нина опечалена -- из гари она вынесла от брюк одни лоскуты. Дальше ей
придется идти в моем плаще.
Я набрасываю на ягель потник, кладу в изголовье мягкий вьюк, и Нина
падает пластом, не забыв в последнюю минуту подставить лицо горячему солнцу.
Разлился по горам солнечный день. Потемнели скалы. Взвился к небесам
дымок костра. Нина спит как убитая. На загорелом распухшем лице
озабоченность. Обед готов, но жалко будить, а время не ждет. Я немилосердно
тормошу ее. Не помогает.
-- Ты не хочешь дальше идти? -- спрашиваю я.
Никакого впечатления. Я снова трясу ее, но уже изо всех сил.
-- Мы уходим. Догоняй! -- говорю громко.
Раскрываются узкие глазные щелочки, и оттуда смотрят сонные глаза.
-- Не уходите, еще капельку, -- вымаливает она, а сама поворачивается
на бок, снова засыпает.
Я теряю терпение. Хватаю ее, подношу к «столу», усаживаю, и тут она
просыпается.
Быстро расправляемся с едою. Вьючим отдохнувших животных. Сразу берем
очень крутую россыпь. У первой скалы поправляем вьюки. Улукиткан
высматривает проход, нацеливается идти извилистой щелью, заваленной
угловатыми обломками. Я отстегиваю от связки четырех оленей, веду его
следом.
Бедная Нина, каких мучений ей стоит первое знакомство с нашей жизнью, с
тайгою и горами. Вряд ли она еще когда-нибудь рискнет отправиться в поход с
геодезистами.
Упорство побеждает, мы на отроге. Мрачное ущелье скрывают от нас
нависающие над ним скалы. Нина отстала. Олени на первой террасе падают без
сил. Мы с Улукитканом на пределе изнеможения. Но какая радость -- близко
видна пирамида, установленная на остроконечном шпиле. Это здорово
подбадривает нас. Бойка черным комочком несется к вершине, спешит дать знать
о нас, а я тороплюсь вернуться к Нине.
Нахожу ее далеко внизу. Она стоит, прислонившись спиною к скале,
отяжелевшая голова упала на плечо. В одной руке накомарник, в нем душно
подниматься. У ног лежит брошенный посох. На меня смотрят усталые глаза, в
них отпечаталось выражение безразличия.
-- Пошли, Нина, наверху отдохнешь!
-- Еще далеко?
-- Нет, собери все силы. -- И я встряхиваю ее, даю в руки посох. --
Пошли!
-- Ноги, мои бедные ноги, они не идут, -- голос ее дрожит.
Я расстегиваю пояс, пропуская конец через пряжку.
-- Бери петлю в руки, крепко держись.
Я перекидываю через плечо ремень, Нина отрывается от скалы, трудно
шагает моим следом. Теперь ей мешают полы плаща, посох кажется свинцовой
тяжестью, а непослушные волосы нависают на глаза, и она не может, как
раньше, рывком головы, отбросить их назад. Но я упорно тащу ее, не
оглядываясь, и мысленно кричу на себя: «Чего спотыкаешься, черт побери!»
-- Теперь-то ты уж будешь знать, что такое геодезия.
-- А у вас ноги не болят?
-- Я не обращаю на них внимания.
-- Да?.. Этого мне, видно, никогда не достичь. Как жалок человек -- он
даже не имеет запасных ног, всю жизнь на одних, -- говорит она серьезно.
Через каждые десять метров отдых. И так до самого верха, медленно,
долго. Меня окончательно поражает ее упорство.
До подножия гольца, где расположен пункт, немного более километра.
Подъем некрутой, по каменистому гребню. Усаживаем Нину на оленя. Теперь она
не протестует. Я пристраиваюсь рядом в роли подставки, за которую она может
держаться руками, и караван трогается.
Бойка давно на пункте, сообщила о нашем прибытии, но там почему-то
никакого оживления. Неужели никого нет?
Видим -- на гребень, из боковой лощины, выходит какое-то странное
существо: ноги и туловище медведя, вставшего на задние лапы, а вместо головы
огромная копна, точно он несет какой-то материал для берлоги. Тоже
направляется к вершине. Улукиткан свистит. Копна сваливается на землю. Это
человек. Он узнает нас, бросается навстречу. Мы прибавляем шагу.
-- Приветствую дорогих гостей в своих поднебесных владениях! -- кричит
Михаил Михайлович, заграбастывая Улукиткана. -- Ты жив, слава богу! -- и
тискает его от всей души. Затем он здоровается со мною, протягивает руку
нашему третьему, спутнику, да так и замирает с протянутой рукой -- перед ним
незнакомая женщина.
-- Нину не узнаешь? -- говорю я.
-- Нина?! -- восклицает он с облегчением. -- Наконец-то я вас увидел.
Где пришлось встретиться! -- Он помогает ей слезть с оленя.
-- Ну, ты, медведь, осторожнее! -- предупреждаю я его. -- Думаешь, ей
легко досталось свидание с тобою?
-- Не учел, простите...
-- Как далеко забрались, не боитесь? -- спрашивает она, а сама не может
стоять на ногах, держится за меня.
-- Некогда бояться. Если не у инструмента стоишь, то по хозяйству.
Забот хоть отбавляй. Сегодня после утренней работы за дровишками ходил в
лощину, далеко, -- поясняет он.
-- Вы снизу носите дрова? -- удивляется она. Кажется, это больше всего
поразило ее.
-- А воду берем еще ниже.
-- Я бы скорее согласилась жить без костра и без чая.
-- В этом нет надобности. Мы привычны, иначе обленишься.
-- И одичаешь, -- добавляю я.
-- Это уж обязательно. -- Он мельком осматривает себя сверху, затыкает
в брюки передний край рубашки и со смущением замечает, какие у него
безобразные сапоги: задники сильно скосились набок, причем, в одну сторону,
левый оскалился, и, хотя он стянут ремешком и Михаил Михайлович старается
ногу поднимать повыше, сапог так и норовит пастью впиться в камни.
Нину усаживаем на оленя. По пути Михаил Михайлович взваливает на свою
широкую спину вязанку стланикового сушника. Косые лучи солнца лижут горы.
Густые тени уже наполнили ущелья. Оконтурились лохматые края откосов. Теперь
хребты, ложбинки, пропасти, изломы выступают яснее, и горы, когда смотришь
на них с высоты в этот вечерний час, кажутся огромной рельефной картой. На
них кое-где видны останцы -- каменные столбы, немые свидетели разрушений.
Они пережили самое большое -- испытание временем...
Вот и лагерь под толстым останцем. Палатка, три полога, горка немытой
посуды, костерок, зажатый двумя обломками, на которые ставятся котелок с
варевом, оленьи седла, потки, клочки вычислительной бумаги. Поодаль валяются
донельзя истоптанные ботинки, на камнях выветриваются спальные мешки,
вывернутые шерстью наружу.
Отпущенные олени легли на россыпи серой живой кучей, и так плотно,
точно кто их побросал один на другого. Глядя на них, я почему-то подумал:
как часто мы несправедливы к этим четвероногим рабам, безропотно отдающим
себя служению человеку, а может быть, и жестоки в своих чрезмерных
требованиях к ним. И удивительно, ведь олени всегда имеют возможность уйти в
тайгу, присоединиться к сокжоям -- своим прямым сородичам, жить вольно,
по-звериному, и навсегда распрощаться с вьюками, с лямками, с побоями, так
нет, -- слишком велика у них сила привязанности к людям;
Стаскиваем с Нины сапоги, заталкиваем ее под полог. Она улыбается. На
распухшем бронзовом лице блаженство уставшего человека, наконец-то
добравшегося до постели.
Гостья сгибает в коленях ноги, кладет сложенные ладони под щеку и со
вздохом уходит в сон.
Огромная туча, грязно-синяя с огненными краями, придавила солнце к
горизонту. Ее толстое тело походит на странную крепость, с мощными уступами
бастионов и высокой башней, на которой торчат немыми символами орудия. Туча
тяжелеет, гасит теплый свет над землею, сливается с горами. А солнце,
обреченное, но все еще сильное, пронизывает крепость и сквозь рваные щели
бросает на землю пучки живого, дрожащего света, все слабеющего,
меркнущего...
Из всех вечеров, какие я помню, этот был самый ясный, тихий, а воздух
самый прозрачный.
Всегда затянутые дымкой горы на этот раз были обнажены, резко очерчены
и так близко придвинуты к нам, что глаза без напряжения могли легко
проследить линии отрогов, сливающихся у горизонта в один мощный хребет, и
разглядеть провалы с их гранитными стенами.
-- Миша, какая видимость! Разве ты вечером не наблюдаешь?
-- Надо бы, да помощник с рабочими ушел в ущелье за водою.
-- Может, я заменю его?
-- Тогда пошли.
До шпиля, где над бетонным туром возвышается пирамида, метров триста
крутизны. Горы падают, сливаются зубцы, купола, отроги. И только наш голец
господствует над этим горным хаосом, над беспредельным безмолвием. С его
вершины, заканчивающейся крошечной площадкой, мы увидим на дне глубоких
расщелин вечернюю тайгу.
Михаил Михайлович устанавливает на туре инструмент -- тяжелый теодолит,
приводит его в рабочее положение. Я осматриваю горы. Джугдыр уходит от нас
на север, беспокойный, вздыбленный, прикрытый густым облаком, словно серым
шинельным сукном.
-- Голец Сага -- видишь? -- говорит мне Михаил Михайлович, показывая
рукою вправо от Джугдыра.
За Маей, скрытой от нас в глубине провалов, виден безымянный хребет,
широкий и плоский, расчлененный мелкими ложбинами. Издалека он напоминает
пустыню после смерча, покрытую гигантскими дюнами. С первого взгляда узнаю
Сагу -- господствующую вершину этого хребта, угрюмую и толстую, как
откормленный боров. До нее по прямой километров сорок!
Михаил Михайлович наводит на вершину тяжелую трубу инструмента,
припадает глазами к окуляру.
-- Дьявольщина! -- досадует он. -- Пирамида плохо видна -- плохая
проектировка.
-- Может, глаза твои устали от долгой работы, дай взгляну.
Он уступает мне место у инструмента. В трубу, с большим оптическим
увеличением, Сага кажется совсем рядом, вся как на ладони, облитая ровным
светом закатного солнца. Вижу и пирамиду, но тускло, в синеве далеких гор. С
таким изображением ее, конечно, не отнаблюдать. Сбоку, под тупой вершиной,
на скалистом прилавке хорошо заметно белое пятно -- это палатка Трофима.
-- Если завтра будет свет, за ночь закончим наблюдение? -- спрашиваю я.
-- Конечно. Но для этого надо сегодня измерить все углы, не связанные с
направлением на Сагу. Их немного.
Михаил Михайлович привычным движением руки отводит трубу вправо от
Саги, быстро находит нужную вершину с пирамидой, и пока ловит в биссектор
инструмента цель, я успеваю раскрыть журнал, достать ручку, приготовиться к
записям отсчетов. Сознаюсь, давно не занимался такой работой, и хотя
программа вычислений здесь, у инструмента, очень упрощенная, тем не менее
чувствую себя, как на экзамене, мальчишкой.
-- Миша, не торопись, не дай оскандалиться, -- умоляю я.
Он смеется:
-- Вот когда ты в моих руках! Уж я постараюсь.
-- А двадцатилетняя дружба?
-- Этого не предусматривает инструкция.
-- Зря обрадовался, я ведь пошутил.
-- У нас есть время проверить, шутишь ли ты. Его лицо вдруг становится
серьезным.
-- Сорок пять градусов, тридцать две минуты, двадцать шесть и шесть,
двадцать шесть и четыре, -- тянет он нараспев.
...Время летит быстро. Гаснет солнце на лиловом горизонте. Последний
прием Михаил Михайлович делает с натяжкой на свет. Затем он подсаживается ко
мне, критически осматривает записи вычислений и тут же чертыхается: не
нравится ему моя работа. Затем он повторяет все вычисления самостоятельно,
так уж положено на наблюдениях, и получает мои результаты.
-- Ты и теперь недоволен? -- спрашиваю я.
-- Ну, знаешь, за такую работу помощнику досталось бы по первое число,
-- беззлобно выговаривает он мне за исправления на страницах журнала.
Мы убираем с тура инструмент и, довольные, что хорошо потрудились,
начинаем спускаться в лагерь.
-- Значит, договариваемся: если завтра ночью закончим полностью
программу наблюдений, тогда с тебя будет причитаться, -- говорит Михаил
Михайлович, ощупью спускаясь по камням.
-- За что?
-- Мой-то пункт последний, соседи сегодня заканчивают. Шутка ли, до
снегопада свернуть такую работу.
-- Что же, согласен, если закончишь. Но имей в виду, с меня всем уже
столько причитается, что и волос на голове не хватит.
-- Тут осторожнее, держись правее, -- предупреждает спутник и уползает
в темноту.
Далеко внизу мерцает огонек костра, а кажется, будто живая звезда
свалилась на дно глубокого провала. Справа заметно сверкает восток. Оттуда,
из бездны бездн, на сторожевые пики льется голубоватый свет, все сильнее,
все ярче. Появляется луна. Она выползает на ребро гольца холодным шаром и,
кажется, вот-вот сорвется в пропасть.
В лагере все спят. Лишь останец настороженно караулит немое
пространство. Палатка, пологи, утварь, костерок между сложенных камней и
уснувший возле него Улукиткан -- все это ночью, под луною, поистине сказка!
Рядом с Улукитканом спит Майка, положив голову на вытянутые передние
ноги и поджав под себя задние. С тех пор, как не стало в стаде Баюткана,
кому она рабски подражала во всем, Майка больше привязалась к старику. Как
бы далеко ни кормилась, ночью непременно придет к нему на стоянку. И хотя
Улукиткан свое чувство хранит глубоко под внешним спокойствием, отделывается
молчанием, но мы знаем -- в его сердце живет безграничная любовь к Майке.
Второй год эта чудесная оленушка путешествует с нами. Она радует нас
своею молодостью, своими шалостями. Ее характер стал еще независимее: у
дымокуров старые почтенные олени уступают ей лучшее место; поссорившись с
собаками, она угрожающе набрасывается на них, и те, опытные зверовые лайки,
не смеют огрызнуться, спасаются бегством. Если же Майка, утомленная
длительным походом, доверчиво уснет на стоянке, по-детски разбросав уставшие
ноги, никто не шумит, разговаривают шепотом, упаси бог, кто стукнет топором
или загремит посудой. Словом, все мы: люди, олени, собаки -- подпали под
влияние Майки, и она стала маленькой хозяйкой нашей кочевой жизни.
Я уже говорил, что для Улукиткана, человека суеверного, новорожденный
теленок -- символ счастья. Майку старик боготворит. Оно и понятно: старому
эвенку, прожившему всю тяжелую жизнь в постоянном уединении, в тайге, трудно
избавиться от суеверия. И когда я думаю о привязанности Улукиткана к Майке,
не могу представить, что станется с ним, если Майки не будет рядом?
Этому суждено было случиться в следующем году...
Наступила осень. Тайга, облитая густым, немеркнущим закатом, отдыхала в
тишине. Мы с Улукитканом вдвоем пробирались к истокам Маймакана. Там, на
каменных вершинах Джугджура, работали наши отряды геодезистов, и мы заранее
условились, что я посещу их в это время.
Шли от озера Токо на восток, без тропы, вдоль хребта. Давно потеряли
счет речкам. Позади остались буйные Аян, Учур, Чумикан, а впереди лежала
незнакомая земля, безлюдье, глушь, и где-то в неприветливых складках гор
прятались истоки Маймакана.
Улукиткан, впервые попав в этот район, осторожно вел караван,
ориентируясь по Джугджуру.
Нас и в тот год сопровождала Майка. Она была уже взрослая самка,
выхоленная тайгою и человеческой лаской. С возрастом она немного одичала,
стала вожаком стада, но отношения ее со стариком остались прежними. Она
знала только его руки.
Шли долго, скучно. Путь казался неодолимым. Трудно представить, как нам
надоели мари, гнус, безмолвие и синеющее в вышине безоблачное небо. На всем
протяжении ни единого следа человека. Иногда мы выходили на сопки, чтобы
осмотреть местность, и нам открывалась безграничная тайга, бедная, рваная.
Мы уже не верили, что есть на свете речка Маймакан и что когда-нибудь
доберемся до своих. Но надежда, подобно огню, спрятанному в глубине торфяных
пластов, никогда не угасала в наших сердцах.
И вот однажды, к концу дня, подойдя к ручью, мы увидели траву, примятую
олочами. Проводник ощупал след, прошелся по нему, сказал, обрадованный:
-- Совсем недавно люди ходи, -- и, как бы в доказательство его слов,
близко загремело ботало, затем послышался лай собак.
Тут уж действительно обрадуешься не только другу, но и врагу. Мигом
слетела усталость. Старик, по-юношески вскочив на своего учага, погнал его,
покрикивая на идущих в связке оленей.
На полянке, куда выбрались из чащи, мы увидели изумленных нашим
неожиданным появлением колхозных пастухов. Они тоже только что пришли на
поляну и еще не успели поставить чумы, развести костер.
С дюжину пестрых собак окружило караван. Майке эта шумная компания не
понравилась. Неожиданно для всех она вырвалась вперед к псам, била всеми
четырьмя ногами, подпрыгивала высоко, как козел, но собаки оказались не из
трусливых. Ей бы несдобровать, уж и досталось бы, да вовремя вмешались
пастухи.
-- Для чего вам столько собак? -- спросил я, протягивая руку пожилому
коренастому эвенку.
-- Ты думаешь, это много? Скоро начнем пушнину добывать, какие хорошо
искать белку будут или сохатого держать, останутся жить, а другие на варежки
пойдут, еще не хватит.
Мы поздоровались с остальными.
-- Откуда у вас такая матка? -- не скрывая восторга, неожиданно
спросила молодая пастушка, показывая на Майку и окидывая ее взглядом
знатока. Тут только я заметил, что наша четвероногая спутница буквально
приворожила всех.
Улукиткан умышленно молчал, дескать, полюбуйтесь ею, позавидуйте. А
Майка, точно понимая, что попала на смотрины, важно вышагивала по стойбищу,
демонстрируя перед эвенками то круглый зад, прикрытый белым фартучком, то
пышные бока, вертела чуточку заостренной головою, украшенной изящными
рожками.
-- Однако, не худо было бы получить от нее племя, -- сказал старший
пастух, не отрывая глаз от Майки, и, повернувшись к Улукиткану, добавил
деловито: -- Может, сладим, бери за нее любого учага из стада.
Лицо старика помрачнело.
-- Ты хочешь отобрать у меня счастье, кому нужна пустая жизнь? --
ответил он и. считая разговор законченным, стал развьючивать оленя.
-- Два учага на выбор дадим, подумай, цена не малая, -- азартно
предложил пожилой пастух.
-- Если ты снимешь рукою с неба орла, и то мало будет, -- ответил
старик твердо, а сам, вижу, в восторге. Еще бы, Майка получила такую оценку
пастухов!
К вечеру "а поляну к новому стойбищу пригнали стадо оленей, состоящее
главным образом из племенных самок и молодняка. Уставшие животные разбрелись
по редколесью, и там в глубине сумрака замер невнятный шепоток
колокольчиков. Но десятка полтора попрошаек осталось на стоянке. Олени
тщательно обшарили лагерь и, не найдя чем поживиться, набросились на наши
вьюки. Пришлось убрать багаж в палатку.
Большой костер освещал поляну, берестяные чумы пастухов, этих
трудолюбивых кочевников нашего времени. Они живут в тайге со своими семьями,
неотступно следуя за стадом до предгорий Джугджура. Их богатство, состоящее
из домашней утвари, постелей и одежды, укладывается в несколько вьюков. Их
желания -- не оставаться долго на одном месте. Эти люди совсем не
требовательны в своих потребностях. Мы с Улукитканом по сравнению с ними
живем с комфортом.
Пастухи, отдаленные от жилых мест огромными пустырями, бывают
бесконечно рады повстречавшемуся человеку. Их представление о внешнем мире
складывается в основном из тех отрывочных сведений, которые приносят с собою
случайные гости. Вот почему так радушно встретили нас кочевники. Мужчины и
женщины помогли развьючить оленей, поставить палатку, дети дружно таскали
хвою для постелей.
В вышине провожали день белохвостые орланы. Багровый закат сливался с
лесом, опаленным осенним пожаром, золотил на поляне синие, в зрелой ягоде,
кусты голубики. Ночной ветерок гладил увядшие листья берез, и те шепотком
умоляли его не срывать их, подождать до утра...
Только ночью исчез гнус. Мы сняли накомарники. Пастухи угощали нас чаем
с густым оленьим молоком и с жадностью выпытывали новости. Их все
интересовало: жизнь страны, куда кочует белка, кого встречали мы на пути и
какая нужда привела нас в этот дикий край? В разговоре я произнес имя своего
спутника. И тут только пастухи узнали, что их гостем является тот самый
Улукиткан, добрая молва о котором растеклась далеко за пределы родного
стойбища. Все забыли про ночь. Разговор неожиданно затянулся.
Пастухи знали, что Улукиткану много лет, что добрую половину из них он
прожил еще до революции, лесным кочевником, и много знает из прошлого их
славного народа. Говорил только Улукиткан. Ему было что вспомнить...
Когда погас костер и люди уснули, на стоянку снова заявились
олени-попрошайки. Они стали атаковать нашу палатку. И я, чтобы избавиться от
назойливых животных, необдуманно угостил их солью. Вот когда мы оказались в
настоящей засаде! Всю ночь олени толклись у палатки, просовывали свои
безобидные морды в щели, а одному молодому оленю даже удалось поднять
головной борт и пробраться внутрь...
Утро началось с того, что Улукиткану подарили легкую дошку из пыжиков.
Старик не захотел остаться в долгу, но чем ответить? В тот год я преподнес
ему шестикратный бинокль с просветленной оптикой. Его он хранил как
драгоценную вещь на дне потки, бережно завернутым в замшевый лоскут.
Расстаться с ним ему, видно, было не под силу. Другого он ничего не имел.
Тогда старик развинтил бинокль, одну половину оставил себе, а вторую подарил
старшему стойбища. Боже, какая же это была радость для пастухов! Им
действительно бинокль был необходим, особенно осенью, когда олени в поисках
грибов уходят далеко от стоянок и собирать их приходится с большим трудом.
От пастухов мы узнали, что до наших осталось не более трех дней хода.
Когда караван был готов покинуть гостеприимную стоянку, один из пастухов
подошел к Улукиткану, начертил на земле витиеватую линию, затем справа от
нее приложил веточку, примерно под углом 45°, и к ее краю, тоже под тем же
углом, еще один маленький прутик -- это река Маймакан и левобережный приток,
по которым должен был пойти наш путь. Затем пастух положил три камушка у
«истоков» реки, как бы изображая ими вершины хребта, и, ткнув пальцем в
крайний, сказал всего лишь несколько слов на своем языке. Улукиткан
утвердительно закивал головою, взял в руки повод от переднего оленя и
твердой походкой зашагал к невидимым вершинам. А я подумал: как это просто
получается у истинных детей природы! У них, кроме врожденного чутья, есть
свои, нам не понятные, приметы на земле, которые и служат им ориентиром в
пути.
Старик повеселел. Покачиваясь в седле, он тихо пел о том, как хорошо
быть гостем у пастухов, что у него есть новая дошка и что счастье ему идет
от Майки...
Теперь мы двигались на юго-восток и более уверенно, чем в начале нашего
путешествия. За холмистым предгорьем путь каравану преградили лобовые откосы
Джугджура. Огибая их, мы, наконец-то, добрались до Маймакана. Сатанинская
сила выносит его из узкого ущелья. Грохот воды, рев перекатов, стремительный
бег и нескончаемое эхо у скал -- таковы впечатления от этой реки.
Мы вступили в пределы больших гор. Кончилась высокоствольная
лиственничная тайга, и с нею отстал гнус. На смену растительному покрову с
вершин спустились потоки россыпей. Звериная тропа уводила нас внутрь
загадочной щели, по дну которой кувыркался неуемный Маймакан.
Наше появление там небо отметило проливным дождем. Какое-то время мы на
ходу еше мирились с сыростью, "о когда одежда окончательно промокла и
отяжелела, пришлось оборвать путь. Там мы и заночевали.
На второй день, пройдя километров пять вверх по Маймакану, караван
вышел к большому левобережному притоку. Свернув по нему, как это значилось
на «карте» пастуха, мы неожиданно наткнулись на затесы, сделанные нашими
людьми.
-- Тут хорошо пойдем, -- обрадовался старик.
Но ущелье оказалось тесным, заваленным обломками, труднодоступным для
оленей. Звериная тропка то и дело перескакивала речку, разбушевавшуюся после
вчерашнего дождя. Весь день мы боролись с потоком и только к вечеру
выбрались на верх отрога.
Солнце растопилось в кровавом закате.
Караван медленно подвигался по пологому гребню, выискивая более
подходящее место для ночевки. Бежавшая впереди Майка вдруг остановилась и,
подняв высоко голову, старалась что-то рассмотреть. Мы подошли поближе к
ней, -- слева, куда смотрела Майка, метрах в полутораста от нас, на голой
возвышенности, стояли кучкой четыре сокжоя: крупный самец и три самки. Они и
мы с одинаковым любопытством рассматривали друг друга. О ружье нечего было и
думать -- тут только пошевельнись, и звери мигом исчезнут. Самец стоял
грудью к нам, весь поглощенный нашим неожиданным появлением. Он был в
брачном наряде, политый густым отблеском заката, огромный, неустрашимый. В
эту осеннюю пору все в нем подчинено брачному инстинкту. Его огромные рога,
в другое время ненужная уродливая надстройка, теперь превратились в
устрашающую силу. Вот он грозно потряс ими и весь вздрогнул, точно
пронизанный электрическим током.
Самки покорно стояли, повернув к нам свои любопытные головы, боясь
пошевелиться.
Так длилось всего лишь несколько секунд. И вдруг звери все разом, точно
сдунутые ветром, бросились вниз, скрылись за изломом. Майка рванулась за
ними, но тотчас же задержалась. Вытянув морду, она громко промычала, и в
этом протяжном звуке было что-то новое, только что пробудившееся в ней.
Мы еще. не успели сделать и шага, еще в голове не окрепла увиденная
картина живой природы, как на возвышенности снова появился сокжой, весь
взбудораженный, могучий и злой. На миг замирая, он поднял голову и, как бы
отвечая Майке, заревел страстно, призывно.
Улукиткан сбросил бердану, но зверь исчез раньше, чем гот успел
разрядить ружье. Повернувшись ко мне, старик какое-то время стоял онемевшим.
-- Ты понимаешь, Майка уже взрослая, -- сказал он, явно потрясенный
этим открытием.
-- Почему это тебя удивило? Так должно быть.
Он промолчал.
Мы тронулись. Потухал закат. Чернотой наполнялись провалы, и оттуда
непрерывно доносился стон удаляющегося сокжоя.
Остановились под первой вершиной. Я занялся устройством ночлега, а
старик пошел осмотреть место. Вернулся поздно.
-- Тут совсем близко стадо баранов живет, -- сказал он, растревоженный
охотничьим нетерпением. -- Какой мы будем охотники, если придем к своим без
мяса. Ты как думаешь?
-- Я бы не хотел терять день.
-- Терять не надо. Пойдем охота до рассвета и скоро вернемся, даже если
удачи не встретим.
...Было еще темно, но где-то в бездне, далеко за сонными хребтами,
нарождался день. Мы на ногах, и можно бы отправляться на охоту, но Улукиткан
утром и шагу не сделает от табора, не попив чая. Эвенки вообще неравнодушны
к этому напитку, как и все северяне.
Старик достал из потки кружку, сумочку с сахаром, кусок черствой
лепешки и, дожидаясь, когда вскипит вода в котелке, сидел у огня невеселый.
Последние дни он жаловался, что слишком далеко ушел от родных мест я не
хотел бы тут, на чужой земле, оставлять свою могилу.
Я, пользуясь задержкой, занялся чисткой карабина. После длительного
похода надо было разобрать затвор и протереть ствол, обильно смазанный перед
непогодой.
Сквозь густую синеву ночи прорезались линии Джугджура. В лощинах таяли
голубые тени, и где-то на склоне вершины, под которой мы ночевали,
прокудахтал куропат, первым заметивший рассвет.
Этот крик разбудил отдыхающих на стоянке оленей. Животные неохотно
поднялись с нагретых лежек и в поисках ягеля разбрелись по низкорослому
стланику.
Старик допил чай, сложил посуду, но не торопился уходить. Что-то
тревожило его.
-- Ты почему такой скучный, сон плохой видел? -- спросил я.
-- Нет. Разве не видишь, Майка утром не подошла -- так никогда не было,
-- тихонько пожаловался он мне, и его лицо все сморщилось, как от зубной
боли.
-- Стоит ли обижаться, Улукиткан. Майку ты слишком избаловал, чтобы она
стала чуждаться тебя. Еще придет.
-- Не говори так, -- прервал он меня. -- Она хочет матерью стать. Вчера
вечером видел, как она... -- но тут наше внимание привлек какой-то странный
звук, долетевший до слуха со дна котловины. Похоже, что взревел медведь.
Улукиткан встал, поднялся и я. Олени перестали кормиться. Все повернули
головы в сторону звука, насторожились, как перед опасностью.
Вот ближе треснул сучок, загремела россыпь, и уже совсем рядом
послышался рев низкого тона. Из котловины на холмик выкатился рогатый зверь
и замер весь на виду, огромный, дерзкий, взбудораженный. Он, казалось, забыл
об опасности.
Мы сразу узнали вчерашнего сокжоя.
Улукиткан схватил бердану. Я никогда не видел старика таким быстрым и
решительным. Он спешил. Его руки дрожали. Патрон не лез в ствол...
А сокжой со своей дикой силой налетел на стадо. Олени рассыпались по
стланику, бежали, не щадя себя, куда попало, охваченные паникой. И только
Майка оставалась на месте. Ни страха, ни колебаний. Ока стояла словно
завороженная красотою самца, впервые захваченная брачным инстинктом.
Я видел, как Улукиткан выскочил вперед, пригнувшись, положил ствол
берданы на камень и стал целиться.
Сокжой, точно догадавшись о смертельной опасности, вдруг круто повернул
назад. Бердана старика осеклась, еще и еще...
-- Стреляй, ты что, не видишь?! -- гневно крикнул он мне.
Но у меня в руках был еще не собранный затвор.
Зверь с ходу пугнул Майку рогами, погнал вперед, и по тому, как она
вдруг покорилась самцу, я догадался, что навсегда уходит от нас Майка.
Улукиткан в отчаянии бросил на землю бердану, топтал ее ногами,
проклиная на чем свет стоит. Но вдруг опомнился, поднял ружье и кинулся
догонять Майку.
Она и сокжой задержались на холмике, постояли темного, облитые
восходом, и исчезли в глубине котловины. Старик торопливо бежал их следом,
без шапки, на ходу перезаряжая бердану.
Я долго собирал напуганных оленей, затем свернул лагерь, приготовил
вьюки. Пора трогаться в путь, но Улукиткана все нет. Пришлось выйти на
холмик. Под ним глубокая котловина ледникового происхождения, с озерком у
нижнего края. Нигде никого. Только кедровки стрекотали в зарослях стланика.
Не вернулся проводник и вечером. Я разжег большой сигнальный костер,
всю ночь не спал, стрелял. Много раз доливал чайник. Все время думал о том,
что если старик не убьет сокжоя -- не видать ему больше Майки.
Наступило утро, ветреное, серое, без солнца. Густая сизая дымка накрыла
горы. Вершины томились в предгрозовой тишине. Ожидался дождь, а у старика не
было ни топора, ни лепешки.
Я спустился в котловину. Долго шел вчерашним следом Майки, притоптанным
копытами сокжоя. Ниже к ним присоединились три самки диких оленей, вероятно,
тех, которых мы видели вечером в пути. Все они, не задерживаясь, спустились
в глубину ущелья. На свежей тропке зверей были хорошо видны отпечатки олочей
Улукиткана.
Дальше за котловиной следы затерялись на россыпях. Я кричал, несколько
раз разряжал карабин, ждал -- никакого ответа. Молчали горы, тайга, камни.
Прошла еще одна беспокойная ночь ожиданий. Чего только не передумал.
Потерять Улукиткана -- какой ужас! Как могло случиться, что я не пошел с
ним? В его ли восемьдесят три года пускаться в погоню за сокжоем! Куда увел
его зверь?
Рано утром я собрал оленей, решил немедленно двигаться к своим на пункт
и оттуда организовать поиски Улукиткана. Надо было торопиться, мысль о том,
что люди могут, не дождавшись нас, уйти дальше, подгоняла меня.
Путь шел гребнем, дальше, выше. С ярко-голубого неба на маленький
караван лились беспощадные потоки лучей утреннего солнца. Какими пустынными
казались мне горы! Ничего не радовало в этой кладбищенской тишине. Я твердо
знал закон тайги: сам погибай, но товарища выручи. Мне казалось, что я
нарушил этот незыблемый закон.
Высоко впереди, четко выкроившись в синеве, парили два орла. Далеко был
слышен их одинокий крик. Почти не шевеля резными крыльями, они плавно
описывали круги. Будто не подвластные земному притяжению, хищники
осматривали горы. Ах, если б и я мог подняться в небо!..
Со второй вершины я увидел высоченный голец, увенчанный пирамидой, со
снежником на северном склоне. До него оставалось километров шесть. В бинокль
были хорошо видны палатки и пасущиеся у подножья гольца олени. Цель была
почти достигнута, но я не радовался. Прийти в лагерь без Улукиткана!..
Нас разделяла глубокая седловина, покрытая пятнами вечнозеленых
рододендронов. Как-то безотчетно ноги сами по себе заторопились. Вдруг
захотелось скорее попасть к своим, может, еще удастся разыскать старика.
Вот и седловина. Вижу справа, у самого излома, то появится, то исчезнет
прозрачная вуаль тумана. И все на одном месте. Я остановился. Откуда бы
взяться ему в такой жаркий день? И вдруг меня осенила догадка -- не дым ли
это?
Я свернул к излому. Там, у самого края, сиротливо стояла чахлая
лиственница, комлистая, дупляная, раздетая осенними ветрами. Под ней, среди
низкорослых стлаников, дотлевал давно забытый костерок, а рядом лежал
Улукиткан в странной позе. Мне показалось, что он мертвый и что смерть
настигла его в тот момент, когда он хотел стащить с ног олочи. Я приложил
ладонь ко лбу. Он жив! Больше ничего мне было не нужно.
Улукиткан не приходил в себя. Я уложил его поближе к огню, подновил
костер, развьючил оленей. Уже вечерело. Где-то за ближними горами потухало
солнце.
Несколько глотков крепкого чая, влитые в рот старика, сделали свое
дело. Его плоское лицо вдруг посвежело, точно кто-то невидимый ласково
коснулся морщинистой кожи. Чуточку раскрылись ресницы. Из узеньких щелочек
смотрели на мир бесконечно усталые глаза, они точно спрашивали: стоит ли
жить дальше?
Мне уже не нужно было узнавать, где Майка.
-- Выпей, Улукиткан, горячего чая, согрейся, -- сказал я спокойно,
будто ничего не произошло у нас и мы, как обычно, сидим за вечерним костром.
Он недоуменно смотрел на меня, точно это был не я, а кто-то другой, но
кто именно -- старик напрасно силится вспомнить.
Долго еще продолжалось его забытье. Он невероятно устал и телом, и
волей, и разумом. Я со страхом думал, что станет с ним завтра, послезавтра.
Он слишком свыкся с мыслью, что Майка должна быть всегда с ним. Какая это
для него непоправимая утрата!
-- Мы еще будем искать, отобьем ее у сокжоя, -- сказал я, пытаясь
подбодрить старика.
Улукиткан ничего не ответил. Он лучше меня знал, что это невозможно.
Ночь, темень, тишина. Только в пустынном небе, будто от ветра, неровно
мигали звезды, да со дна черных котловин веяло легким холодком.
Позже взошла луна, посветлело в горах. И вдруг в тишину из ближней
расщелины прорвался приглушенный рев. Это сокжой подал свой голос. Мы с
Улукитканом вскочили почти одновременно. Я схватил карабин и хотел бежать к
зверю, но старик поймал меня за руку.
-- Не ходи, теперь Майка не вернется, даже если ты убьешь сокжоя. Пусть
живет, как хочет, -- сказал он, твердо выговаривая каждое слово и все еще
удерживая меня за руку.
Он поправил огонь, вернулся в постель, быстро уснул.
Я был поражен и обрадован за старика.
«Какая воля живет в твоем старческом теле! Вопреки всем суевериям, ты,
мой друг, останешься верен себе и будешь продолжать свой путь, сеять добро и
любовь, пока не иссякнут до конца твои силы», -- думал я тогда, сидя у
костра и прислушиваясь к спокойному дыханию Улукиткана.
...Утром у меня чертовски разболелась голова -- видимо, от бессонницы.
Да и настроение почему-то неважное, и досадно на себя, что поддался этому
пагубному состоянию. Подхожу к костру, разложенному скупой рукою. Тут, среди
вечных курумов, огонь -- жизнь, а каждое поленце -- драгоценность. Об этом
очень хорошо знают те, кто спускается за дровами на дно ущелья и у кого
потом долго болят растертые до крови плечи.
-- Духи дарили нам хороший день! -- приветствует меня утром Улукиткан.
-- Ты думаешь, не будет дождя?
-- Оборони бог, старик не ошибается, -- ответил он.
Утро в этот день казалось необыкновенно холодным и сырым. Россыпи,
ягель, пологи, вещи, оставшиеся на ночь неубранными, побелели от инея. В
воздухе резкий, освежающий запах. День действительно обещает быть хорошим.
Нина протягивает мне из-под полога руки, уже немного загрубевшие в
походе и вспухшие от комариных укусов. Я помогаю ей встать, укрепиться на
больных ногах. Она приятно поражена: и стоянкой, и горами, и очень близким
небом. Нина пытается улыбнуться, и от этого еще печальнее становится
выражение ее больших и добрых глаз.
Первые шаги даются ей трудно, ноги, как ходули, не сгибаются. Но Нина
быстро осваивается, освобождается от моей помощи. Михаил Михайлович подает
ей мыло. Улукиткан льет на руки холодную воду. Я устраиваю ей за «столом»
мягкое сиденье.
Мы действительно все рады услужить ей...
-- Вас, Михаил Михайлович, надо золотой медалью наградить за такую кашу
и звание заслуженного повара присвоить, -- говорит она, пробуя гречневую
кашу.
-- Тут, в горах, на свежем воздухе, и без звания все вкусно.
-- Это что, вот Трофим ладит кашу -- пальчики оближешь, -- вмешивается
в разговор рыжебородый помощник.
-- Что-то таких способностей за ним не замечала. Придется проверить.
День как-то сразу наполняет горы теплым светом. Поднимается на крыло
комар.
-- С чего начинать будем день? -- спрашиваю я Михаила Михайловича.
-- У тебя есть какое-нибудь предложение?
-- Я думаю, если работы на стоянке нет, ходить буду баран искать, --
неожиданно заявляет Улукиткан.
-- С этого и начнем, -- соглашается Михаил Михайлович. -- Вы с
Улукитканом на охоту, ребята сходят за дровами, а я поднимусь с гелиотропом
на пункт, буду вызывать Трофима. Если ответит, то с четырех часов вечера
начнем наблюдения.
-- А мне что делать? -- растерянно спрашивает Нина и просящим взглядом
смотрит на Михаила Михайловича.
Тот пожимает плечами.
-- Гость может только повелевать. Скажи, что ты хочешь? -- И он
по-восточному складывает руки.
-- О, если бы я могла повелевать, теперь была бы на Саге у Трофима, --
вздыхает Нина, закрывая густыми ресницами затуманенные глаза.
-- К вечеру, если сил хватит, поднимешься на пункт...
-- Непременно, -- отвечает она обрадованно.
Мы с Улукитканом спешно покидаем стоянку. С нами Бойка. Я иду с
удовольствием, надеясь на охоте рассеяться.
Мы огибаем останец, за ним берем крутой подъем, взбираемся на верх
пологого отрога. Впереди хорошо виден тучный кряж, весь исполосованный
ложбинами, точно следами когтистых лап допотопного чудовища, некогда
содравшего со склона растительный покров. От кряжа нас отделяет глубокое
ущелье. На дне его витиеватый ручеек, зеленые полянки, стланики, осыпи и
крошечное озерцо, обрамленное волнистым кантом из крупных камней.
На запад к Джугджуру уходят пологие гребни, немые, лишенные всяких
следов растительности. Там только камень, лишайники, да разве изредка
попадается на глаза след снежного барана, торопливо пробежавшего через
мертвое пространство гор. Где-то далеко стороной обходит эти каменные навалы
и человек.
-- Звери, видишь?.. -- шепчет старик, когда мы оказались у края ущелья.
Я смотрю на противоположный склон, куда он показывает рукою, замечаю
четыре движущиеся точки. Навожу бинокль. Это старые рогачи: толстые,
крупные.
Бараны выбегают на верх гребня. Мы видим, как они с остервенением
разгребают дресву, падают в лунки и беспрерывно машут рогастыми головами,
отбиваясь от мошки.
Они находятся на недоступном даже для моего «Маузера» расстоянии. Нам
остается ждать, что будет дальше.
Нет, их не спасает вершина. И там мошка. Животные не выдерживают,
вскакивают, меняются лунками, но все напрасно. И вот впервые я вижу, как эти
важные самцы, не очень-то с виду поворотливые, начинают забавный танец:
подпрыгивают все разом, трясут шубами, трутся друг о друга, то вдруг
разбегаются и начинают чесать лбы о камни. Но и это не помогает. И мы видим,
как они стремительно несутся обратно вниз, скачут с уступа на уступ, точно
заводные игрушки.
Попав на первую поляну, животные начинают кормиться.
-- Надо идти, сами звери к нам не придут, -- и я набрасываю "а плечи
рюкзак.
-- Хорошо, ты зайдешь снизу, а я сверху. Только те торопись, лучше
смотри, -- напутствует меня Улукиткан, и мы расходимся.
Спускаюсь с Бойкой длинным гребнем в ущелье, к узкому месту. Под ногами
стучат камни, но я знаю -- бараны не боятся этого звука. Важно не попасться
им на глаза.
На дне ущелья набредаю на лужайку. Летом на ней были цветы, а сейчас
все завяли. На этой высоте их рано губят заморозки. Только мелкая травка
зеленеет, прикрывая густым ворсом влажную почву. Вода в ручейке чистая, хочу
напиться, припадаю губами к ледяной струе, слышу -- близко стук камней.
Бойка делает отчаянный прыжок вперед. Я вскакиваю. Руки машинально
сбрасывают с плеча карабин, и мы с собакой выбегаем на ближний пригорок.
От нас удирает большое стадо снежных баранов. В паническом страхе они
разбиваются на мелкие группы, скачут через низкорослые стланики, выносятся к
каменистому склону. В стаде только самки с малышами. Я не стреляю, но сошки
и карабин наготове.
Животные быстро уходят за дистанцию выстрела. У скал они снова
сбиваются в одно плотное стадо и, не торопясь, все чаще останавливаясь,
начинают подниматься по прилавкам на верх гольца.
После такого шума, что наделало стадо, удирая от нас, ничего было и
думать об удачной охоте.
Полдень. Идем, не таясь, по опустевшему ущелью навстречу Улукиткану.
Преодолеваем морену. За ней озерко. Бойка вдруг останавливается,
встревоженно вертит головою.
-- Тут теперь днем с огнем не найдешь зверя. Пошли! -- говорю я ей.
Но Бойка выскакивает вперед и энергично тащит меня влево. Я пытаюсь
удержать ее. Сбрасываю с плеча карабин. Быстрым взглядом окидываю местность
-- ничего нигде нет.
Бойка тянет меня вперед. Губы у нее дрожат, уши от напряжения почти
сходятся остриями -- значит, близко зверь. Еще раз осматриваю карабин,
откидываю лапку предохранителя.
Бойка ступает осторожно, не натягивая поводок, выводит меня на
каменистый пригорок и там замирает. Подаюсь вперед и вижу: метрах в тридцати
от нас, посредине поляны, на пышном ягеле спит крупный баран. Не помню
случая, чтобы человек мог так близко подойти к спящему зверю. Я быстро
ставлю сошки, кладу на них ствол карабина. И вдруг заколебался: не велика
честь убить сонного зверя!
Я легонько свищу, но -- никакого впечатления. Свищу сильнее -- то же
самое. Не мертвый ли он? Нет, у него поза спящего животного. Толкаю ногою
камень, и стук мгновенно пробуждает зверя. Он вскакивает, точно сорвавшаяся
пружина, бросается по стланику, быстро уходит. Но на россыпи его настигает
пуля.
Я иду к нему, все еще озадаченный странным поведением зверя. Он лежит
на россыпи без признаков жизни, с кровавой слезинкой в глазу, поджав под
себя, как в беге, задние ноги и отбросив далеко передние. Это очень крупный
экземпляр снежного барана. Но у него на голове вместо рогов торчат только
толстые обрубки и во всю спину, от шеи до хвоста, тянется широким черным
ремнем давно заживший шрам.
-- Хорошо скрадал, я видел, -- слышу голос Улукиткана.
Старик появляется из стланиковых зарослей. По привычке хочет ощупать
зверя, но вдруг замечает уродливую голову животного, и на его лице
появляется удивление. Он пригибается, внимательно осматривает голову барана,
находит какие-то бугорки, метки, неровности, затем переходит к бокам и
спине: Больше всего его удивляют рога.
Внешняя роговая оболочка рога снежного барана у основания не очень
толстая, но прочно держится на мощных костяных стержнях, слитых с лобовой
частью головы. Разъединить их силой очень трудно. Эти рога выдерживают
чудовищные удары. Если бы барану пришлось сделать прыжок со скалы вниз и
упасть с трехметровой высоты на рога всей своей стокилограммовой тяжестью,
то они остались бы целыми. Какая же сила сломала рога у этого барана, и как
могло получиться, что он остался жив?
Вижу, лицо Улукиткана озаряет догадка.
-- Баран раньше долго болел, видишь, тут у него кость ломалась, потом
криво срослась, -- говорит он, показывая на правую заднюю ногу. -- Глаза
нет, на спине шрам без шерсти и рога сломаны -- высоко падал, шибко высоко.
-- Ты думаешь, он сорвался со скалы? -- спрашиваю я.
-- Однако, его другой баран столкнул в пропасть. Это было поздно
осенью, когда бараны дерутся за самок, -- поясняет он и, достав нож,
готовится свежевать зверя.
-- Как ты догадался? -- спрашиваю я.
-- Разве не видишь, что шрам на спине черный, без шерсти, -- долго
заживал на холоде.
Мы молча занялись добычей. Когда я сам свежую зверя, мне определенно
недостает, по меньшей мере, трех рук. Старику же хватает своих, и только
разве зубы иногда помогают оттягивать шкуру. К тому же он, как и в этот раз,
успевает еще и что-то рассказать.
Я очень люблю его рассказы. В них непременно находишь что-то новое,
значительное для себя. И всегда удивляешься, откуда у старика такая память.
Сегодня, свежуя зверя, он рассказывает мне про любовную пору снежных
баранов. Как наяву, передо мною возникают вершины заснеженных гор, подбитых
снизу туманом и погруженных в густой предутренний сумрак. Ледяной ветер,
вестник пурги, рыщет спозаранку по провалам. Мириады звезд доживают
последний час.
Узким гребнем торопливо идет по снегу крупный баран. Рогастая голова
приподнята. Зверь весь насторожен. Чуть где стукнет или донесется какой-то
шорох, баран замирает, долго стоит, пытаясь разгадать, что это за звук? Он
много дней ничего не ел, потерял обычную осторожность, гонит его брачный
инстинкт по скалистым отрогам в поисках самки.
Вот он сквозь сумрак видит впереди знакомый контур цирка. Какой-то
резкий стук заставляет его содрогнуться. Баран бросается по гребню, минует
седловину, взбирается по карнизам выше и выше. Дикая сила выносит самца на
верх скалы, и там он замирает. Беспокойными глазами прощупывает темное
пространство. Долго стоит в застывшей тишине.
С востока голубоватый свет утра выхватывает лохматый край скалы. С неба
на землю падают смежные вихри. И вдруг шорох, кто-то пошевелился на соседнем
выступе, кажется, самки. С диким стоном баран бросается к ним. Не щадит себя
в прыжках, торопится. Вот он уже на выступе, но там его поджидает соперник.
Бараны с разбегу налетают друг на друга, бьются лбами, свирепеют. Из
открытых ртов вырываются клубы горячего пара, окутывая морды дерущихся. Стон
и стук рогов сливаются с гулом скатывающихся в пропасть камней.
Уже рассвет. Самки терпеливо ждут конца поединка. Наш баран, утомленный
длительными переходами, сдает. Противник оказался сильнее, опытнее, все
яростнее нападает, теснит соперника к обрыву. А тот потерял разбег, ослабли
удары, могучие же рога, приспособленные к нападению, оказались беспомощными
при обороне. На него обрушиваются удары один за другим, все чаще, все
сильнее. Пробудились скалы, опаленные восходом, завыла пурга. От последнего
удара баран срывается со скалы, бесформенной глыбой летит в пропасть.
Падая, баран бился о карнизы скал, сломал рога, ногу, несколько ребер,
стесал лобную кость над правым глазом, глубокая борозда разрезала его спину.
Но эти удары о гранитные выступы задержали падение, и, вероятно, под скалою,
куда он свалился, лежал глубокий снег -- это и спасло барана.
Он не погиб. Долго приходил в себя. Затем сполз под навес соседней
скалы или спустился к границе леса и там провел тяжелую зиму. Раны заживали
болезненно, долго. Хорошо, что у него с осени был большой запас жира, -- он
не погиб от голода. Весну баран встретил на ногах. Ранняя зелень на
солнцепеках и ягель на обдуваемых ветром склонах помогли быстро восстановить
силы. Животное вернулось к жизни, но с обрубками рогов, хромым, окосевшим на
один глаз и глухим...
-- Смотри, добра сколько, -- говорит Улукиткан, показывая на
внутренности барана, залитые жиром. -- Только калека бывает такой жирный.
-- Это почему же?
-- Ты что, не знаешь? С табуном этот баран ходить не могу -- хромой и
глухой; такой зверь живет все лето одно место, только кушай да спи, вот и
жирный. Так бывает и с сохатым и с сокжоем.
Мы складываем мясо под плиту, заваливаем ветками. Завтра придет за ним
старик на оленях. Я кладу к себе в рюкзак переднюю лопатку и кусок мяса,
успевшего сжариться, пока мы управлялись с тушей.
IV. Гроза в горах. На Саге не гаснет свет. Мы торопимся на помощь.
Крик воронов. Прощайте, горы!
Улукиткан с великим трудом поднимается на отрог. Он совсем размяк,
точно у него не осталось ни мышц, ни костей.
-- Худо старость, совсем худо, -- с горечью говорит он, приседая на
камень. -- Давно пора уходить...
-- Куда уходить?
-- К предкам. Кончать надо с тайгою. Без ног невесело тут.
-- Не торопись. Зимою отправим на курорт, там подлечишь свои ноги,
желудок. Будешь как молодой.
-- Нет! Если старый олень даже три раза в году будет линять, все равно
молодым не станет.
-- Ты же знаешь, какой сильный человек -- доктор!
-- Сильный, это правда. Да. однако, старость сильнее его.
Воздух неподвижен и тяжел. Стало трудно дышать. -- Гроза будет, --
говорит Улукиткан, со страхом поглядывая на синеватое облако, показавшееся
из-за южных хребтов. Небо помутнело. Вокруг солнца появился фиолетовый круг.
-- Ты же обещал хороший день, а видишь, что делается на небе? Если все
это к ненастью -- может сорваться работа, -- говорю я не без тревоги.
-- Утром я не ошибался, не должно быть дождя, да, видно, небо решило
иначе. Еще послушай старика: если дождь придет в ночь, то выпадет снег.
Вместе выходим на перевал. И с запада, из-за Джугджура, выползла туча,
ее белизна слепит глаза. Еще больше потускнело небо...
Уже два часа, скоро время наблюдений, а я еще далеко от пункта. На
седловине мы расходимся со стариком, он направляется в лагерь, а я иду
гребнем на вершину, к Михаилу Михайловичу. Так ближе.
Отрог, по которому я поднимаюсь на вершину, к пункту, завален крупными
обломками, кое-где торчат скалы. Тороплюсь, иду наперегонки со временем.
Проклятый рюкзак, я слишком пожадничал, взял много мяса, вот и не могу
отдышаться на крутом подъеме. Как на грех, внезапно налетает сильный ветер.
Тороплюсь. С трудом карабкаюсь по шатким камням. Но уже близка вершина.
На пункте меня давно заметили. Там двое. Кажется, Нина.
-- Скорее идите сюда! У Трофима горит свет, -- кричит она,
обрадованная. -- Мы ему сообщили, что я здесь!
-- Вот и хорошо, -- отвечаю я. -- Дьявол меня дернул пойти по гребню да
еще с грузом, -- и я, собрав остатки сил, схватился руками за последний
выступ.
-- Тебя, кажется, с полем, дружище?! -- кричит Михаил Михайлович,
помогая мне выбраться на площадку.
-- Иди ты к бесу со своим полем -- я еле ноги волочу.
Он бесцеремонно стаскивает с меня рюкзак, развязывает, достает жареный
кусок мяса, отщипывает край, угощает Нину, отщипывает себе и аппетитно жует.
-- Надо было больше поджарить, -- с усмешкой кольнул Михаил Михайлович.
-- Это вместо благодарности? Нина, проследи-ка, чтобы он не слишком
распускал аппетит.
Нина смеется.
-- Как думаешь, Миша, тучи не помешают? Посмотри, как раздуло их.
Его рот занят, и он неопределенно мычит.
С севера продолжает набегать холодными порывами ветер. Черно-лиловые
тучи, соединившись, захватили полнеба к северо-западу от нас. Под их темным
сводом блекнут в сумрачной синеве далекие хребты. Воздух сух. Солнце еще
удерживает за собой узкую полоску у горизонта.
-- Чувствуешь, Миша, зимой веет с севера. Надо поскорее убираться
отсюда, выпадет снег, не ахти как уютно будет тут, в поднебесье!
-- Сегодня закончим, нам ведь нужна одна ночь. А тучи пройдут, с севера
они обычно не задерживаются.
-- Хорошо, что ты так уверен, -- успокаиваюсь я.
Перед нами горы, залитые солнцем. Их западные гребни, урезанные
сумрачными тенями, кажутся отвесными стенами. А ниже, куда веками стекаются
камни, виднеются исполинские осыпи, и кое-где бродит по щелям холодный
туман. Далеко направо, ближе к Охотскому морю, вздымается голец Сага, весь
испещренный черными впадинами. На его тупом конусе виден солнечный зайчик --
это Трофим дает отраженный солнечный свет зеркалами гелиотропа. Такие же
светящиеся зайчики видны еще на трех господствующих вершинах, расположенных
южнее и севернее, на расстоянии 25 -- 40 километров от нас.
Остается с полчаса времени до того, как прекратятся дневные колебания
воздуха, влияющие на точность наблюдений. Мы терпеливо ждем.
-- Ты бы хотела теперь поехать в Баку? -- спрашиваю я Нину, намеренно
стараясь увести ее в прошлое.
-- Непременно съездим с Трофимом. Об этом я часто думаю. Теперь там уже
нет ни тех подвалов, ни карьеров, ни Хлюста... Да и о нас забыли, как о
прошлогоднем ветре. И все же интересно будет увидеть знакомые места,
взглянуть на них другими глазами.
-- Когда мы работали в Дашкесане, я как-то привел Трофима в милицию с
крадеными часами. Следователь упорно расспрашивал о каком-то беспризорнике,
Ермаке, которого они усиленно тогда разыскивали.
Нина встрепенулась.
-- Ермак?.. Его давно нет в живых, он умер и для нас, и для милиции, --
и на ее лицо легла грусть воспоминаний.
-- Кто же он был?
-- Хороший парень, а для тех, кто его искал, -- главарь беспризорников.
-- А ты сожалеешь о том времени?
-- Я о нем теперь редко вспоминаю. То были другие, трудные, годы.
Важно, что мы с Трофимом пережили бурю, вернулись к жизни, нашли новых
друзей и еще будем с ним счастливы. Но нам нелегко достался этот перелом.
Михаил Михайлович поднимается к инструменту Туча надвигается на нас,
тяжелой глыбой давит на землю. Под нею, в ожидании чего-то недоброго,
распластались огромные каменные кряжи. У дальнего их края, где в темноте
слились тучи с горизонтом, в бликах молний хлещет дождь. Но над нами еще
солнце и лоскут прозрачной синевы.
Даю всем сигнал: «Приступаем к наблюдениям».
Михаил Михайлович быстро диктует отсчеты. Я еле успеваю записывать,
вычислять. На какое-то время мы с ним забываем про погоду, про горы, про
свое существование. И вдруг над нами бездной света разрываются небеса, и,
точно пронзенная разрядами, вздрагивает земля. Откуда-то издалека, снизу,
доносится кудахтающее эхо обвала.
Снова тишина, выжидающая, долгая.
-- Теперь можно и передохнуть, -- говорит Михаил Михайлович, снимая
инструмент и укладывая его в ящик.
Я делаю в журнале последнюю запись. Вот-вот туча накроет закатное
солнце. Даю сигнал на пункты зажечь фонари, и мы все трое сбегаем под
карниз, следим оттуда за страшным небом. Его близость, его неодолимое
молчание вызывают невольную боязнь.
Как жалок и беспомощен ты, человек, перед этой грозной стихией!
Отяжелевшие тучи ползут низко над горами, окутывая землю мазутной
чернотой. От мрака сдвинулись вершины хребтов. Что-то будет -- это ощущение
ни на минуту не покидает нас. И вдруг блеск, почти кровавый, и в то же
мгновение над нами раздается оглушительный удар. Что-то с треском сыплется с
неба и, отдаляясь, где-то в провалах заканчивается глухим аккордом. Снова
рвется небо, опаляя нас ярким светом, еще и еще падает на вершины удар за
ударом. Голец вздрагивает. Нина, бледная, растерянная, прижимается ко мне.
Она впервые видит так близко грозовые тучи, их разгул.
Ливень накрывает вершины крылом. Все крепче дует ветер. Угрожающе
грохочут небеса. Вспышки молний неотделимы от разрядов. Какая сокрушительная
сила в тучах!
Снизу к нам приближается непрерывный шум Резко похолодало. Вместе с
дождем падает на камни град, все гуще, все крупнее. Он налетает шквалами, за
десять минут отбеливает хребты.
Гроза отходит на северо-запад, и оттуда доносится непрерывный рокот
разгневанных туч. Следом уплывает темнота, вместе с ливнем и ветром. Еще
несколько минут, и мы приходим в себя, но ощущение какого-то невероятного
физического напряжения не оставляет.
Солнце, сквозь сизый сумрак, прощальными лучами ласкает исхлестанную
землю. В розовом закатном свете крупные градины сверкают, словно самоцветы.
Куропатка громким криком собирает разбежавшихся птенцов.
Мы покидаем свое убежище, поднимаемся на пирамиду. На западе от
горизонта отдирается плотный войлок облаков.
Нам хорошо видно, как, отступая от нас, тучи наваливаются свинцовой
тяжестью на голец Сага. Бездонную черноту раскалывает молния. Из верхних
слоев облаков она обрушивается на вершину Сага, жалит ее острием, еще и
еще... Кажется, небо там сосредоточило свой главный удар, весь свой гнев!
Мы долго стоим, не в силах оторвать глаз от Саги, от непрерывных
вспышек молнии, сопровождающихся отдаленным гулом.
-- Бедный Трофим, где он спасается сейчас? -- говорит Нина, буквально
потрясенная картиной вечерней грозы.
-- Отсиживается так же, как и мы, под скалою.
Но вот устает и небо. В прорехах туч появляются звезды. За мягкой
чернотою у горизонта блекнут слабые очертания хребтов. Прорезаются дали. К
нам возвращается хорошее настроение.
Осматриваю горизонт. В бинокль отчетливо вижу крощечные светлячки,
точно звездочки, на вершинах гор, где сидят гелиотрописты. Можно наблюдать.
Михаил Михайлович включает свет в инструменте, долго наводит трубу на
далекий огонек на Саге. Я усаживаюсь на свое место с журналом. Видимость
после грозы идеальная, свет фонарей четкий, работается легко. Долго в тиши
ночной слышится наш шепот.
К двенадцати часам заканчиваем последний прием. Минут двадцать уходит
на окончательные подсчеты, и мы крепко жмем друг другу руки -- работа
закончена!
Как-то сразу свалилась с души тревога, что копиласьдолго, пока мы
бродили по этой скучной земле. Мы почувствовали величайшее облегчение --
оттого, что цель, наконец, достигнута и все трудные испытания лета
оправданы.
-- Сейчас буду давать Трофиму сигнал: два длинных, один короткий, --
говорю я, направляя свет фонаря на далекий голец.
-- А что это значит? -- спрашивает Нина.
-- Работа закончена, снимайся с пункта.
-- Значит, послезавтра Трофим будет в лагере?
-- Как поторопится.
Я упорно сигналю, но не получаю ответа. Трофим, вероятно промок,
греется в палатке.
Поворачиваю фонарь поочередно на остальные пункты, мне сразу посылают:
два длинных, один короткий -- значит, поняли. Снова возвращаюсь к Трофиму.
Сигналю долго. Не отвечает. Неужели уснул? Вот ведь досада!
Михаил Михайлович упаковал инструмент, все готово, можно спускаться на
стоянку, но не положено уходить с пункта, не оповестив гелиотропистов об
окончании работы.
-- Ты, Миша, с Ниной спускайся, а я останусь. Свет у Трофима горит,
значит, кто-то есть на гольце. Как примут сигнал, так и я приду. Оставьте
мне свои фуфайки.
Я один на этой высоте, под звездным небом. Глаза с трудом различают
силуэты уснувших гор. И среди них, на самой далекой -- Саге, сиротливо
мерцает огонек фонаря. Я не свожу с него глаз. Сигналю долго, пока не устает
рука. А потом впадаю в раздумье. Что это значит? Трофим, при всех
обстоятельствах, не мог проспать Разве, узнав, что Нина тут, оставил за себя
Фильку, а сам ушел? А Филька уснул без привычки. Ну что ж, посигналю еще,
проснется же он, окаянный, не век же будет спать. И я продолжаю сигналить.
Усталость настойчиво напоминает о себе. Мысли о молнии над Сагой все
больше беспокоят меня. Нет, Трофим не мог уйти с пункта -- это не в его
натуре. Уснул и он.
Жуткий холод. Я еще сигналю, жду ответа Видимо, придется задержаться до
утра Невесело одному ночью над пропастью, рядом со звездами. Начинаю
мерзнуть. Гашу свет, разуваюсь, натягиваю рукава телогрейки Михайла
Михайловича на ноги, закутываю их в полы, а телогрейку Нины кладу под бок.
Все время дрожу. В полузабытьи вижу темную синеву неба, силуэты гор и огонек
на далеком гольце.
Не знаю, что разбудило меня. Открываю глаза. Из туманной мглы,
прикрывшей горы, поднимаются конусы вершин, освещенные солнцем. Туман
бугрист, неподвижен, точно зимняя тундра после пурги. Я хватаю бинокль,
навожу его на Сагу.
На пункте свет, но очень слабый. Видимо, питание уже иссякает. Неужели
оба спят? Не может быть! Усиливаю свет в своем фонаре, начинаю энергично
сигналить Никакого ответа. Теперь ясно, Трофима там нет. Ругаю Фильку.
Окаянный, уснул на дежурстве!
Что же делать? До пункта по прямой километров сорок будет. Кричи,
свисти, стреляй, все равно не услышит. Придется ждать, когда он проснется. А
пока что надо сигналить и сигналить.
Глаза слепит низкое солнце. Устанавливаю гелиотроп. Не знаю, какое
наказание придумать Фильке?
Вижу, из ущелья, по которому мы шли сюда, черными клубами поднимается
дым -- горит тайга. Пожар одновременно вспыхнул и где-то за Маей, в створе
на голец Сага. Это вечерняя гроза разбросала огонь.
-- Ты все еще сигналишь? -- слышу снизу голос Михаила Михайловича.
-- Как видишь. Чертов Филька уснул!
-- Фонарь у него горит?
-- Чуть-чуть. Надо поставить инструмент, посмотреть, что там делается,
в бинокль плохо видно.
Мы быстро распаковываем ящик, устанавливаем на туре теодолит. В трубу я
вижу силуэт пирамиды, с крошечной световой точкой в средине, а ниже, у
скального прилавка, палатку. Больше ничего нельзя рассмотреть.
-- А ведь мы видим не палатку, а какой-то лоскут, -- и Михаил
Михайлович поворачивается ко мне, -- что бы это значило?
Я снова припадаю к окуляру, смотрю.
-- Ты прав -- это не палатка. Не случилась ли какая беда?
И вдруг точно в яви вижу, как из глубины расколовшейся тучи молния
жалит вершину Сага. Только теперь вспоминаю, что Филька никогда не был
гелиотропистом, не знает правил подачи света и что Трофим при любых
обстоятельствах не мог оставить его на пункте.
-- Неужели гроза?.. -- обращаюсь я к Михаилу Михайловичу.
Он сдвинул плечи.
-- Прежде всего, ни слова Нине, -- говорю я. -- Она не должна ни о чем
догадываться. И второе: если не погасят свет, нам надо немедленно идти на
Сагу.
-- Подайте руку! -- слышится из-за скалы звонкий голос Нины.
С ней рабочий.
Я помогаю ей взобраться на пирамиду. Нина не может отдышаться, не может
насладиться горами, облитыми утренним солнцем, довольная, точно перед нею
открывается вход в мир, где сбываются человеческие желания.
-- Трофим уже ушел с пункта? -- спрашивает она.
-- Давно. Теперь уж он на Мае.
Мы с Михаилом Михайловичем молча упаковываем инструмент, пристраиваем к
большому ящику носилки, собираем остальное имущество. Я не могу привести в
порядок свои мысли. Черт знает что лезет в голову!
-- Вижу палатку, а вы сказали, давно ушел, -- говорит Нина,
примостившись с биноклем у перила.
-- Видимо, задержался.
-- Почему?
-- Вот уж не могу сказать.
-- Странно... Работу закончили еще ночью, чего же он задерживается?
Может, заболел или что случилось? -- говорит она, и с ее раскрасневшегося
лица вмиг слетает беспечность.
-- Зря, Нина, волнуешься. Ничего не случилось Вероятно, какая-то
доделка осталась на пункте, -- убеждаю я ее, а сам досадую: как неосторожно
мы поступили, не убрав бинокль.
-- Давайте установим гелиотроп, выясним, в чем дело, -- настаивает она.
-- Трофима может и не быть на пункте, будем сигналить весь день и без
толку.
-- Вы что-то скрываете от меня. Я не уйду, останусь с биноклем здесь,
пока Трофим не снимет палатку, -- говорит она твердо, тоном созревшего
решения.
Мы теряемся. Не знаем, как успокоить ее, увести с вершины.
Я последний раз смотрю в бинокль на Сагу -- свет все еще горит, но уже
совсем слабо. Теперь мы должны спешить к Трофиму.
Неожиданно ветер выносит из ущелья едкий дым лесного пожара -- уже
подбирающегося к верхнему краю растительности. Из-за ближнего гребня
вырываются бешеные языки пламени вместе со столбами дыма и удушливым газом.
Потемневшее пространство, как при солнечном затмении, быстро заполняется
смрадом.
-- Бежим! Иначе огонь отрежет нас! -- кричу я, точно рядом смертельная
опасность.
Слово «бежим» действует на всех магически. Мы с Михаилом Михайловичем
впрягаемся в носилки с инструментом, рабочий накидывает на плечо рюкзак с
мелочью, хватает ящик с трубою, бросается следом за нами, вниз.
Под ногами гремит россыпь.
Спешим. На крутых местах сползаем где как можно: на спине, боком,
оберегая инструмент от ударов и все время поглядывая вверх -- там осталась
Нина. На нее не подействовала психическая атака.
-- Надо подождать, -- предлагаю я, и мы усаживаемся на камнях.
-- Она догадалась, что на Саге что-то случилось, и теперь, конечно, от
нас не отстанет, -- говорит Михаил Михайлович, поглядывая на вершину.
-- Придется брать с собою. Ты поговори с ней, придумай что-нибудь,
почему мы туда идем.
Сидим с полчаса. Я уже хотел вернуться, как из-за скалы показывается
Нина. Она быстро спускается по россыпи, торопится. Вся захвачена тревогой.
Нижняя губа прикушена, на щеках пятна. Подойдя к нам, она бесцельно трогает
рукою волосы, хочет что-то сказать, но удушье перехватывает горло.
Беспомощно опускается она на камень, роняет голову на сложенные ладони.
-- Нина, неужели ты думаешь, с Трофимом что-то случилось? Глупость,
выбрось из головы эту чепуху. Мало ли что могло задержать его, так уж и
плакать, -- говорит Михаил Михайлович, подсаживаясь к ней и дружески обнимая
ее. -- У меня есть предложение: сейчас все трое отправимся к Трофиму. Работы
у нас закончены, и мы можем позволить себе такую роскошь.
Нина отнимает руки от мокрого лица: кивает утвердительно головой и
доверчиво смотрит на Михаила Михайловича.
-- Давайте поторопимся, -- обрадованно говорит он, и мы спускаемся к
стоянке.
Небо густо залохматилось багровыми тучами. В отдалении гремит гром.
Крупные капли дождя звонко падают на камни. Пока я собираю котомки, Михаил
Михайлович дает последние распоряжения своему помощнику и Улукиткану. Они
переждут здесь пожар, свернут лагерь и с инструментом, с имуществом
спустятся на Маю.
-- Куда идете, там пожар, -- протестует Улукиткан.
-- Может пройдем, ждать неохота, -- отвечаю я как можно спокойнее.
-- Сумасшедший, разве не знаешь -- огонь слишком опасный, сгоришь. Не
ходи! -- серьезно беспокоится старик.
-- Если не пройдем, вернемся, -- успокаиваю я проводника.
Улукиткан не понимает, что за спешка, провожает нас до крутого спуска.
Я отстаю и, прощаясь, говорю ему тихо:
-- Вчера вечером была сильная гроза на гольце Сага. Трофим ни ночью, ни
утром не ответил на наш сигнал и не потушил фонарь. Идем к нему, может, беда
случилась, понимаешь?
-- А-а... -- Он кивает утвердительно головою. -- Гроза в горах шибко
опасно. Тогда иди, да смотри хорошо, не пропали бы сами тут в пожаре. -- Он
долго стоит на бровке, машет рукою, пока я не скрываюсь за изломом.
Дождь не перестает. У меня в одной руке ломоть лепешки, в другой кусок
баранины -- завтракаю на ходу. Из головы не выходит Сага с затухающим
огоньком и лоскутом от палатки. Что могло случиться там?
Скатываемся в ущелье. Пожаром охвачена старая гарь до верхней границы.
Приглушенный дождем огонь уполз под валежник, в дупла, зарылся в торф. Но
ниже, где скучились скелеты давно погибших лиственниц, бушует пламя,
взвихриваясь высоко в небо вместе с черным дымом. Зарождающийся в пожаре
ветер с гулом выносит из ущелья накалившийся воздух с искрами и пеплом.
Нечем дышать. Жарко. Глаза разъедает дым. Мы пробиваемся вдоль ручья.
Нина не отстает.
Вот и живая тайга. Вольным прибоем шумит она по ветру. Пожар обшарил
закрайки, но вглубь не пошел. Нас встречает обрадованная Бойка, проскочившая
вперед. Мы задерживаемся на минуту, глотаем свежий воздух и, не затевая
разговора, торопимся дальше. Еле заметная тропка заманивает нас в глубину
леса, змеей вьется между камней, валежником, перескакивает то на правый, то
на левый берег ручья.
В лесу темно и сыро. Ветер срывает последнюю листву, с воем ломит
исхлестанные вершины лиственниц, заглушает бурный бег набухшего ручья.
Сквозь мутные полосы дождя видно, как копится у померкших от туч гребней
белый туман, как расстилается он по кремнистым склонам. Где-то, совсем в
отдалении, глохнет гроза.
Дождь сразу прекратился. Мы шагаем хлестко. Бурелом, колодник, рытвины,
камни, ключи -- все сглаживается в быстроте. Нина отстает, жалуется на ноги.
Когда мы теряем ее из виду, она пугливо кричит, просит задержаться, но мы
молча бежим дальше. Боязнь остаться одной в этой жуткой тишине оголенного
леса придает ей силы, гонит следом за нами.
Вот и край ущелья. За сквозными просветами леса высятся знакомые
левобережные хребты, и над ними, точно во хмелю, бродит облако. Утесы
сжимаются, внезапно падают. Стеной обрывается и лес. За дымчатыми тальниками
нас встречает разгневанная Мая.
Нина приходит к берегу позже, совершенно разбитая, еле передвигает
ноги.
-- Вы обманываете меня, -- начинает она дрогнувшим голосом. -- Скажите,
что случилось с Трофимом? Вы знаете.
-- Нина, милая, клянусь, мы ничего не знаем. Мы так же, как и ты,
встревожены тем, что он не снялся с гольца. Не надо никаких предположений.
Мы торопимся к нему, ты должна понять и простить нам нашу грубость и спешку.
Она хочет сесть, но мы уговариваем ее идти в лагерь.
Мая бушует полноводьем. Дожди растревожили реку, уже уснувшую в осеннем
покое. В диком разбеге гремит и плещется она в пологих берегах, вырвавшись
из теснины, гонит табуны мутных волн.
Как будем добираться до поворота на Сагу? Сейчас ни на оленях, ни
пешком не дойти. Только на лодке с шестами. Но в такую большую воду плыть --
это безумство. Однако надо плыть, любой ценою, не задумываясь и не
рассуждая.
У переправы я стреляю из карабина, вызываю лодку. Минуты через две
возле лагеря, спрятавшегося от нас за береговыми зарослями, неожиданно
заработал мотор.
-- Что это значит? -- спрашивает Михаил Михайлович.
-- Я не меньше тебя удивлен.
Видим, из-за поворота выносится долбленка с навесным мотором. Она
несется к нам легко и свободно, как птица, подняв высоко нос.
-- Костя! -- кричу я обрадованно, узнав своего шофера Полунина. -- Как
нужен ты нам сейчас!
Он с ходу причаливает к берегу. Я первым вскакиваю в лодку и, не в
силах удержать радость, целую Костю. Тот ошеломлен, никогда же этого не
было! Смотрит на меня, не понимая.
-- Потом все объясню, а сейчас давай в лагерь. Ты как попал сюда на
Маю?
-- Плоткин послал на помощь вам.
-- Молодцы оба!
Лодка разворачивается, и река легко несет нас на своих могучих горбах.
-- Бензин есть, запасной винт, масло? Вот и хорошо. Даю тебе два часа
на сборы, плывем вверх по Мае. У тебя должен быть запас горючего минимум на
сто километров по этой ухабистой дороге. Не забудь захватить на всякий
случай шесты, весла, веревку.
-- По такому половодью не подняться на перекатах, -- робко возражает
он. -- К утру вода спадет, легче пойдем.
-- Никаких разговоров. В час трогаемся, доставишь нас до сворота на
пункт Сага, что километров тридцать отсюда.
Против лагеря река захватила пологий берег вместе с тальником. Лодка
далеко не доходит до берега, и мы бредем по воде.
-- Евтушенко! -- зову я появившегося на косе радиста. -- Корми нас, да
поживее! -- И незаметно для Нины затаскиваю его в палатку, -- Когда у тебя
связь со штабом? А впрочем, не в этом дело. Сейчас же разыщи Плоткина,
достань его из-под земли, пусть немедленно отправит самолет к Саге -- это
главная вершина левобережного хребта, летчик ее легко найдет. И пусть
выяснит -- есть ли на ней живые люди и что там случилось?
-- Беда какая? На Саге ведь Трофим, что. там могло случиться?
-- Вот это-то и надо выяснить. Мы часа полтора отдохнем, пока Полунин
приготовится, и будем пробиваться вверх. Если летчику позволит время, пусть
разыщет нас на реке, сбросит вымпел с результатами. Понял?
-- Ясно. Где же найти Плоткина?
-- Это уж дело радиста.
Нина сидит поодаль от огня одинокая, придавленная тяжелым
предчувствием. Я усаживаюсь на две минуты за дневник. Стоило только взяться
за карандаш, как мысли рассыпались, точно стая птиц перед опасностью.
Записать их почти невозможно. Ограничиваюсь короткими фразами о самом
главном...
К часу мы все на ногах. Забираю у Евтушенко полог и спальный мешок для
Нины, прихватываем с собою брезент, немного продуктов, топор, всякую мелочь.
Проверяю, есть ли у каждого спички, ножи, по куску лепешки. Кормлю Бойку --
и прощаемся с жителями лагеря.
-- Фара есть? -- спрашиваю я Полунина, подумав о том, что, может быть,
придется плыть ночью.
-- Есть, -- и он начинает отталкиваться шестом от берега.
-- И еще один вопрос: ты спал хотя бы одну ночь а последние три дня?
-- Даже больше.
-- Тогда запомни, Костя, пока не доберемся до поворота на Сагу, ты
должен забыть об усталости, о сне и о том, что на реке есть опасности.
Вместо ответа он резко, изо всей силы дернул заводной ремень, и мотор
загудел.
Остается позади, за высокими тальниками, приметная скала у лагеря. Реку
теснят боковые отроги. Выклинивается с двух сторон лес. Мы у ворот, за
которыми начинаются пугающие теснины Маи. Из-за утеса вместе с гулом
выносятся очумелые беляки. Беспорядочными толпами налетают они на долбленку,
силясь опрокинуть ее и отбросить назад. Мотор ревет. Лодка дрожит, взбираясь
на волны. У Кости на руке, сжимающей ручку руля, вздуваются синие вены, и
глаза в испуге ищут проход к бугристому сливу.
За сливом еще теснее.
-- Костя, полный! -- кричу я, как только мотор почему-либо уменьшает
обороты. А когда на быстрине лодка начинает сдавать, мы с Михаилом
Михайловичем хватаем шесты или выскакиваем на берег, тянем долбленку на
веревке. На нас не действует ни угрожающий рев реки, ни ее бешеный разбег,
ни ощетинившиеся скалы.
Какое страшное уныние принесла осень в это дикое ущелье! Ничего не
осталось от скупой зелени. Ледяное дыхание ветра уже сорвало с деревьев
листья, на утесах иссушило траву. Полное запустение. Нет даже комаров. Осень
здесь действительно главный палач природы.
Проходим, хотя и медленно, кривуны. Все устали, промокли, озябли. Где
костер, согреешь ли ты нас когда-нибудь? Но об этом после. Ветер приносит
гул. Все настораживаются. Вижу справа, на лиственнице со сломанной вершиной,
гнездо скопы -- место приметное. Вспоминаю, где-то тут близко опасная
шивера, но из-за скалы ничего не видно.
-- Прижмись к тому берегу! -- кричу я Косте, и лодка послушно
пересекает реку.
За поворотом тиховодина. Дальше ущелье выгибается влево, образуя крутую
шиверу. У самого излома бугрятся лохматые волны, наскакивающие с разбегу на
гранитную скалу. Костя приподнимается и с каким-то безнадежным отчаянием
осматривает шиверу.
-- Не подняться и не обойти, -- говорит он, виновато моргая мокрыми
ресницами.
-- Причаливай к берегу... Нина и ты, Миша, освобождайте лодку,
перебирайтесь через утес, а мы в шиверу.
-- Опасно, мотор не возьмет, -- протестует Полунин.
-- Костя!..
Подбираемся к гулу вдоль тиховодины. Тут лодка идет легко. Проверяю,
хорошо ли привязаны к кокоринам вещи и карабин. Снимаю телогрейку, беру в
руки шест, смачиваю его водою, чтобы руки не скользили. Становлюсь на ноги,
окидываю взглядом поток -- и весь холодею. Поворачиваюсь к Полунину.
-- Страшно?
-- Боязно. Ведь ударит о скалу -- и хана.
-- Попробуй, ударь!.. Слушай, Костя, -- говорю я уже ласково, -- правь
за камень и попробуй подняться у этого берега метров на десять выше, затем
начнешь подаваться на середину реки, за буруны, там легче пойдем. В случае
чего... Нет, никакого случая тут не должно быть! Ты меня понимаешь?
А Костя уже правит лодку за камень, разворачивает ее навстречу потоку.
Мотор ревет. Нос тяжело взгромождается на первый вал, я бью изо всей силы
шестом о дно реки -- и мы за камнем. Слава богу! Костя оглядывается и
бледнеет -- пути отступления отрезаны. Вижу, Нина и Миша с утеса следят за
нашим поединком.
Лодка, добравшись до утеса, начинает медленно отходить к средине
потока, все время держа нос строго против течения. На "ас налетают буруны.
Костя багровеет, теряется.
Я угрожаю ему кулаком, "о это не действует. Кажется, вот сейчас
распахнется бездонная пучина и мы вместе с лодкой, с мотором, со всем зримым
миром провалимся в тартарары.
Но нет! Уже минуем средину реки, еще последний рывок -- и лодка
попадает под защиту огромного обломка. И вдруг мотор сдает на самой
быстрине. Шест не выдерживает нагрузки, лопается. Нас подхватывают буруны,
отбрасывают назад. Мотор беспомощно харчит. Огромная скала, как небо,
вот-вот накроет...
-- Костя, черт, крути! -- и я изо всей силы бью его кулаком по спине.
Мотор вдруг вздрогнул, взревел, лодка рванулась вперед, легко
коснувшись скалы.
Еще несколько минут борьбы с бурунами, я отталкиваюсь от выступа, и
долбленка, нахлебавшись воды, тонет... Но уже на мели. Мы подтаскиваем свое
суденышко к берегу, выливаем воду, спасаем аккумулятор. Снимаем с себя
мокрую одежду. Полунин в страхе косится на шиверу, синеет от мысли, что это
только начало.
-- Тут тебе не за рулем по асфальту, -- говорю я, с трудом шевеля
онемевшим языком.
-- Черту тут не проплыть! -- Он подает мне один конец своих штанов, сам
держит другой, и мы вдвоем крутим их, пока они не сворачиваются в крендель,
тогда начинаем тянуть каждый на себя, выжимая из них воду.
-- Ты, Костя, молодец, честное слово, герой. Наградить не жалко.
-- От одной награды уже ключица не работает, -- говорит он, шевеля
плечами.
-- Уж извини, надо было мне раньше догадаться. А ведь ловко получилось:
от удара ты так тряхнул мотор, что он заработал. Ударь я слабее, нам бы
теперь не нужно было выкручивать штаны.
Я машу своим, все еще наблюдающим за нами с утеса, чтобы они шли
дальше. Минут пять хлопочем у мотора и без препятствий выходим к сливу левым
берегом. Здесь легче.
Нина, Михаил Михайлович и Бойка идут до следующего поворота, там мы их
подбираем. День уходит. Вода в Мае светлеет, река стихает, утомившись в
быстром беге. Мягко дует ветер. Странное ощущение -- ни единого живого
существа, жуткое безлюдье.
Совершенно неожиданно из-за отрога вместе с гулом вырывается самолет.
Заметив нас, он кренится с крыла на крыло, стремительно проносится над нами,
летит дальше, все еще качаясь на крыльях.
-- Костя, причаливай к берегу! -- кричу я.
Там виднеется широкая прогалина. Пока добираемся туда, самолет проходит
высоко над нами в обратном направлении. Мы все выскакиваем на берег, ждем
долго, ждем с великой надеждой, что наконец-то рассеется наша тревога.
Машина где-то в тесном ущелье развернулась и, сваливаясь на нас,
выбрасывает вымпел -- белую ленту с камнем. Все бежим к нему. Самолет уходит
на юг. Я развязываю стянутую тугим узлом записку. Чувствую, как весь
холодею. На бледном лице Нины появляются багровые пятна, сухие губы
нетерпеливо шепчут:
-- Да скорее же развязывайте!
В записке коротко сообщалось:
«На гольце людей нет. Хорошо видел полотнище от сгоревшей палатки и на
земле какие-то обугленные вещи. Больше ничего не заметно. Соболев».
Первым пришел в себя Михаил Михайлович.
-- Уж если бы что случилось с Трофимом, летчик рассмотрел бы, --
говорит он спокойно. -- Видимо, Трофим еще до грозы ушел вниз.
-- Нет, нет, не верю! -- истерично кричит Нина. -- Почему он не
вернулся после грозы, чтобы принять сигнал? -- Она хватает нас за руки,
тащит к лодке, но вдруг останавливается. У нее дрожит подбородок, глаза
мутнеют, косынка сползает на шею. -- Если вам дорог он, -- говорит она,
пересиливая себя, -- вы не должны задерживаться, не надо спать, есть,
откажитесь от всего, пока не увидим Трофима. Умоляю, давайте скорее плыть,
или я уйду сама...
-- Успокойся, Нина, мы ни минуты не задержимся, тем более, что остается
недалеко от сворота.
Мотор работает на полную мощь. Еще преодолеваем опасный перекат,
отнявший у нас много времени. Тут уж поработал моторист!
Последнее небольшое усилие, и мы попадаем на широкую водную гладь.
Костя успокаивается, долго и пристально смотрит мне в глаза. Я улыбаюсь. Он
говорит, кивая на отставший рев бурунов:
-- Тут нам была бы хана, если бы...
-- Если бы что?
-- Если бы я во время не вспомнил про ваш кулак.
Мы прибиваемся к берегу, выливаем из лодки воду.
-- Михаил Михайлович, дайте закурить, -- просит Костя, придавая лицу
неправдоподобное выражение спокойствия.
-- Ты же не куришь!
-- Может, не так страшно будет.
Ущелье тонет в черном бархате ночи. И вдруг свет включенной фары
стегнул бичом по реке, выхватил из темноты утесы. Ночью опасность более
ощутима.
За утесами кривун и впереди, в самой глубине ущелья, видим огонек,
пронизавший мрак ночи.
-- Наши! -- обрадованно кричит Михаил Михаилович.
Да, это наши. Тут, видимо, и поворот на пункт Сага. Неужели здесь нет
Трофима? Боже, что тогда будет с Ниной! Но не нужно отчаиваться. Я верю,
огонек рассеет нашу тревогу.
Свет фары сквозь темноту нащупывает край густого ельника, высунувшегося
из боковой лощины, галечный берег с ершистым наносником. Еще через минуту
видим палатки, плот на воде, и у огня сбившихся в кучу людей. Вот удивлены
они появлением в этих глухих кривунах Маи моторки, да еще ночью!
Лодка вкось пересекает реку. Расстояние до лагеря быстро сокращается.
Фара обливает ярким светом людей, прошивает ельник. Узнаю Фильку,
Пресникова, Бурмакина, Деморчука, двух проводников. Глаза упрямо ищут
Трофима. Почему он не бежит навстречу, как это было всегда? Кажется, у меня
не сердце бьется в груди, а дятел долбит по больному месту.
Нас узнают, улыбаются, "а лицах людей обычное спокойствие, -ни тени
тревоги.
Глохнет мотор, лодка с разбегу вспахивает носом береговую гальку.
Путь окончен.
-- Где Трофим? -- спрашиваю я Фильку.
-- На пункте, -- отвечает тот.
У меня из рук валится шест. Нина всхлипывает. Лица людей вдруг
становятся суровыми. Кто-то шевелит ногой гальку. В наступившей тишине
мерным прибоем стучат о долбленку набегающие волны реки.
Ребята помогают Нине сойти на берег. Вспыхивает подновленный костер. Я
задерживаю Фильку у лодки.
-- Ты почему здесь?
-- Вчера вечером меня отправил сюда Трофим. Иди, говорит, Филька, в
лагерь и следите -- как появится на гольце дым или гелиотроп засветит,
ведите оленей, сниматься будем с пункта. Приказал, чтобы до его прихода плот
был готов. А что случилось?
-- На пункте палатка сгорела, и Трофима там нет с ночи. Куда он мог
уйти?
-- Не должен уйти, нет, нет! -- убеждает меня Филька. -- Разве под
голец спустился, там балаган каюров, и заболел...
-- Да, это может быть.
В лагере тишина, точно в нем ни единой души. Я подхожу к костру.
Ослепительный свет вынуждает меня зажмуриться. После небольшой паузы я
говорю:
-- У Трофима что-то случилось. Он не принял наш сигнал об окончании
работы, и фонарь остался непотушенным. Сегодня к пункту летал самолет, на
гольце никого не оказалось, палатка сгорела. Мы рассчитывали застать Трофима
здесь...
Становится совсем тихо. Потом кто-то загремел чайником, кто-то бросил в
огонь сухие поленья, и к небу поднялся рыжим языком огонь.
-- Не будем гадать, надо идти, -- говорит Пресников. -- Всяко может
случиться: и ногу недолго вывихнуть, и простыть -- небольшая хитрость.
-- Да, да, надо идти, -- зашумели все.
-- Ты, Филька, знаешь тропу? -- спрашиваю я.
-- Не раз топтал ее.
-- Поведешь меня с Михаилом Михайловичем сейчас. А ты, Пресников, с
остальными утром пораньше соберете оленей, возьмете продовольствие, палатки,
постели -- и следом за нами. Понятно?
-- Повторять не надо.
-- Я не останусь здесь, я пойду с вами, -- говорит простуженным голосом
Нина.
-- Хорошо, только не волнуйся и не мучь себя догадками. Трофим в
балагане, и мы к утру будем у него.
Мы ужинаем.
-- Нина, ешь, нельзя голодать, иначе останешься здесь, -- угрожаю я.
А сам чувствую, как тепло костра, разливаясь по телу, отбирает
последние силы. Устали мы. Болят спина, плечи, ноги. Убийственно хочется
уснуть, безразлично где: на острых ребрах камней, на мокрой земле или сидя.
-- Филька, собирайся, да попроворнее. Положи в рюкзак бинты и йод.
Нина сидит у огня сгорбленным комочком, в тяжелом забытьи. Какие
страшные думы гнездятся в ее голове! Как жаль мне тебя, Нина!.. И все-таки я
верю, ты еще будешь счастлива с Трофимом.
Мы уходим сквозь ельник в темную ночь. Впереди Филька. Справа, в
глубокой промоине, мечется ручей. Вверху, в бездонье, мерцают звезды. Ничего
не видно.
Идем по глубокой расщелине на восток, к невидимым вершинам. В этой
ужасающей темноте не нужны глаза, не знаешь, куда ступают ноги.
Передвигаемся с опаской. Все время кажется, что под тобою пропасть. Но надо
идти, идти и идти.
-- Где же Трофим? -- слышу голос Нины, полный отчаяния.
-- Он под гольцом в балагане, -- уверенно говорит Филька. -- Такого
мужика, как Трофим, не то что гроза, а и сам атом не возьмет --
расщепляется. Мы-то ведь знаем его.
Идем, торопимся, еще надеемся встретить Трофима на тропе. Ах, если бы
вот сейчас услышать его шаги или крик о помощи!
Нас накрывает туча. Тьма резко чернеет. Ледяной ветер дует из этой
тьмы. На лицо падают невесомые пушинки снега. Все это обрушивается внезапно,
сразу, Филька ведет нас вслепую. Слышим, как он посохом нащупывает путь, как
его ноги проваливаются в пустоту, ломают кусты. Так темно, что мы не видим
не только тропу, но и друг друга. Небо и земля неразличимы.
-- Давайте дождемся луны, может, посветлеет, -- предлагает проводник.
Идти действительно некуда, мы точно в пустоте. Находим на ощупь под
камнями сухое место, усаживаемся, жмемся друг к другу. Ждем. Ждем долго. С
облаков падает снег. Если бы не этот адский холод!
-- Филька, карауль, как прояснит -- растолкаешь всех, -- говорю я,
вбирая голову в воротник, как черепаха, и засовываю глубоко под телогрейку
закоченевшие руки. Пытаюсь как-то отгородиться от холода, найти такое
положение, при котором можно будет немножко забыться. Но вдруг подумалось: а
что, если за ночь выпадет больше снега и у Трофима нет костра! Сразу мне
вспоминается Джугджурский перевал, где мы замерзали в пургу без огня. Меня
всего потрясает это воспоминание. Я вскакиваю. Разве не величайшее
преступление наша задержка?
-- Братцы, надо идти!
Молча, медленно поднимаются мои спутники. Бойка стряхивает с шубы
мокрый снег. А кругом темная ночь да зловещий шорох выпавшего снега. Шаги
тяжелеют. Все мы чувствуем себя слабыми, беспомощными, среди мрака. Главный
ориентир -- шум ручья. Его я стараюсь держать справа. И важно, чтобы путь
все время шел на подъем...
С востока, из темной бездны, пробивается еле уловимый голубоватый свет.
Отрывается земля от неба. Сквозь дырявую крышу облаков светят далекие
звезды. Снег перестает. Но Филька не может узнать места и сказать, где
тропа.
Усаживаемся на камни, ждем, когда больше посветлеет. Какое
поразительное ощущение всего себя в этой усталости! Болью отзываются все
суставы, каждая мышца и жилочка.
Вот-вот покажется луна. Где-то внизу лениво ворочается ручей. Из
темноты встают одинокие лиственницы, купы высоких ерников, бурые россыпи. И
вдруг тишину потрясает крик совы. Птица, увидев нас, в испуге закачалась в
прозрачном воздухе.
Филька находит тропу. Она вьется по склону, скачет с камня на камень,
приводит нас на дно расщелины и тут исчезает. Встречающий нас ручей побелел
после ночи, точно крутой кипяток. Идем вдоль него. Нам вслед дует холодный
ветер. Воет буран. Упругий ольховник уже весь исхлестан, а мокрая трава не
смеет бороться, лежит, покорно прижавшись к земле.
Расщелина становится все более волнистой. Узкие места перехвачены
россыпями и прорезаны глубокими промоинами. Там, где путь преграждают топкие
мари, мы с содроганием погружаемся по колено в воду, бредем дальше.
Впереди, над черными вершинами гор, полная белая луна впаяна в
смутно-синюю полоску неба.
Неровные шаги людей тревожат тишину ночи.
Перебираемся по камням на левый берег, присаживаемся отдохнуть. Нине
помогаем опуститься на камень. Бедняжка, откуда у нее берутся силы! Она не
жалуется.
Слева, у подножья отрога, бойко закричала кедровка, первая уловившая
признаки рассвета. И тотчас же "а ближней лиственнице зашараборила белка.
Прыгая с сучка на сучок все выше и выше, она торопилась увидеть раньше
других зорьку.
Мы идем все медленнее, все тяжелее. Да, близко рассвет: темнеют деревья
и кусты, горы становятся выше и печальнее. Луна совсем уходит в тучи. Редкий
туман, зарождающийся на дне расщелины, пытается прикрыть жалкую, беспомощную
землю.
Вот и посветлело, иду впереди. Там, где тропа пересекает влажную почву,
я внимательно присматриваюсь к борозде, протоптанной людьми, ищу свежий след
Трофима. Нет, он здесь не проходил. Впереди из-за бокового гребня
высовывается вершина Сага, угрюмая, предательски холодная, вся в снегу.
Еще остается последняя надежда на балаган.
Коварный, медлительный свет озаряет восток. Легкий ветерок несет в
расщелину утро. Низко над горами мчатся тучи, точно полчища раскосмаченных
дьяволов.
Все чаще отрываюсь от своих, бегу вперед. Гонит меня слепое
предчувствие.
Тропа постепенно набирает высоту. Лес редеет, уступая место россыпям и
стланикам. Уже близко подножье Саги. Но нас никто не зовет, не замечает, да
и, судя по поведению Бойки, поблизости никого нет.
Уже давно день, но солнце только что появилось из-за хребта. Тает снег,
бугры румянятся спелой брусникой. Но напрасно пробудившийся ветерок шевелит
жесткую траву, ищет хоть одно живое существо, чтобы оно как-то выразило свой
восторг великому светилу...
Преодолеваем крутой пригорок. За ним, под каменистым склоном,
продолговатая поляна, окруженная стланиковой чащей. В углу стоит заброшенный
балаган с давнишним огнищем. Никого в нем нет, никто не приходил. Меркнет
последняя надежда...
Я никогда не видел на человеческом лице столько скорби и безнадежности,
как у Нины в момент, когда она подходила к пустому балагану. Теперь она
убеждена, что стряслось самое ужасное. Ее охватывает страх. Она не слышит
нас, не верит своим глазам, опускается на четвереньки, лезет под балаган и
руками сумасшедшей ощупывает подстилку, дальние углы... Потом вдруг роняет
голову, прижимается лбом к земле, долго втихомолку плачет...
Никто не пытается поднять ее...
Я не могу ждать. Сбрасываю рюкзак, передаю его Михаилу Михайловичу,
зову Бойку, и мы с "ею отправляемся вперед, на вершину. Мои спутники
остаются с Ниной, они пойдут следом.
Надо торопиться, забыть, что болят спина и ноги. Торопиться, даже если
убежден, что уже непоправимо опоздал.
Тропка круто берет в гору, цепляется за карнизы. На ней никаких свежих
следов. Порывы ветра лохматят стланики. Небо хмурое, вызывающее. Есть ли еще
на земле мрачнее и беднее природа, есть ли более тягостное молчание, чем то,
что сгустилось сейчас над Сагой?
Иду с трудом. Задыхаюсь. Не чувствую ног. Но идти надо, может быть,
Трофим ждет нас. Великие духи, помогите выйти на вершину, не дайте упасть!
Вдруг впереди и где-то далеко правее жалобно завыла Бойка, и я внезапно
весь наполняюсь жгучей болью. Ноги как-то сами по себе, без моего
вмешательства, выносят меня на бровку. Вижу, справа, откуда все еще
доносится безнадежный вой собаки, летит ворон. Не заметив меня, он
усаживается на вершину лиственницы, важный, довольный. Его черный, резкий
силуэт на фоне багровой тучи, в ветреный день, поистине зловещ. Я вскидываю
карабин, подвожу под ворона мушку, руки никогда не были такими уверенными и
твердыми.
Пуля сбрасывает птицу на землю. Грохот выстрела не успевает смолкнуть,
как слышится приглушенный стон оттуда, где только что выла собака. Бегу на
звук сколько есть сил. В голове одна мысль -- успеть бы!
Перебегаю лощину, еще один гребень. Нигде никого. Бегу дальше
косогором.
Что-то краснеет на примятом ягеле. Кровь!.. Останавливаюсь, перевожу
дух, пригибаюсь, рассматриваю. Вот содран лишайник, изломаны низкорослые
рододендроны, вывернуты камни -- кто-то трудно полз, оставляя на земле
кровавые следы. Вижу внизу Бойку. Скатываюсь к ней. Собака подводит меня к
рослому стланику, останавливается, поворачивает ко мне умную морду,
пропускает вперед!
За кустом глаза ловят живой бугорок, прикрытый старенькой одежонкой.
Узнаю истоптанные сапоги, клок волос на голове, овал спины и широкую кисть
правой руки, схватившуюся за ольховник.
-- Трофим! -- кричу я, бросаясь к нему.
Бугорок шевелится, медленно поднимается голова, на изувеченном
страданиями лице ни рябинок, ни старого шрама, все залито сплошной чернотою.
И глаз нет, на меня смотрят белые, мертвые шары
-- Кто тут? -- слабо доносится из открытого рта.
-- Это я. Что случилось с тобой? Молчание.
-- Ты слышишь меня, Трофим?
-- Ударила гроза, там... -- и он силится поднять непослушную руку,
показать скрытую теперь для него в вечной темноте вершину.
Я не знаю, что мне делать. Призываю на помощь все свое мужество, весь
запас спокойствия. Трижды стреляю в воздух из карабина, даю знать своим,
чтобы они торопились. Затем снимаю с себя телогрейку, хочу подложить под
больного. Ощупываю его ноги и не верю себе -- они холодные. Потрясающе
отчетливо и ясно понимаю -- прикасаюсь к омертвевшему телу. В эту минуту,
равную вечности, душа переполняется великим горем и бессилием. Меня
охватывает страх: я ничем не могу помочь.
-- Нина, где Нина? -- слышу тот же далекий голос.
-- Она идет, сейчас будет здесь.
-- Я жду ее. -- И на его лбу появляется скупой, как роса в засуху, пот.
С трудом поворачиваю всего его на спину. Рубашка и брюки спереди
разлезлись, обнажив черное, как и лицо, тело, обгоревшее и сильно
потрескавшееся. Грудь разодрана, вся в кровавых следах от острых камней. Не
знаю, что предпринять. Не могу нащупать пульс через корку обгоревшей кожи...
Куда он, слепой, полз по этому крутому гребню, заваленному угловатыми
камнями, без тропы, истекающий кровью?! Что в думах у него? Или только одно
желание -- еще раз в этой беспокойной жизни встретиться с Ниной. Какая сила
отстраняет от него смерть?!
-- Трофим, потерпи, мы спасем тебя, ты еще будешь жить! -- я повторяю
эти слова, хочу, чтобы он понял.
Он лежит спокойно, без движения. Мне жутко. Я вдруг сознаю, что от меня
уходит самое дорогое, давно ставшее неотъемлемой частью моего
существования...
Со мною нет бинта. Расстегиваю "а шее Трофима воротник, смахиваю
ладонью с холодного лба пот, расчесываю пятернею разлохмаченные длинные
волосы на голове. Его глаза совсем не замечают движения рук над ними,
продолжают смотреть в небо. Легкая желтизна заливает левую щеку, обращенную
ко мне. Я приподнимаю его голову. Нет, не умер. Невероятным усилием он
продолжает жить.
-- Пить... пить... -- шепчут иссохшие губы больного.
Я вскакиваю. Выше, за границей кустарников, виднеется снежное поле.
Бегу туда. Соскребаю пальцами с камня мокрый снег, сжимаю в комок. Тороплюсь
назад.
Трофим слышит приближающиеся шаги, поднимает голову, пытается опереться
на локоть левой руки.
-- Нина? -- В его голосе томительное ожидание.
-- Это я, Трофим. Сейчас напою тебя.
-- Где же Нина? -- Он сразу мякнет.
-- Придет, клянусь, сейчас будет здесь. -- Но мои слова, кажется, не
задевают его слуха.
Я набираю в рот снега, потом припадаю к раскрытым губам Трофима. Он
медленно глотает воду. Хочу положить его голову себе на колени, но вдруг
ясно слышу голос Михаила Михайловича.
-- Угу-гу!
-- Трофим, Нина идет!
Больной оживает, пытается приподняться. Невидящими глазами он шарит по
пространству. Холодеющими пальцами Трофим ловит мою руку, и я чувствую, как
весь он стынет, как невероятным усилием пытается удержать жизнь. Сердца не
слышно. Мне страшно -- он умирает. Я освобождаю руку, обнимаю, целую его
теплые губы. Тут, на губах, еще остатки упрямой жизни, уже вытесненные к
самому краю.
-- Трофим, ты меня слышишь? Нина близко.
Он весь напрягается.
-- Смерть меня подождет! -- чеканит он слова.
Я вскакиваю. Поднимаюсь на гребень. Вижу своих. Они торопятся ко мне.
Впереди бежит Нина. Я ловлю ее, прижимаю к груди.
-- Где он?
-- Трофим умирает, ждет тебя... Наберись мужества, спокойно проводи
его.
Она дико смотрит мне в глаза, вырывается из рук, бежит к лощине.
Я помогаю ей спускаться к стланику. Увидев лежащего на россыпи Трофима,
она останавливается. Какое-то короткое время колеблется, жует пальцы. Затем
медленно опускается на колени, будто врастает в землю.
-- Троша... Что же это!.. -- ее голос обрывается.
Трофим дрожащими пальцами ощупывает ее лицо. Пальцы соскальзывают на
правую щеку, находят знакомый, еле заметный шрам.
-- Вот... и дождался... -- еле слышно выдыхает он
-- Зачем же ты умираешь!.. -- кричит Нина и с рыданием падает на его
грудь.
Из туч блеснули косые лучи солнца. Словно от их прикосновения на лбу у
больного вдруг исчезли мелкие росинки пота, и на лице застыло такое
спокойствие, будто он доволен, что навсегда покидает беспокойный мир.
...Через час мы перенесли покойника вниз на крошечную полянку,
затянутую бледно-желтым ягелем. Филька поднялся на вершину гольца,
посмотреть, не осталось ли там записок Трофима, а мы с Михаилом Михайловичем
должны были готовить могилу.
Нина спустилась позже. Разбитая, в беспросветном отчаянии, она подошла
к Трофиму, опустилась на землю.
Место для могилы выбрали под толстой лиственницей, выросшей на
небольшом пригорке. Руками содрали растительный покров у основания корней.
Затем ножами разрыхлили землю, выбрасывая пригоршнями. Ниже под землей
оказалась мелкая россыпь. Копали, пока не добрались до скалы.
Кто мог подумать, что здесь, в безлюдных горах, найдет себе могилу
Трофим, так страстно любивший жизнь!
Снизу подошел весь отряд. Людям трудно было поверить, что перед ними
лежит мертвый Трофим, бесстрашный человек, которого не могли сломить ни
пороги, ни снежные лавины, ни первобытная тайга, ни поднебесные вершины.
Смерть была бессильна одолеть Трофима в честном поединке: она настигла его
предательским ударом из-за угла.
На его левой руке часы, уцелевшие от грозы и пожара, пережившие
хозяина. Они продолжают отмерять время, уже не нужное Трофиму. Мы не сняли
их, пусть идут с ним в могилу.
Филька ничего не нашел на гольце, все сгорело. Принес только полотнище
от палатки. У кого-то из ребят нашлась пара чистого белья. Когда переодевали
покойника, я снял с его шеи сафьяновую сумочку, завещанную мне еще на Аяне.
Мы завернули его в полотнище, хоронили по-походному, без гроба.
Черные тучи давят на горы. В вышине гудит ветер, точно тысяча арф
провожает Трофима в последний путь. Люди стоят на коленях в печальном
молчании, склонив обнаженные головы. Никто не говорит, не плачет. На суровых
лицах застыла скорбь.
Последней прощается Нина. Молча она опускается на колени, откидывает
край плащ-палатки, прикрывающий лицо Трофима, целует в губы, не уронив ни
единой слезинки. И пока засыпаем могилу, накладываем над нею холмик, она
стоит у изголовья, точно надгробие, измученная, захваченная ужасным чувством
беспредельного одиночества.
-- За что так жестоко!.. -- шепчут ее дрожащие губы.
Потом она опускается "а могилу, припадает грудью к сырой, пахнущей
вечностью земле, и налетевший ветер накрывает холмик густыми прядями ее
волос...
...Пока товарищи будут делать обелиск и оградку, я хочу выйти на
вершину Сага, чтобы один на один разобраться во всем, что случилось. Зову
Бойку. Идем медленно -- некуда торопиться. И как бы ни хмурилось небо, как
бы "и стонал ветер по расщелинам, все это уже, кажется, не трогает, не
касается меня.
У края снежного поля мы садимся отдохнуть. Я достаю из кармана
сафьяновую сумочку. С чувством необъяснимой тревоги раскрываю ее ножом.
Внутри оказывается старенькая-старенькая фотография, бережно завернутая в
восковую бумагу. На меня смотрят два чумазых беспризорника -- Любка и
Трофим. Не могу понять, почему он прятал от меня этот снимок? Заглядываю еще
раз внутрь сумочки, там пусто. Поворачиваю фотографию, и тут приходит
совершенно неожиданный ответ: на обратной стороне снимка детским почерком
нацарапано: «Любка и Ермак». Вот только когда окончательно раскрылся мне
Трофим. Мой дорогой Трофим, переживший свое прошлое, погибший на последнем
перевале к счастливой жизни.
Поднимаемся с Бойкой по снегу, оставляя на его белизне глубокие
вмятины. Падают хребты, шире и дальше уходит горизонт. Сага здесь, в
поднебесье, выше всех соседних гольцов, господствует над обширной горной
страною. Только теперь на ее вершине, как символ победы человека, стоит над
бетонным туром пирамида, отстроенная Трофимом, -- последняя в его жизни. Она
как бы завершает колоссальные работы по созданию карт на большой территории
восточной оконечности материка.
Почему-то вдруг весь этот безлюдный край стал дорог мне. Тяжело
прощаюсь с горами, с дупляными лиственницами, растущими на их склонах, с
крошечными ивками. Больно уходить отсюда еще и потому, что здесь в течение
всех лет было трудно.
Когда мы шли сюда, в этот малоисследованный край, перед нами лежало
будущее, которое нельзя было предугадать. Теперь и оно -- прошлое. С
волнением я смотрю на побежденное пространство и невольно вспоминаю
пережитые невзгоды тяжелого странствования, горькие неудачи, радости. Все
это было!
Много раз наша жизнь висела на волоске, и нас выручали не случайности,
не счастливая судьба, а упрямство и воля к победе. Если мы рисковали, шли
открыто навстречу опасности, не щадя себя, то это мы делали только во имя
цели и долга.
На этой скудной земле мы проверяли и свои чувства. Улукиткан говорил:
«Когда ты хочешь испытать друга, бери с ним котомки, посохи, и отправляйтесь
в далекую дорогу, по самой трудной тропе. Если по пути встретится голод,
болезни, разные неудачи и вы оба дойдете до конца -- верь ему, он твой
друг!» Мы дошли до конца, но не все... Здесь остаются могилы наших друзей,
отдавших жизнь за карту Родины.
Прощайте, горы. Прощай, дорогой Трофим!
1959 -- 1961 гг.

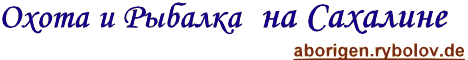 -
-
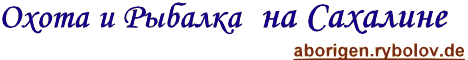 -
- Литературные страницы
Литературные страницы