|
Разделы:
Еще в рубрике:
|
Оценка посетителей сайта: 10.00 (проголосовало: 1)
Версия для печати ---> Версия для печати
Интересно ---> Добавить в «любимые обзоры»
Страницы комментариев: 0 | 1 | 2 | 3
Комментарии
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
19.02.2010 19:52
|
1.
КУЛЬГИН Легенда В нивхских тылгурах герои -- всегда безымянные. То ли потому, что обычай запрещает называть имена людей, которых давно нет, то ли потому, что потомки забыли имена своих предков за давностью лет. Но сегодня я расскажу вам предание о человеке, имя которого не забыли сказители. Это предание о подвигах человека из рода Руй-фингун. И его звали Кульгин. Давно ли жил Кульгин или недавно, но люди Руй-фингун, приехав в селения других родов или принимая гостей у себя, всегда рассказывают о Кульгине, о его подвигах. 1 А жил Кульгин в то время, когда в лесах Ых-мифа было множество зверей и птиц. Так много, что добыча не обходила ни одной ловушки. А в реках было так много рыбы, что её ловили руками. Жили нивхи и горя не знали. Люди добывали зверя и рыбу, все нё были завалены вяленой рыбой и мясом. Но вот однажды осенью на прибрежное стойбище, где жил Кульгин, откуда-то налетело много ворон. Так много, что, когда они взлетали, крыльями закрывали всё небо, и днём становилось темно, как ночью. Налетели вороны на стойбище, стали грабить людей. Сожрали вороны все запасы жителей стойбища и стали нападать на людей. Выйдет человек из жилища по своим нуждам, налетят на него тысячи ворон, выклюют глаза. И уже казалось: нет никакого спасения. Тогда-то люди узнали о своём сородиче Кульгине, который жил, как и все, в стойбище и ничем не отличался от других. В тот день, когда особенно много было ворон, Кульгин шёл из сопок, где ставил ловушки на соболя. Подошёл Кульгин к своему стойбищу, и тут напала на
него большая стая ворон. Стрелял Кульгин в ворон из лука, прострелял все стрелы, убил много ворон, но их в стае не стало меньше. Вернулся Кульгин в тайгу, тем и спасся. Но знал Кульгин: там, в стойбище, люди ждут не дождутся спасения. Выстругал Кульгин стрелы. Выстругал много, взвалил на плечо целую вязанку стрел и пошёл к стойбищу. Не дошёл Кульгин до стойбища -- налетела на него несметная стая ворон. Целый день отстреливался Кульгин, убил сотни ворон, но к вечеру кончились стрелы. А ворон в стае не стало меньше. Бежал Кульгин в тайгу, тем
и спасся. Но вот заметил Кульгин: что-то блестящее и длинное торчит в кустах, выдернул его, стал разглядывать. На одном конце -- удобная ручка, другой конец заострён. Лезвие широкое и острое. Взял Кульгин за ручку, взмахнул и ударил по дереву. Перерубил дерево с одного удара. Кульгин нашёл саблю. "Теперь можно спасти сородичей", -- подумал Кульгин. У стойбища снова налетели на него вороны -- большая стая. Кульгин
отбивался саблей. Взмахнёт раз -- перерубит несколько ворон, взмахнёт второй
раз -- перерубит столько же.
Шесть дней и ночей бился Кульгин с воронами. Горы вороньих трупов
выросли перед ним.
Шесть дней и ночей бился Кульгин с воронами, победил. Те вороны, кого не
задела сабля Кульгина, улетели подальше. Они стали бояться людей.
И даже сегодняшние потомки тех ворон не забыли, как бил их предков
человек по имени Кульгин. Потому и по сей день только человек, увидев ворону, наклонится за палкой
или камнем, сорвётся ворона и в страхе улетит прочь.
2
Живут жители прибрежного стойбища, и не опасаются ворон -- их стало
мало, и они побаиваются даже детей.
Но другая беда пала на людей. Пойдёт охотник в тайгу -- не возвращается.
Находят его мёртвым, с вырванным языком. Перестали люди ходить в тайгу,
боятся. И стойбище стало голодать -- осталось без мяса. И тогда Кульгин один отправился в тайгу, нарубил много дров, развёл
костёр. Потом вырубил чурку. Положил её у костра, сам лёг отдыхать, упираясь
ногами о чурку.
В полночь слышит крик. Такой сильный, что кора на деревьях с треском
отлетает.
Лежит Кульгин, думает: кто это может так кричать?
Прискакала откуда-то белка, вскочила на чурку у ног Кульгина и смотрит
на него маленькими глазками. "Что, белка, -- думает Кульгин, -- наверно, милка испугалась?"
Но тут белка так крикнула, что кора на деревьях отлетела с треском. А
Кульгин только вздрогнул. Понял Кульгин: это таёжный милк -- халу-финг
явился в образе белки. Это он криком своим убивает охотников. Охотники
умирают от разрыва сердца. А милк поедает их языки. Изловчился Кульгин, толкнул чурку ногой. Упала белка в костёр. От милка
только и остался запах палёного.
И опять вернулся Кульгин в стойбище победителем. 3 В голодную пору, когда весна слишком затянулась и у людей не осталось
припасов, выбросило штормом огромного кита. Люди благодарили Тол-ызнга --
хозяина моря -- за такой дар, и каждый ходил к тому киту и вырезал себе сала
и мяса. Но вот пошёл человек к киту и не вернулся. Пошёл второй человек и тоже
не вернулся. Перестали люди ходить за мясом. А в стойбище нет припасов, и
стали жители стойбища голодать. Тогда взял Кульгин саблю и вышел на берег.
Подошёл Кульгин к киту, а из его вырезанного бока выходит медведь.
Выходит медведь из брюха кита, с рёвом бросается на Кульгина. Но Кульгин не
дрогнул, встретил медведя сильным ударом сабли. Ударил медведя саблей, но
отрубил только ухо. Второй раз бросается медведь -- Кульгин отрубил ему
другое ухо. Долго бились Кульгин и медведь, полдня бились. Изрезал Кульгин
медведя-разбойника, изрубил его на куски. Теперь людям ничто не угрожало.
Голод покинул стойбище. А вскоре наступило сытное лето. 4 После удачной зимней охоты два охотника -- один помоложе, другой
постарше -- уехали на лодках к торговым людям. Дал им Кульгин свою саблю --
может, понадобится в дороге. Уехали к торговым людям двое, но вернулся
только один, тот, кто был помоложе. Вернулся охотник от торговых людей,
привёз много товару. Привёз много товару, но привёз и страшную весть. Собрал охотник стариков и рассказал, что случилось в пути.
Выехали они вдвоём из своего стойбища, поплыли вдоль берега. До самой
ночи плыли. И когда пристали к берегу, увидели большой ке-раф. Охотники
вытащили лодки на песок, чтобы не унесло волною, зашли в ке-раф. Он пустой,
а очаг тёплый. "Наверно, хозяева уехали куда-нибудь", -- решили охотники и
развели огонь. Развели огонь, поужинали. Ночью старший видел сон: явился
хозяин и сказал, чтобы люди уходили из этого дома. Проснулись утром охотники, старший за завтраком рассказал о сне. Сказал,
что хозяин-милк грозил прогнать их из своего дома. Сказал и рассмеялся,
показав на саблю и пригрозив: "Пусть только явится, изрублю его на куски".
Тогда младший сказал, что так говорить грех. На это старший ответил, что
младший ничего не понимает и потому пусть лучше молчит. После завтрака охотники спустили лодки на воду, поехали дальше.
Несколько дней они ехали, ночевали на берегу в кустах. И доехали до большого
селения торговых людей. Долго торговались охотники, выторговали всяких
дорогих товаров. Младший ко всему ещё взял в жёны молодую женщину. Ехали охотники домой вдоль берега. И вот доехали до того ке-рафа, где
старший охотник видел сон.
Младший говорит: "Не будем заезжать в этот ке-раф". А старший говорит:
"Идём, переночуем в нём".
Уж так заведено у нивхов: младший слушается старших. Пристали охотники к
берегу, вытащили лодки на песок, чтобы их не унесло волной, и зашли в
ке-раф. Зашли охотники в ке-раф, притронулись к очагу: он тёплый. Старший
сказал: "Наверно, хозяева утром ушли. Приготовим еду, поедим. Переночуем
здесь, а утром поедем домой".
Развели охотники огонь, приготовили еду, поужинали и легли спать.
Младший видит сон. Явился хозяин-милк, говорит: "Уходите из моего
жилища. А то приду, прогоню вас". Проснулся младший, разбудил старшего, рассказал о сне.
А старший повернулся на другой бок, захрапел.
И вот слышит младший: кто-то подходит к ке-рафу, открывает дверь.
Является большой милк. Он говорит: "Я велел вам уходить, вы не ушли". Сказал
так и напал на старшего, который ничему не верил.
А младший схватил свою невесту, выбежал из ке-рафа, спустился к морю,
столкнул лодку и приехал в стойбище. А того охотника милк убил и забрал всё
его добро. Кончил рассказывать охотник, и старики удивляются, качают головами.
А Кульгин задумался. Он знал обоих охотников. Старший был честный и
старательный человек. Младший всегда завидовал удаче других, был жадный и
злой.
Собрал Кульгин стариков, и поехали они к тому ке-рафу. Приехали, зашли в
него. И видят: лежит охотник с отрубленной головой. Лодка его пустая, а в
песке у воды лежит сабля. Вернулись старики и Кульгин в стойбище, стали пытать и охотника и
молодую женщину. Молодая женщина призналась: её взял в жёны старший охотник.
По дороге охотники передрались из-за неё, и младший ударил старшего саблей.
Неслыханный случай возмутил жителей прибрежного стойбища. Они назвали
того охотника милком и наказали его: прогнали из рода.
Тот человек не вынес позора, ушёл из стойбища. 5 Живёт Кульгин. Сородичи благодарят его за подвиги и за то, что он живёт.
Долго не было в стойбище никакой беды. Женился Кульгин, и у него
родились дети -- два сына. Но не дожил Кульгин до седых волос, не пришлось
ему видеть своих детей взрослыми. Случилось так, что в прибрежном стойбище стали пропадать дети. Выйдут на
морской песок поиграть и исчезают.
Тогда Кульгин взял с собой двух своих малых сыновей, позвал
друга-охотника и вышел к морю. Велел детям играть на песке, а друга
попросил, чтобы, когда придёт беда, забрал детей и уходил в стойбище.
Вышли Кульгин с детьми и его друг к морю, дети стали играть на песке, а
взрослые спрятались за кустами. Играют сыновья Кульгина, резвятся, пересыпают сухой песок из ладони в
ладонь, а на мокром песке прутиком рисуют всякие узоры.
И тут в море показалось что-то большое, красное, похожее на морского
льва. Плывёт чудовище к берегу, грудью раздвигает воду, поднимая большие
волны. Выскочил друг Кульгина, забрал детей и спрятал их в кустах.
А Кульгин прыгнул в море, схватился с чудовищем. Поднялась волна, гул
прокатился над побережьем. Бьются Кульгин и чудовище. Видел друг Кульгина,
как мелькала сабля, как рубил Кульгин чудовище -- только раздавались звуки,
будто били скалой о скалу. Вот Кульгин ударил чудовище саблей. Брызнула кровь фонтаном, окрасила
волны. Заревело чудовище, но тут же, изловчившись, отхватило Кульгину левую
руку.
Закричал Кульгин от боли, выскочил из воды по пояс, сильно ударил
саблей. Взвыло чудовище от раны, но опять напало на Кульгина, перегрызло ему
ногу.
Закричал Кульгин от страшной боли, выскочил из воды по колени,
замахнулся и изо всей силы опустил саблю на голову чудовищу. И видел друг
Кульгина: сабля переломилась пополам. На этот раз чудовище не выло и не ревело. Оно рвануло в сторону, подняло
большую волну. Но тут же силы покинули его, и чудовище испустило дух.
Вышел из прибрежных кустов человек и стал звать Кульгина. Долго звал он
храброго человека. Звали своего отца и два его сына. Но лишь окровавленные
волны ещё долго плескались и били о берег.  ----------
<i>Last edit by: aborigen at 12.02.2011 21:29:56</i>
|
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
19.02.2010 19:55
|
2.
ГОЛУБЫЕ ГОРЫДалёкие они, горы Высокие они, горы. Высокие и голубые.
Голубые-преголубые. Ветрами и легендами овеяны они. В молодости мечтал Курлан побывать в тех горах, пройти по их склонам,
подняться на вершины Говорят, вон там, на той двугорбой вершине, что
возвышается сразу же за седлообразным перевалом, -- глубокая расщелина. Из
неё вырывается ветер. Вырывается морозной волной и, радуясь обретенной
свободе, носится по земле, обжигая зверей и людей, угнетая растительность. Курлан подростком потаённо вынашивал дерзкую мечту: вскарабкаться по
крутому склону и скалой заткнуть горло этой зловещей расщелине.
А вон справа от перевала -- плоская гора. Говорят, она потому и плоская,
что на самой вершине -- большое мирное озеро. Озеро то полно всякой рыбы.
Жирные там рыбы, нежные. Каждая порода рыбы раз в год спускается в реки
несметными стаями, чтобы нивху было сытно, чтобы нивх заготовил про запас
юколы себе и собакам. Заготовил побольше: зима длинная, вьюжная. Берега этого озера окаймлены узором из пены. Вы видели нивхских женщин в
национальной одежде -- х'ухте? Так вот: самый красивый орнамент на полах
х'ухта снят с той каймы. Узоры орнамента плавные, волнообразные.
Курлан в юности долго вынашивал мечту побывать в тех горах. Ступив на
охотничью тропу, он иногда порывался пойти вслед мечте. Но дела и заботы
захватывали его, и мечте не оставалось места. Курлан -- отличный охотник. О нём ходит множество легенд. И любил он
такую охоту, которая требовала от человека сноровки, большой воли. Он не
любил охотников ни по боровой, ни по водоплавающей птице. Как-то весной жители всего поселка были свидетелями одного любопытного
разговора. По главной улице возвращался из лесу молодой рыбак Хакун. Через
его плечо тяжело свисали три гуся. Охотник шёл бодро, шёл так, будто не
исходил за день десятки километров. И когда проходил мимо Курлана, его
остановил резкий окрик хозяина: -- Как тебе, здоровенный хор [Хор -- олень, бык-производитель.], не
стыдно уничтожать невинную птицу? Что, по-твоему, она для того и облетела
полсвета, чтобы попасть в твой ненасытный желудок?! Если каждый болван убьёт
по три гуся, то их скоро вовсе не останется на земле. Тоже сыскался охотник!
Храбрец! Нашёл кого расстреливать. Тебе бы ломать хребты медведям. Их в лесу
не меньше, чем собак в нашем селении. Иди, бей их! Парень сник. Он поспешно завернул в переулок и исчез в воротах дома.
Курлану нынче весной стукнуло шестьдесят пять. Несмотря на такой
возраст, он был ещё крепок. Его высокую, редкую для нивхов фигуру не брал
возраст. Он был прямой, как тяжёлая лиственница. Голову держал с лёгким
наклоном к левому плечу. Верхняя губа стянута шрамом, отчего казалось -- с
его лица не сходит кривая усмешка. В прошлое лето он убил сорок восьмого медведя. По селению ходили разговоры, что на этом он бросил опасное занятие. В
подтверждение слухов медвежатник всю осень не выходил на охоту.
Лето нынешнего года началось с того, что высокоудойная корова колхозного
бухгалтера, приехавшего с Украины два года назад, не вернулась в посёлок. На
другой день её нашли в полукилометре от крайнего дома. Тех, кто видел
останки коровы, охватил панический страх. Гонимые ужасом, они прибежали в
посёлок и наперебой стали рассказывать об увиденном. И весь посёлок
направился в лес смотреть следы ночного разбоя. Только Курлан оставался невозмутимым. Когда все всполошились, он вышел
на улицу, протянул между шестами сеть и стал чинить её.
В полдень мимо него проходил Заркун, бригадир рыбаков.
-- Аткычх уже готовится к кетовой путине? -- как бы между прочим спросил
бригадир.
-- Ты что, ослеп? Видишь, горбушечья сеть, -- даже взглядом не удостоив
высокопочтенного человека, бросил старый охотник.
Заркун сел на чурку. Вынул портсигар и протянул старику. Тот молча взял
папироску. Прикурил. Глубоко, с заметным наслаждением затянулся.
-- Знаешь, медведь-то большущий. У меня сапоги сорок третьего размера и
то меньше его следа, -- будто случайную малоинтересную вещь сообщил
бригадир.
-- Ну и что же, мало ли в лесу крупных медведей, -- в тон ему ответил
охотник.
-- А ты знаешь, старики утверждают, что он хромает на левую переднюю
лапу.
И тут безразличие исчезло с лица Курлана.
-- Что ты говоришь? А след-то большой?
-- Я же говорил, больше моих сапог. Папироска задергалась в крючковатых пальцах Курлана. Дым, извиваясь,
потянулся к небу.
-- Вот что, у тебя есть время? -- быстро, будто вспугнутый чем-то,
проговорил Курлан.
-- А что?
-- Сходим туда. Я хочу посмотреть на его следы. Они вышли за посёлок. Прошли невысокие песчаные бугры и вошли в лес.
Старому охотнику не нужно было показывать следов борьбы. Не обратив на них
внимания, он направился дальше.
-- Ты куда?
-- Надо найти следы спокойного хода. А здесь ничего не разберёшь --
следы затоптаны.
Нашли следы, уводящие в глубь леса.
Пристально вглядываясь в них, Курлан ушёл вперёд. Его загипнотизировали
следы разбойника. Он опустился на четвереньки, застыл и стал внимательно
рассматривать отпечатки на влажном песке.
-- Да, это он! Сколько лет его не было в наших краях. А на старости лет
решил вновь встретиться с Курланом.
Это случилось восемь лет назад.
Возвращаясь домой с морского берега, Курлан увидел огромные свежие
следы.
В посёлке охотник узнал, что медведь напал на стадо оленей, которое,
спасаясь от гнуса, вышло на берег залива. Он задрал крупного самца, но не
успел полакомиться -- спугнули. Курлану показали место, где лежал труп оленя. Отчаянию его не было
предела, когда он узнал в нём своего единственного самца, на котором ездил
зимой соболевать. Тогда он мысленно сказал себе: "Ах ты, бандит, вор,
грабитель!" А вслух проговорил: "Как же ты не мог среди огромного стада
поймать другого оленя? У меня он единственный ездовик, мой кормилец. За что
же ты так меня обидел?" И подумал со злой решительностью: погоди же, мы ещё
встретимся. Медведь должен был вернуться к добыче.
И Курлан засветло пришёл на засаду. Место было ровное, вокруг -- ни
дерева. Ближайший кустарник находился шагах в восьмидесяти. Далековато для
ночной засидки. Тогда охотник приволок короткое, но толстое бревно. Оно было
и укрытием и подставкой для стрельбы, Курлан залёг за бревном. Скоро солнце спустилось за горы, окрасив небосклон пылающим огнём,
который быстро угасал. Темнело. Запоздалые кулики торопились к местам
ночлега и, вразнобой вереща, пролетали табунками над головой охотника. В прибрежных кустах замолкли неутомимые певуньи-пташки. Вскоре стали
расплываться бугры. Заря поблекла и потухла. Кривой кровавой саблей месяц
повис над сопкой, подкарауливая кого-то. Наступила ночь.
Потянулись бесконечные минуты. Курлан до боли в глазах всматривался в
темноту. Иногда ему казалось: что-то тёмное движется к нему. Но стоило
напрячь внимание, и пятно исчезало.
Было тихо. Только лёгкий плеск приливной воды да далёкий лай чьей-то
собаки нарушали ночную тишину. Огромная тень оторвалась от бугра и стала быстро приближаться.
Ветер дул от зверя, и он шёл, не чувствуя постороннего запаха. Шёл
крупно, уверенно. В нескольких шагах от оленя он на мгновение остановился и
стал обходить стороной. Медведь заметил посторонний предмет. Что это могло
быть? "Ага! Не выдержал! -- злорадствовал старик. -- Боишься! Обходи, обходи!"
Но медведь не закончил дугу. Шумно втягивая воздух, он напрямик пошёл на
охотника.
"Какой уверенный! Обнюхивает меня, как будто я пень или сгнившее
дерево".
Оскорблённый Курлан направил ружьё в середину квадратной головы. Но
голова у зверя подвижная. Трудно в неё попасть, особенно в темноте. "Я тебе
покажу, как лезть ко мне напрямик!" Курлан нажал на спусковой крючок. Гром
выстрела и рёв раздались одновременно. Вспышка ослепила охотника. Он хотел было вскочить на ноги, но невидимая
масса сшибла его с ног и навалилась всей тяжестью. Острая боль пронзила
левое плечо. Свободной рукой Курлан прикрыл лицо. Правая рука крепко держала
ружьё. Но как направить его в медведя? И Курлан стал водить стволом по
животу зверя, направляя в грудь. Вместе с вспышкой стало легко. Исчезла давящая тяжесть. Руки охотника
пощупали воздух и безжизненно упали.
Когда он пришёл в себя, солнце уже стояло над прибрежными буграми.
Невыносимо болело плечо. Лицо, казалось, было всё в рваных ранах. Левая рука
не двигалась. Он попытался встать, опираясь на ружьё. Надо рассмотреть следы
медведя, чтобы запомнить его, не спутать с другим. С выстрелом медведь
сделал большой прыжок и уткнулся носом в песок. Здесь остались сгустки
крови. Дальше он уходил прыжками, волоча переднюю левую лапу. Курлан изучил и следы подхода. На мизинце правой передней лапы нет
когтя. Очевидно, он потерял его в драке с другими самцами.
Теперь Курлан запомнит этого разбойника навсегда.
Пять месяцев пролежал охотник в районной больнице.
А когда вернулся в родной посёлок, его первым вопросом был:
-- Не убил ли кто того медведя?
-- Нет, никто, -- ответили ему.
Медведь ушёл с косы и больше не появлялся. С тех пор Курлан добыл ещё двадцать медведей. И вот, когда он навсегда
бросил медвежью охоту, его старый враг сам явился к нему
-- Что ты там нашёл? -- спросил Заркун.
И Курлан, помедлив, ответил:
-- Мы с ним уже встречались. Это он восемь лет назад крепко помял меня.
-- Что ты будешь делать?
-- Почему у меня спрашиваешь? -- вдруг разозлился старый охотник. -- Как
будто в посёлке больше некому ходить на медведей. Хотя бы Лозган. Он
удачливый охотник. Или другие старики.
-- Они не пойдут на него. Ты же сам рассказывал об особенностях его
следа. Весь посёлок уже знает, что это он. Ты узнал последний. А остальные
мужчины, ты ведь знаешь, уехали далеко на лов сельди.
-- Ну, тогда ждите, пока он сожрёт всех ваших коров и колхозных лошадей.
-- Хакун пойдёт с тобой.
-- А-а, -- как от мелкой назойливой мухи отмахнулся старик.
Всю обратную дорогу оба молчали. Вернувшись домой, Курлан с невозмутимым видом взялся за сети.
Через два дня нашли растерзанного бычка. Стало ясно, что старый хозяин
тайги потерял способность ловить быстроногих диких животных. На одной ягоде
и муравьях далеко не уедешь. Он и поселился близ человеческого жилья, где
мог без особых усилий ловить неуклюжих домашних животных. В тот вечер Заркун не один час просидел у Курлана. Но и четырёхлитровый
чайник густого терпкого чая не решил вопроса. Проводив гостя до крыльца,
Курлан долго смотрел в густое чёрное небо, будто просил у него помощи. Он вспомнил своего отца, затем отца своего отца. В этих воспоминаниях о
предках старик искал прилива сил. С неба льдинками мерцали ему немые звёзды.
Как Курлан один пойдёт на хитрого зверя? Но слово, данное когда-то
самому себе, не давало старику покоя. Да и весь посёлок ждёт Надеется
Был бы хоть один помощник? Но кто пойдёт на страшного зверя? Если бы все
мужчины были дома, конечно, кто-нибудь решился бы. Старик ссутулился, входя в дверь, хотя в этом не было необходимости.
Он уже стелил постель, когда дверь открылась и на пороге неслышно
появился Хакун.
-- Раз вошёл, проходи и садись. Чая нет. Угощать не буду.
-- Не стоит беспокоиться, дедушка.
-- Так зачем же ты навестил меня так поздно? Что, соскучился по вредному
старику?
-- Не надо так говорить. Однажды осмеяли меня на глазах у всего посёлка,
и хватит.
-- А я ничего ещё не сказал.
-- И не надо говорить. Лучше, дедушка, выслушайте меня. Я знаю, что вы
рассердитесь, и знаю, что вы один не можете идти на охоту. Возьмите меня с
собой. Я стрелять умею. Я никогда не был трусом.
-- Медведь не гусь. И даже не пять гусей. Хакун не охотник. Тем более --
не медвежатник. Медвежатником так просто не станешь.
-- Я же просил не вспоминать о прошлом, -- прервал старика Хакун.
На другое утро все видели, как Курлан и Хакун направились в лес с
ружьями за плечами.
Охотники уже шли полдня, а свежих следов всё не было.
И только к вечеру наконец нашли "тёплые" отпечатки огромных лап. Следы
вели в сторону селения. И прошёл разбойник каких-то полчаса назад.
-- Он, наверное, возвращается к бычку, -- сказал Хакун.
-- Не думаю. Этот хитрец боится засады. Он наверняка задерёт ещё одну
корову.
-- Надо догнать его. Пойдём напрямик к посёлку!
-- Нам не догнать. А если и пойдём по его следу, он может проскочить в
тайгу. И мы не заметим его между буграми. Надо ждать его на перешейке. Там
его и перехватим, когда он будет возвращаться с очередного ужина.
Через час быстрой ходьбы охотники были на перешейке, устеденном низким
кедровым стлаником. Через стланик просматривается далеко. Впереди, в
полукилометре в сторону посёлка, грудятся зелёные бугры; позади в сотне
шагов чернеет роща из лапистой корявой лиственницы. Курлан засел у следа, а
его молодой напарник выбрал место на берегу залива, в сотне шагов от
старика. Солнце уже село за голубые горы, что возвышаются за синим массивом леса.
Небосклон облепили тяжёлыми кровавыми пятнами облака. С залива потянуло
сыростью. От настывшего песка холод проникал в тело и студящими толчками
поднимался вверх по позвоночнику. От долгого сидения в одном положении
затекли ноги и больно ломило спину. Взошла полночная луна. Её серебристый свет резко выделил в ночи
окружающие предметы, и от них упали длинные тени. Курлан несколько раз встряхнулся, изгоняя из тела холод. Вдруг он увидел
приближающееся чёрное пятно. Старое сердце не выдержало. Оно, захлёбываясь,
заторопилось невесть куда. Старик положил горячую руку на холодный металл
ружья. Так он делал всегда, когда хотел успокоить сердце. Но это не помогло.
Чёрное пятно приближалось, угрожающе громадясь и приобретая такую
знакомую старику форму. Курлана бросило в мелкую дрожь. Он с усилием сделал несколько глубоких вдохов. Так он поступал всегда,
когда хотел унять волнение. Но и этот испытанный метод не помог. Волнение не
проходило.
Медведь идёт широким спотыкающимся шагом. Вот уже стали различимы
маленькие уши на большой голове. Несколько раз сверкнули, отражая лунный
свет, глаза. Курлан поднял ружьё. Этого было достаточно, чтобы опытный осторожный
зверь заметил движение и резко остановился.
Оглушающий выстрел прорезал тишину, гулко перекатываясь, пробежал по
отдалённым буграм. Дым густым облаком повис перед охотником. И вдруг из
облака вырвалась огромная разъярённая голова. Она была настолько близка, что
Курлан отчётливо видел серебристую седину на загривке. И видно, старость была виной тому, что не успел охотник выстрелить во
второй раз. Страшный удар бросил его на землю.
Курлан очнулся от тряски. На месте возницы сидел Заркун. Хакун шёл
рядом с телегой. Увидев, что старик пришёл в себя, он остановил лошадь.
Запёкшиеся губы старика шевельнулись, но не издали ни звука.
-- Медведь убит, -- сказал Хакун.
Старик вновь впал в беспамятство.
Потом он пришёл в себя уже на кровати, весь перебинтованный. В комнате
было много народу. Люди тихо перешёптывались, чутко прислушивались, скорбно
молчали.
Дышать тяжело. Мутнеет в глазах. И перед ним, то проваливаясь в небытие,
то вновь смутно проясняясь, прошла его долгая жизнь. Голова кружится. Тошнит. Перед глазами плывут круги. В одном круге
появился его сын. Точно такой, как на фотокарточке. В военной форме, со
снайперской винтовкой и медалью "За отвагу". Он похоронен на берегу русской
реки Волги. Интересно, Волга больше нашей Тыми? Стучит в висках. Нет, это стучит колхозный катер. Наверно, везёт рыбаков
на тони. Стучит громко, у самых ушей. От него болит голова.
Хакун молод. Он сильный. Он смелый. Ему нужен новый карабин
Где-то стреляют. Нет, это тарахтит колхозная электростанция.
Лампочки-круги, круги-лампочки. Сейчас ведь день. Почему работает станция?
От шума болит голова. Курлан много ездил. Он объездил всё восточное побережье Сахалина. Бывал
и на западном побережье, и на самом севере, и на Миф-Тенгре. Но ни разу не
бывал он в горах, что синеют далеко в центральной части Сахалина. Древние
нивхи утверждают, что на самой высокой горе обитает Пал-ызнг -- хозяин гор.
Медведи -- его собаки. Охотники, павшие в схватке с медведями, не просто
умирают. Их забирает к себе Пал-ызнг, и они превращаются в пал-нивнгун --
горных людей, самых счастливых людей, и покровительствуют живущим сородичам.
Интересно, какое там счастье? Что-то тяжёлое подступило к горлу, перехватило его.
-- Вынесите меня на воздух, -- еле слышно произносят горячие губы.
О! Как много света! Небо то синее, то красное. Веером разбегаются по
нему длинные разноцветные лучи. Что это?
А горы? О, горы голубые! Они такие голубые, какими никогда ещё не были.
Высокие они и голубые. Голубые-преголубые. Не видел их вблизи. Не был там

----------
Last edit by: aborigen at 28.02.2010 16:01:23
|
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
19.02.2010 19:57
|
3.
ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛДавно это было. Но тот день я навсегда запомнил. Мне тогда исполнилось
восемь лет. И помню эту дату не потому, что её отмечали как-то по-особому.
Во времена моего детства нивхи ещё не знали такого праздника. Мои сородичи
переняли его у русских немного позже. Да и другие праздники проходили как-то
незаметно, без прежней яркости и радости. Это было такое время, когда в
нашем селении не стало мужчин. Остались одни немощные старики и женщины. Уже
давно никто не волновал сердца стариков сильным взмахом весла, уже давно не
вспарывал вечернюю гладь залива мощный ход многовесельной долблёнки. Даже
чайки и те покинули притихший залив. Было голодно. Помню дни, когда одну наважью юколу мы делили пополам с
моим аки -- старшим братом. Мне и теперь всё кажется, что мой аки всегда был
взрослым, хотя он старше меня всего на шесть лет. Отца помню плохо. Но помню, как моя скрученная ревматизмом мать, забыв
свои недуги, опираясь на палку, радостно выходила на студёный берег залива и
садилась свежевать огромные туши лахтаков. Длинные, тонкие, изогнутые ножи
ловко ходили в её слабых руках. Мне было тоже радостно, потому что мать
брала меня помогать. Когда она прорезала брюхо морскому зверю, я поддерживал
края шкуры с толстым, в ладонь, салом. Поддерживать сырую шкуру -- дело трудное. Руки быстро уставали, и шкура
помимо моей воли выскальзывала из рук, звучно шлёпалась в песок. Мать
бранила меня. Но я не обижался, потому что то были сытные дни. Когда мать высвобождала от сала шею, грудь и брюшину лахтака, к нам
подходил аки. Он переступал через могучую шею морского великана, вонзал в
основание шеи острый нож, выкованный из японского напильника дедушкой
Ламзиным, налегал всей силой на костяную рукоять. Грудь с хрустом
распарывалась, обнажая перерезанные белые рёбра. Перерезать толстые хрящи --
рёбра -- мог только сильный мужчина. И мой аки прекрасно справлялся с этим
делом. Аки разрубал лахтака на много кусков, прорезал в каждом дырочки, чтобы
можно было продеть в них пальцы, и я носил мясо в нё -- амбар, очень похожий
на избушку на курьих ножках из русских сказок. Сало, нарезанное большими
кусками, носил сам аки. Затем мы, трое мужчин -- отец, аки и я, -- садились за пырш -- низкий
стол, -- скрестив по-восточному подогнутые ноги. Мать подавала нам ещё
тёплую кровавую печёнку, и мы, каждый своим ножом, разрезали её на мелкие
кусочки и, обмакнув в раствор соли, не спеша ели. Я глотал шумно,
подчеркивая этим, что добыча охотников очень вкусна и я, которого они
кормят, доволен ею. Мать и сестра моя садились за другой пырш, погружали
пальцы в расколотый череп лахтака и выбирали нежный мозг. К великой радости
моей сестры, голова у лахтака большая, с полведра. Аки ездил на весеннюю охоту с отцом в лодке-долблёнке. Аки, как и все
взрослые нивхи, мастерски правил шаткой, круглой, как бревно, лодкой.
Сколько я помню, он ни разу не перевернулся на ней. Это -- искусство,
доступное только настоящим охотникам-зверобоям. Отец и брат привозили много нерп. Никто не спрашивал, кто из них добыл
больше, потому что у нас не принято спрашивать, кому люди обязаны пищей,
если в охоте принимало участие двое или больше мужчин. Это и неважно. Важно,
что люди сыты. Однажды, когда снег растаял, а льды угнало течением и ветрами в море и я
стал бегать босиком по буграм за бурундуками, исчез отец. Исчезли отцы
многих моих сверстников. Позже я узнал: они ушли на войну. Раньше мы любили играть в игру "олени и охотники", которая требовала от
"оленей" умело скрываться в кустах, а от "охотников" -- угадывать, где
спрятались "олени", и подходить сторожко, чтоб ни одна ветка не хрустнула
под ногами. Теперь же мы, разбившись на две команды, играли в "войну".
Мой аки и русский мальчик Славка были командирами. У Славки глаза
прозрачные, будто из стекла. И я ловил себя на том, что мне очень хотелось
потрогать их -- вдруг они на самом деле стеклянные. Одна команда пряталась в кустах, а другая наступала. Когда мимо куста,
где я замаскировался, проходил "противник", я поднимал кручёный сук, похожий
на обгорелую трубку дедушку Ламзина, и тихо стрелял:
-- Кх!
Если "противник" не слышал моего выстрела, стрелял громче и несколько
раз:
-- Кх! Кх! Часто мы всей армией ходили в атаку. Тогда Славка, став в чинную позу
взаправдашнего полководца, каких показывают в кино, громко кричал: "За мной!
Ура-а-а!" И его армия поднималась навстречу нам. Я громко стрелял из моего
сучка. Сучок у меня волшебный: он мог быть и пистолетом, и автоматом -- в
зависимости от того, что мне хотелось иметь в данное время. Я стрелял в Славку, потому что "убить" командира всегда почётно. Но
Славка не падал. И тогда волей-неволей начиналась рукопашная, которую мы все
любили. Вообще-то раз в тебя стреляют, да ещё длинными очередями, полагалось
падать. Когда стреляют одиночными выстрелами, можно сказать, что тебя лишь
ранили, а то и вовсе промазали. А я стрелял в Славку длинными очередями и в
упор. Но он всё равно догонял меня, убегающего от него, отстреливаясь,
хватал сильными пальцами и больно бросал на землю. И когда я начинал шумно и
обиженно протестовать, он пренебрежительно отвечал: -- Не хнычь! Вы же -- "немцы", а мы -- "наши". Мы должны победить!
А потом, махнув рукой, говорил:
-- Давай по новой!
И мы начинали игру сначала. Только на этот раз мы -- "наши", а Славкина
команда -- "немцы". Но всё равно повторялось то же самое: Славка не хотел
проиграть ни одного сражения. И на наше возмущение отвечал:
-- У-у-у, молокососы! Что вы, не знаете, что на войне сейчас наши
отступают?
Потом, опять махнув рукой, сокрушённо говорил:
-- Да и откуда вам знать? Ме-люз-га-а-а.
После этого мы возвращались к милой игре "олени и охотники". Как-то само собой, незаметно, мы стали встречаться всё реже и реже.
Дети, как могли, помогали дома своим матерям. Каждый день я ходил в лесок за
хворостом. И всегда брал с собой свой волшебный сучок. На этот раз он
превращался в охотничье ружьё. "Оленями" были ветвистые кусты корявой ольхи. Иногда играл в "охоту" дома, во дворе. Я скрадывал "уток" -- консервные
банки -- и стрелял из-за угла дома. Все банки были ржавые, ещё времён моего
отца.
Уже давно недоедание в нашем доме стало таким же обычным и частым
явлением, как дни и ночи. Мой аки, которому в то лето исполнилось четырнадцать лет, ушёл в
рыболовецкую бригаду. Но рыбу мы видели нечасто. Потому что сдавали всё.
Даже мелочь и так называемую сорную рыбу: большеротого, брюхатого, тощего
бычка и морских ершей, которых сейчас никто и за рыбу-то не считает. Аки приходил с рыбалки усталый и промокший до последней нитки. Мне
становилось неловко, когда я видел брата, измученного изнурительной работой.
Дед Ламзин, старший в нашем роду, древний и дряхлый, вскоре научил меня
удить рыбу. И я иногда приносил небольшой улов. Сам же дед целыми днями сидел на осыпающемся склоне песчаного бугра и
зачем-то пристально и долго смотрел через бинокль в море. Может быть, он
ждал, когда среди беснующихся валов-волн появится маленькая точка -- катер,
который привезёт моего отца с войны. Но отец не приезжал. И дедушка с
какой-то угрюмой настойчивостью проводил все дни на берегу и смотрел в
бинокль. Я видел, как брату тяжело. Но не мог ничем помочь.
Когда наступили голодные дни, я поймал себя на том, что стал часто
поглядывать на отцово ружьё, висящее на пышных, по пятнадцати веток, оленьих
рогах. Оно могло как-то помочь нам. Но некому было воспользоваться им.
Единственный мужчина, кормилец семьи нашей, мой аки, все дни находился на
тони. Я с надеждой поглядывал на ружьё. С ним связаны далёкие воспоминания о
вкусной печёнке, печёных нежных плавниках и ластах лахтаков и нерп,
воспоминания о жирных супах из уток и гусей, оленины и даже то сердце
медведя, которого подстрелил отец где-то в тайге. Сердце медведя дали мне, чтобы дух могучего хозяина гор и тайги отпугнул
от меня чувство страха, чтобы я вырос сильным мужчиной, удачливым
добытчиком. Стрелять из настоящего ружья -- мечта всех нивхских ребятишек-малышей. Я
не раз просил брата дать выстрелить просто так, по какой-нибудь мишени, уж
очень хотелось стрельнуть из оружия взрослых и хотя бы на мгновение
почувствовать себя мужчиной. Но он не давал, потому что охотничьего
снаряжения у него было в обрез. Да и мал был я. Но в день, когда мне
исполнилось восемь лет, аки впервые разрешил стрелять из ружья. Он сказал:
-- Хаскун, вот тебе два патрона. Иди потренируйся по куликам. Только
крепче прижимай приклад к плечу -- ударит больно.
В это время у нас сидел Славка. Он посмотрел на меня как-то необычно.
Никто до этого не смотрел на меня так. Его задумчивый взгляд пронзил меня и
ушёл куда-то далеко-далеко. В глазах Славки холодно сверкнул и ещё долго
мерцал огонёк удивления -- так смотрят на что-то большое и непостижимое. В коридоре у истоптанного дощатого порога под ноги мне попался кручёный
сучок, который мог быть и автоматом, и пистолетом, и охотничьим ружьём. Я
было замахнулся ногой, чтобы затолкнуть его куда-нибудь, но спохватился,
поднял и засунул в щель между досками разбитой завалинки: может, ещё
пригодится когда-нибудь -- мне только восемь. Было жаль тратить драгоценные патроны на мелких куликов, которые
большими стаями скапливаются на береговой отмели, и я пошёл на болото в
надежде найти уток. Прошёл кустарники, взобрался на песчаный бугор. Смотрю:
внизу, в луже посредине маленького болота, плавают две утки. Нивхские дети моего возраста уже знают почти все виды диких уток. И в
этот раз по небольшим размерам, маленькой голове, тонкому клюву, по
тёмно-пёстрому оперению и суетливым движениям я определил -- плавают чирки.
Утки ужинали. Глубоко погрузив голову в воду, они так и плавали с опущенной
головой. Над водой забавно торчали их вздёрнутые хвосты. Иногда клали голову
на воду и быстро-быстро работали клювиками. И до меня доносилось их частое
чавканье, похожее на журчание ручейка: утки, как сквозь сито, процеживали
воду через зубчатые края клюва, а на широком чувствительном язычке
оставались рачки и другая мелкая живность болота. Изредка утки поднимали
голову и оглядывались -- не грозит ли им опасность. Это была моя первая охота. Никто не учил меня её законам: брату некогда,
не до меня, дедушка Ламзин уже давно не охотился -- силы оставили его, а
другие мужчины нашего рода были на войне. Не знаю, откуда у меня появились
повадки охотника. Скорее всего это передалось по наследству, в крови. До уток далековато. Необходимо скрасть их. Для этого придётся спуститься
по оголённому склону бугра, проползти до заросшей багульником кочки. И с неё
стрелять. И ещё можно было дать большой круг за буграми, обойти болото и
стрелять с противоположного берега из-за кустов кедрового стланика, что
густо нависли над самой водой. Но этот план я тут же отверг. Может быть,
потому, что пришлось бы тратить много времени, и я боялся, что утки улетят.
Я тогда ещё не мог знать, что утки без причины не покидают богатые кормом
болота. Оставалось первое решение, рискованное -- скрадывать на виду у уток. Моя
одежда -- рубахи и брюки цвета хаки -- не выделялись на фоне песка. Я быстро
оценил это. И решился. Когда обе утки опустили головы в воду, вышел из
ольшаника и, не спуская с них глаз, сделал несколько быстрых шагов. Босые
ноги мягко, бесшумно ступали по песку. Одна утка подняла голову. Я мгновенно остановился и застыл в очень
неудобной позе -- с отставленной рукой, в которой держал ружьё. Я даже
перестал моргать.
Заметит или нет? Утка повернула голову, уставилась на меня долгим взглядом. Вот сейчас
взмахнёт крыльями. За ней, так и не поняв, в чём дело, ошалело взмоет в
воздух и вторая. Только с крыльев мелкой дробью посыплются брызги. Утка наверняка заметила посторонний предмет. Но её смутило то, что этот
предмет не шевелится. По-видимому, ей показалось, что он был тут и раньше,
просто она не замечала его. Утка успокоилась, снова занялась ужином. Вторая перестала было цедить
воду, но увидела спокойную подругу и тут же вновь погрузила голову в болото.
Быстрыми пружинистыми шагами спустился с бугра. И когда утки подняли
головы, я уже сидел за прикрытием из редкого ольшаника. Предо мною, в десяти
шагах, -- кочка с багульником. До неё нужно добраться. Кочка низкая. К ней
даже пригибаясь не подойдёшь -- утки заметят. Оставалось одно -- подбираться
ползком. Охота целиком захватила меня. Хотелось вернуться непременно с добычей.
Ведь это моя первая охота!
Не раздумывая, ложусь в болото. Чувствую -- не прогретая скудным солнцем
холодная вода леденяще обволокла моё тело, захватило дыхание. Одежда
прилипла к коже, мешая движениям. Ползу. Стараюсь держать ружьё высоко, чтобы вода не залила стволы.
Вот и кочка. Утки метрах в двадцати. Они спокойны. Продолжают кормиться.
Удобно положил ружьё на кочку. Перевёл дыхание. Заметил -- кормящиеся утки
сидят низко. Только тонкие полоски спины остаются над водой. Попасть трудно.
Жду, когда спарятся, чтобы одним выстрелом ударить по обеим. Но они никак не
сходятся. Аккуратно целюсь в ближайшую. Плавно нажимаю на спусковой крючок.
Хотя и плотно прижимал ружьё, ударило больно. Но мне было не до боли в
плече. Утки взлетели и, обалдело махая крыльями, поднялись прямо вверх. Но вот
одна свернула в сторону. Вторая же столбом поднималась надо мной. Голова
как-то неестественно подтянута. Понял -- утка ранена. И действительно, она
застыла на секунду и, растопырив крылья, упала на противоположный берег.
Вторая вернулась к подруге и громко и взволнованно кричала в кустах. Я перехватил ружьё и, утопая по колено в грязи, побежал через болото на
крик. Утка, увидев меня, поднялась, но тут же села рядом. Она кричала громко
и часто. Хвост её при этом подёргивался, и она казалась смешной. Первая мысль была -- стрелять в неё. Но я боялся, что вспугну раненую, и
она улетит. И вдруг ещё промажу и вернусь вовсе без добычи. А раненую можно
добить вторым выстрелом. Я долго искал её. И всё время, пока я рыскал по кустам, вторая утка
вертелась под ногами. Мне даже стало жаль её.
Через некоторое время её крики стихли. Она улетела, так и не найдя
подругу. И я не находил. Я уже сожалел, что не стрелял во вторую -- ведь она
была совсем близко, и вряд ли я промазал бы. Повернулся было к болоту, чтобы посмотреть, там ли вторая утка, как
между кустами кедрового стланика увидел чирка. Он лежал на спине. И на его
светлом гладком брюшке играло солнце. Я порывисто подхватил его и, ликуя,
помчался домой.
Мать достала из тощего кошелька талоны на крупу. У нас в семье, когда
удавалось, хранили талоны на конец месяца, чтобы потом сразу купить
побольше. И хоть раз в месяц мы чувствовали себя почти сытыми.
Но в тот день, хотя и было далеко до конца месяца, мать достала талоны и
купила крупы.
В нашем доме собрались старушки и дедушка Ламзин. Гости обсасывали
косточки моей добычи и хвалили охотника. После ужина, когда старушки дымили самосадку из одной трубки, пуская её
по кругу и затягиваясь на кругу по разу, подошёл ко мне старейший рода
дедушка Ламзин, мягко положил свою большую руку на мои худые узкие плечи,
посмотрел мне пристально в глаза и почему-то приглушённым голосом сказал:
-- Я знал, что ты станешь настоящим мужчиной.
Потом отвёл глаза в сторону, часто-часто замигал воспалёнными оголёнными
веками и, как мне показалось, скорбно добавил:
-- Но не думал, что ты станешь им так рано.

----------
Last edit by: aborigen at 28.02.2010 16:04:28
|
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
19.02.2010 20:00
|
4.
У ИСТОКАПолун встал рано. Но когда вышел на крыльцо, заметил, что над некоторыми
домами уже струится дым. Струится, как из его трубки, когда он, отрешившись
от всего мира, уставляется долгим взглядом в одну точку. Мысли сами лезут в
голову, занимают её и так теснятся, что голова пухнет. Эх, что-то очень
важное упустил Полун в своей жизни. Это "важное" совсем, кажется, рядом, но
никак его не поймаешь в петлю мысли, всё ускользает. Что же угнетает самого
древнего человека на побережье, пережившего всех своих сородичей?.. Иногда то или иное давнее событие надолго занимает мысли Полуна. Он
обдумывает, взвешивает свои поступки и находит, что событие могло бы
обернуться по-другому, поступи он иначе. Свои рассуждения старик обычно
заканчивал вздохом: "Эх, что утруждать свою голову, когда это прошло
много-много лет назад". Но вновь и вновь его одолевали думы. А думать было о чём. Полун --
последняя ветка из рода Кэвонгун. Его род пришёл на Сахалин одним из первых.
Это было много сотен лет назад. Некогда род Кэвонгун был могущественным. Но
от поколения к поколению он хирел. Последние шестьдесят -- семьдесят зим в
живых было всего несколько человек. Потом, после чёрной болезни, осталось только несколько женщин и Полун.
Женщин забрали в другие рода, и Полун остался совсем один.
У него невеста была, но и её увели на западное побережье в большой род.
Что мог поделать Полун? Конечно, он мог бы уехать с невестой куда-нибудь
подальше в тайгу. Но так думает Полун сейчас. А в то время он даже не
сопротивлялся: куда ему одному против рода? После этого Полун не искал себе жену. А когда спохватился, оказалось --
все женщины из рода тестей были замужем. Так и остался бобылём. С тех пор
горькая дума всё тяжелей наваливалась на плечи Полуна и с годами сгибала его
спину. Струи дыма задумчиво уплывают ввысь Солнце застряло где-то между
горами, но живым заревом оповещало мир, что вот-вот выйдет к нему. Лёгкий
морозец холодной струей ворвался в тёплую грудь и бодрит дряблое тело
старика. Полуна что-то тревожило. Он привычно закинул за спину одностволку и
осторожно вышел к реке. Природа, затаив дыхание, ожидала восхода солнца. Небо оделось в
оранжевую шаль. Из сырого замолкшего леса выглядывают сумеречно-багровая
рябина и сморщенная бурая ольха. Они засмотрелись в дремлющую заводь реки.
Недолго им любоваться своим осенним нарядом. Скоро жгучий мороз опалит
листья, деревья оголятся и будут всю долгую зиму зябко трепетать под ударами
злых ветров. А вот из чащобной темноты и сырости поднялись ели. Они угрюмо,
с молчаливым ропотом стерегут тишину. Охотничьим шагом вышел старик к толстой, скрученной временем берёзе --
её он знает издавна. На противоположном берегу реки задёргались нижние ветки рябины. Это
белка рвала обвисшие гроздья ягод. "Знает, когда собирать ягоду, -- сладка
рябина после заморозков", -- усмехнулся старик. На дымчатой спине белки
кое-где рыжел летний мех. "Какая ты некрасивая", -- старик улыбнулся. Как бы
стыдясь, что её застали в таком неприглядном виде, белка юркнула в кусты. То ли в берёзовом кустарнике, то ли в ветвях ольхи в глубине рощи на
другом берегу реки настойчиво дзенькаег сиротливая синичка. Над головой
старика на оголившихся ветвях черёмухи сидят два розовых рябчика. Они
притихли, совсем будто грибки-наросты. Душа Полуна сейчас, как поверхность
широкой заводи в тихую-тихую погоду. Достаточно лёгкого ветерка, и побежит
по заводи рябь и уничтожит зеркальную гладь. Грубый выстрел в такой
волшебной тишине разом убил бы мирное настроение старика. Полун тихонько шагнул к реке, чтобы студёной водой освежить слезящиеся
глаза.
Из неба, лежащего под ногами, глянул на него старик с белыми, торчащими
во все стороны волосами. На морщинистом, как кора старой лиственницы, лице и
в потускневших глазах -- испуг и удивление. Потрескавшиеся губы так и
остались полуоткрытые, как будто всунули ему в рот что-то твёрдое и
невидимое. Старик, древний старик! Хоть Полуну очень много лет, но его и сейчас, как в молодости, влекут
ели со снежными воротниками и острым дурманящим запахом смолы, мягкие
вмятины соболиных лапок на свежем снегу. Наступает тиф -- сезон дороги. Скоро в тайгу. Как только приходила мысль
о зимней охоте, старик начинал суетиться. Ему бы хотелось вот сейчас, сию
минуту, оказаться на охотничьей тропе. Всю зиму Полун будет жить в тайге, ставить ловушки и просить курна быть
доброжелательным к нему. Полун не позволит себе просить только чёрных
соболей. Он никогда не был алчным. Его никто в этом не обвинит.
Долгое время он рыбачил в артели. Сколько рыбы выловил он с бригадой!
Никто не сосчитает, сколько выловил. Очень давно предок Полуна перевалил Сахалин по ветру Конгр [Конгр --
западный ветер.] в сторону восхода солнца через высокий хребет Аркво-вал. Он
вышел на солнечную долину, густо поросшую могучими тополями. Быстрые
студёные струи, соединившись, превратились здесь в большую реку. Тот человек
беспредельно обрадовался своему открытию -- тысячи и тысячи лососей
нерестились на многочисленных галечных плесах. И назвал человек открытую им
реку "Тым-и!" -- нерестовая река. Предки сегодняшних нивхов заселили Тыми, потому что она была богата
рыбой. Теперь рыбы стало меньше. С каждым годом она убывала, и это тревожило
старого Полуна из рода Кэвонгун. Теперь, при новой жизни, русские научили нивхов кормиться не только
дарами природы. Они научили их копать землю, класть в ямки картошку. Полун,
как и другие нивхи Тыми, неохотно учился новой работе. Но всё-таки иногда в
руки брал тык -- берестяную посудину -- и поливал свой небольшой кусок
земли. Каково же было его удивление, когда из одной лунки, куда в начале
лета он бросил две картошинки, осенью достал целых восемнадцать картофелин!
Многие нивхи в поселке привыкли к земледелию и даже образовали нивхский
колхоз, а Полун так и остался рыбаком и охотником. Чем больше старел Полун, тем чаще задумывался над своей жизнью. И каждый
раз оставался чем-то недоволен, как будто в чем-то допустил непростительную
ошибку, как будто где-то поступил не так, как надо было. Старик заметил, что у него появилась непонятная нежность ко всякой
живности. Он теперь не закапывал живых щенков в снег Выкормив, дарил их
односельчанам. Пусть будет больше собак. Сородичи не могли не заметить странностей в поведении Полуна. Во время
хода кеты древний Кэвонг выходил до восхода солнца на нерестилище и подолгу,
ссутулясь, сидел неподвижно на берегу. Что его тянуло туда, о чём он думал,
никто не знал. Наверно, он и сам не мог бы сказать, зачем приходит к
нерестилищу. Он ласково и грустно смотрел на нерестящихся рыб, и по его лицу
лучиками разбегалась улыбка, свойственная добрым душам. Однажды его обожгла и уже не оставляла мысль: "Лосось может исчезнуть!"
Она поднимала его с топчана, на котором он проводил большую часть времени,
выгоняла на улицу, и старик подолгу бродил, не зная, за что взяться.
Эта мысль беспокоила, наверное, не только его. Недалеко от старинного
нивхского селения Тлаво русские люди построили странные дома. Говорят, там
выводят из икры кету. Но Полун туда ни разу не ходил. Когда всяким людям с плохими мыслями запретили ловить кету, Полун
обрадовался всем сердцем. И всё же ему приходилось сталкиваться с бесконечно
жадными людьми, которые сотнями вылавливали кету, брали икру, а тушки
выбрасывали. Каждый раз при встрече с ними у него закипало всё внутри. В это лето, как раз перед ходом кеты, как пожар в сухостойном лесу,
распространился слух: древний Кэвонг стал рыбнадзором. Все были удивлены.
Зачем нивху становиться рыбнадзором? Какое ему дело до того, что другие
ловят рыбу? Нивху-то никто не запрещает ловить рыбу на юколу.
-- Полун, наверно, порезал обе свои сети, -- посасывая трубки,
издевались сородичи. А Полун набивал обгорелую трубку махоркой, закуривал и делал вид, что не
слышит этих слов. Браконьеры поначалу всячески пытались задобрить старика.
Но тот хладнокровно наказывал их. Они стали угрожать ему, пугать, что
поймают где-нибудь и утопят. В ответ Полун только ухмылялся. С тех пор как новый рыбнадзор отвадил браконьеров, оштрафовав одних и
отдав под суд других, на нерестилищах стало спокойно. И на душе у Полуна
было хорошо. Его походка приобрела уверенность. Но в это утро тревога не покидала его. Он всё смотрел в воду и вот
увидел пару лососей. Каждый раз, увидев рыбу на нересте, Полун преображался.
Даже будучи не в духе, он вдруг начинал весело щуриться: его радовало, что
он, древний Кэвонг, оберегает потомство лососей от нехороших людей. Полун прошёл немного вверх по реке, остановился у мелкого
плёса-нерестилища. Плёс кипел от лососей. Старик наклонился над водой. Вот большая брюхатая самка. У неё левый
плавник истрёпан. А у самца на боку багровый рубец. Какое расстояние им
пришлось пройти из далёкого океана в верховья Тыми? Никто не считал. По
дороге их поджидали японские железные крючки, стеной стоящие в море, длинные
сети, зубы морских животных. Многие их сёстры и братья не дошли до заветных
нерестилищ. А они дошли. Израненные и избитые, добрались они до места, где
должны оставить после себя жизнь. Полуну хочется погладить своей жёсткой
рукой каждую рыбину. Ласки у него хватит на всех. Самка плывёт тихо-тихо, выбирает место для своих икринок. Со стороны к
ней подплыл длинный самец. На него набрасывается самец с израненным брюхом,
хватает огромной пастью. Тот стрелой пролетает вверх по течению, а
израненный возвращается к своей самке. Она не спеша выбирает место. Самец
торопит её, тычет крючковатым носом, кусает. Самка ускальзывает от его
острых зубов. Но вот она остановилась. Прижалась к гальке. Плавниками щупает дно.
Место ей понравилось. Хвостом ударила в гальку. Течение потянуло, как пыль,
поднятый ил. Под самкой образовалась лунка. Самка замерла, застыла. Лишь
хвост подёргивается нервно. И вот в ямку золотистой струёй потекла икра! Струя! Ещё струя! В каждой икринке играло по солнцу. А икринок -- сотни.
Вода, казалось, до упругости пропиталась солнцем. И рыбы плавали в солнце. Сердце Полуна затрепетало в груди, забилось сильно, радостно. Он видит
начало жизни! Вот они, тысячи будущих кетин! Самец нетерпеливо вился вокруг,
устрашающе разевая пасть, предупреждая других самцов. Наконец, вяло вильнув
хвостом, самка отодвинулась в сторону. Самец стремительно занял её место.
Белое мутное облачко закрыло искрящуюся икру. Затем самец принялся бить
хвостом по дну, заботливо загрёб ямку -- колыбель своих потомков. А кругом и рядом сотни таких же пар совершали великое дело продолжения
рода. А после стояли над бугорками гальки, охраняли их, обессиливали и здесь
же умирали. Их дряблые тела выносило на берег течение.
"Вы можете спокойно умирать, -- думал старик, -- вы совершили самое
важное в своей жизни -- оставили после себя жизнь". Полун попятился назад, тихо отошёл от нерестилища и направился дальше,
вверх. В километре от этого места -- второе нерестилище. Как там дела?
Уже издали тонкий слух таёжника уловил тревожные всплески воды на
нерестилище. Кто там -- медведь? Полун зарядил ружьё жаканом. Быстрыми, но
мягкими шагами подошёл к кустам и осторожно выглянул из-за них.
То, что увидел старик, настолько поразило его, что он чуть не крикнул:
"Ыйка!" [Ыйка -- восклицание, выражающее испуг, крайнее удивление.] Человек в длинных резиновых сапогах стоял по колено в реке, ловкими
ударами остроги бил лососей и выбрасывал их на берег. Там лежало уже
несколько десятков рыбин. У некоторых вспороты животы. Рядом стояла бочка.
"Заготовляет икру", -- будто острым ударило в сердце Полуна.
Человек метнул острогу в проплывающую рыбину и поднял её, трепещущую,
над водой. Из рваной раны, сверкая кровавыми слезинками, стекала упругая
икра. Полун узнал в браконьере Серёгу. Того самого Серёгу, который некоторое
время жил на берегу Тыми. Серёга приехал на Сахалин по вербовке. Работал
трактористом. У нивхов научился солить икру. Днём работал в поле, а по ночам
ловил кету. Добычу продавал. Полун уже имел с ним неприятную встречу. В прошлую осень старый охотник
возвращался со своего участка, где разбрасывал приваду. На этом самом
нерестилище он неожиданно наткнулся на Серёгу, который точно так же
заготовлял икру. Тогда Серёга поставил кружку водки и взял с него слово
никому не говорить. Вскоре Серёга исчез. Говорили, что он уехал куда-то на материк.
Сейчас он в сапогах стоял на нерестилище.
Почувствовав пристальный взгляд Полуна, Серёга резко обернулся. В его
глазах вспыхнул страх: незнакомый человек стоял, опираясь на ружьё. Но тут
же страх как рукой сняло. Глаза Серёги засияли, будто луна, с которой сошло
облачко. -- Ах, это ты, Полун! Чего ты уставился на меня?
Полун не двинулся с места. Его взгляд, наверное, был страшен, потому что
Серёга перестал улыбаться. Сдерживая волнение, браконьер, не торопясь, вышел
на берег.
-- Подойди сюда, -- голос Серёги срывался.
Полун не шелохнулся.
-- Ну, иди же ко мне! Утро холодное У меня есть, чем согреться. --
Браконьер хищно, по-рысьи, улыбнулся и положил перед собой длинный
окровавленный нож.
-- Вот что, -- старательно выговаривая слова, сказал Полун. -- Уходи
отсюда! И не вздумай возвращаться. Если хоть раз твоя нога ступит на эти
угодья, я убью тебя. Выслежу, как медведя, и убью. Ни один шатун-разбойник
ещё не ушёл от меня. Уходи! Это был последний случай браконьерства. Теперь на всех нерестилищах
стоял покой.
Окончился нерест. Сородичи не узнавали в Полуне прежнего Кэвонга. Он
стал общительным, заходил к односельчанам. Полун, казалось, помолодел. Даже
спина его стала выпрямляться. Чувствовалось, гнетущие старика мысли ушли в
забытье.
Прошёл сезон дороги. Зима вступила в свои права. Многие охотники уже
сдавали пушнину. А Полун только закончил приготовления к охоте. Скорей в
тайгу! Туда, где стоят вековые ели со снежными воротниками, где даже сильный
ветер не в силах пробиться сквозь тайгу, и о нём догадываешься только по
шуму верхушек елей. Туда, где осторожный соболь оставил на свежем снегу
отпечатки мягких лапок.
Широкие, упругие охотничьи лыжи -- энь, -- подбитые снизу нерпичьим
мехом, легко скользят по рыхлому снегу. Полун вышел к большому озеру,
соединённому с рекой Тыми протокой. Чтобы не делать большого крюка, охотник
решил перейти озеро поперёк. Снял лыжи, привязал к ним бечёвку и потащил за собой. Вода у берега
замёрзла наплывами. Но дальше пошёл чистый, ровный лёд. Сквозь него на
жёлтом песчаном дне виднелись островки водорослей. Вдруг что-то живое шевельнулось подо льдом. Живое и страшное. Дрожь
холодной волной прошла по всему телу. Волосы вздыбились, приподняли шапку.
Кто это, как тень, движется по дну? Не водяной ли подкараулил Полуна? Старик
напряжённо сощурил щёлки-глаза, силясь разглядеть, кто там, подо льдом.
Большое и тёмное приближалось. Вот оно обрело форму рыбы. Да это же кета!
Огромный, сгробившийся самец с кроваво-бурыми полосами на боках. Он
медленно, будто находясь в глубоком раздумье, подплыл под самые ноги
старика. Полун опустился на четвереньки и стал разглядывать рыбину. Странно! Все лососи, отметав икру, давно умерли. А этот жив. На боках у
него рубцы -- раны -- свидетельство трудных дорог из океана в верховья рек;
жабры выцвели, пообтрепались, и из них, как космы бороды, свисают зелёные
водоросли. "Лосось не выбросил молоки, -- подумал старик, -- не оставил после себя
потомства; и курн наказал его долгой, одинокой, бесполезной жизнью. Будет он
теперь пугать своим страшным видом рыбное население озера" Полуну стало жаль лосося. Он прекратил бы страдания несчастной рыбы. Но
как это сделать? Между рыбой и человеком лежит толстый лёд. Глаза старого
охотника, всю жизнь прожившего холостяком, затуманились. -- Ты-то почему остался бобылём? -- спросил старик лосося.
Омертвевшие глаза рыбины, преломляясь сквозь воду и лёд, становились всё больше и больше. Старик видел теперь только два огромных рыбьих глаза, и в них -- тоску и укор.

----------
Last edit by: aborigen at 28.02.2010 16:07:33
|
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
24.02.2010 23:20
|
5.
Владимир САНГИ ПОСЛЕДНЯЯ ДАНЬ ОБЫЧАЮ Дальше говорилось: "По ночам свои порядки устанавливают медведи. Они прогуливаются по селу, не обращая никакого внимания на лай собак. Нартовые кобели рвутся, чуть не ломают колья. Непривязанные суки с визгом носятся вокруг медведей, а те, не спеша, разваливают хасы и ужинают юколой". В это лето на северном Сахалине, как ни странно, была засуха. Она пала на время цветения ягод -- основной пищи медведей. Во всей огромной сахалинской тайге не было ягоды. И медведи ушли из неё к побережью моря, где могли полакомиться заспавшейся нерпой. Письмо заканчивалось так: "Вернулась забытая традиция -- молодые люди
должны доказать своё мужество в схватке с медведями. Охотиться на медведей
стало в нашем селении модно. Девушки дарят улыбки только
кавалерам-медвежатникам. Умора" Когда Малун дочитал до этого места,
появилась физиономия Закуна: толстые губы выпячены, взгляд сверху вниз,
высокомерный, и голова -- дрын-дрын -- качается, словно незрелая кедровая
шишка на тонкой ветке. Это обычная манера Закуна, когда он чему-нибудь даёт
свою оценку. Когда-то они были одноклассниками.. Закун мастерски пользовался
шпаргалками, подглядывал в учебники или выставлял свои большие уши, стараясь
поймать подсказку. Его друзья были такие же лодыри. Они помогали друг другу,
когда писали контрольные. Он бросил школу с седьмого класса: "Просвещайтесь!
Забивайте свои головы науками. Нивху нужно уметь охотиться, а не тратить
время на пустое дело -- учебу. Я как-нибудь найду себе место: земля большая
и солнце большое". И голова дрын-дрын, как кедровая шишка. Откуда у него эта
манера? Когда Малун вернулся из Ленинграда, Закун работал заведующим магазином.
Крупная фигура на селе. Все здороваются с ним за руку. У него уверенный,
громкий голос. Окружающие встречают его шутки, пусть даже плоские, дружным
смехом. И в разговоре последнее слово за ним. Закун умело пользовался некогда бытовавшими у нивхов преимуществами в
родственных отношениях. Всё решающее оставалось за ним, как за
представителем рода ахмалк -- тестей. Закун старался одеваться в духе
времени. Но выглядел нелепо. Сочетание широкоплечего пиджака, яловых сапог и
зелёной шляпы вызывало у людей усмешку. Он лез из кожи вон, чтобы быть
первым парнем на селе. Малуну всегда неловко общество Закуна. Не совсем осознанное в детстве
чувство с годами перешло в открытую неприязнь. Грубая самоуверенность и
надменность -- вот чем подавлял Закун окружающих. Они были для него тем же,
что сила и клыки для кобеля, делавшие его хозяином на собачьей свадьбе. "Умора. Тоже выдумали моду. Медведь -- это же наимирнейшая тварь и
трус" Малун на минуту задумался. Ещё совсем недавно нивхи говорили о
медведе только почтительно. "Мок -- добрый" -- вот как называли его взрослые
при детях, утверждая этим посредничество медведя между землянами и
таинственным всемогущим, от которого якобы зависит благополучие людей. Когда Малун рассказывал об этом своим ленинградским друзьям, те,
расширив глаза так, что в них вмещалось всё небо, восклицали:
-- Да ты откуда взялся? Ты же первобытный! Потом уже серьёзно просили рассказать о нивхах, их обычаях и нравах.
Малун чувствовал внимание окружающих. Это вливало в него, обычно несколько
робкого, уверенность, и он со знанием дела и с интересными подробностями
рассказывал о своём народе. Русские ребята особенно любили слушать его
рассказы о медвежьих праздниках и нивхские песни. Песни покоряли своей
проникновенностью и глубокой лиричностью. Друзья просили дать подстрочники,
записывали ритмику и переводили на русский. Ленинград Ленинград Как быстро прошли пять лет! Первые робкие шаги
по непривычно твёрдым асфальтированным улицам города лекции по
древнеславянскому и современному русскому языкам Теоретические основы
нивхского языка спортивные лагеря и соревнования удивлённые глаза
перед картинами в Эрмитаже на первом курсе и глубокое понимание идеи и
замыслов художников -- через несколько лет Потом будто остановка
стремительного бега времени: диплом Как вы быстро прошли, пять лет!
"До-мой! До-мой! До-мой!" -- стучали в быстром и чётком ритме колёса
экспресса. "Ж-ж-ж-ж-ду-у-ут!" -- гудели мощные моторы ТУ-114. Ноглики Оно звучит на русском таинственно.
Это слово как кусок айсберга. Ноглики Ноглики Когда-то, несколько веков назад, предок Малуна
перевалил Сахалин с запада на восток через хребет. Он вышел к истоку
безымянной реки, срубил тополь и выдолбил из него лодку. Долго спускался он
по большой реке. Но вот пахнуло солоноватой свежестью. Стало быть, до моря
близко. И тут уставший путешественник увидел, что его вынесло к высокому
лесистому берегу, прорезанному притоком. Он повернул к устью спокойной реки,
привязал лодку к нависшим ветвям ивняка и, измученный жаждой, прильнул к
воде. Но тут же отпрянул -- в чуткие ноздри ударил терпкий запах. И только
теперь нивх заметил -- вода в реке загрязнена маслянистой жидкостью. И
назвал первооткрыватель эту речку Ноглын-нгиги, что на русском означает --
Пахучая река. Ноглики Ноглики Здесь Малун окончил школу, здесь посадил первое
в своей жизни дерево. Уезжал Малун из маленького серого селения. А вернулся и с трудом узнал
его. Встреча обрадовала обоих. Малун стал одним из первых учителей своего
племени, а Ноглики раздалось вширь втрое, оттеснило тайгу на отдалённые
сопки и вытянулось к небу: появились целые кварталы двухэтажных домов.
Вокруг посёлка поднялись эклипсы -- качалки нефти. Они с равнодушным
спокойствием встречают нового человека, безразлично кланяясь ему железной
головой. В несколько корпусов новые здания интерната. Спокойная уверенность
готовой к приёму детей школы Всё это сулило хорошее начало работы. Малун
с радостью повторял, что вот он уже учитель и скоро будет обучать детей
своего племени. До нового учебного года оставалось немногим менее месяца. "И трус" -- в устах Закуна это звучало фальшиво. Он сам недалеко
ушёл от стариков, опутанных предрассудками. "Медведя убить легче, чем собаку: он большой, в полдома. В него и с
закрытыми глазами попадёшь. Приезжай. Поохотимся на славу. Тебя приглашает
твой ахмалк. Я уже сказал об этом сородичам". Хвастун, нахал и болтун! Понятно, почему он так усердно приглашает.
Чувствует, хитрец, что подчёркнутое внимание окружающих -- маска. Он хочет
поднять себя в глазах односельчан. Он всегда был честолюбив. И в качестве
жертвы выбрал, конечно, его, Малуна, представителя рода зятей. Ох, этот
обычай! Он гадко переползает через пороги веков и десятилетий. Ахмалк
Нужен он Малуну! Малун всего полмесяца назад побывал в Тул-во. Прямо с самолёта на катер.
На плаще ещё серела ленинградская пыль, а он возбуждённо ходил по песчаной
косе Тул-во, где, казалось, недавно вместе с другими пацанами и визгливой
сворой собак бегал по кустам за бурундуками. Сородичи радостно и по-нивхски
гостеприимно встретили молодого учителя. Малун долго говорил со старым
У-Тером -- Обгорелым Сучком, который сомневался, посылать ли сына в школу.
Его сын Серёжа остался в третьем классе на второй год. Серёжу в школе
называли переростком. Может быть, ему и не стоит продолжать учёбу? Ведь
охотнику нужны твёрдая рука и точный глаз. У сына У-Тера всё это, как у
всякого нивха, есть. Односельчане ожидали учителя с нетерпением. Рыбаки просили совета, как
жить дальше -- в заливе из года в год становится меньше рыбы. Надо объединиться с другими колхозами, приобретать флот и выйти в
море -- другого выхода нет. И Малун говорит об этом на правлении колхоза.
Или рассказывает о том, что творится в стране и за рубежом. Для старшего
поколения нивхов, которое не читает газет и не понимает радио, он был и
газета и радио. Малун запомнил тёплый приём сородичей. И ещё запомнил
холодный взгляд в затылок. На этот раз Закун прямо на берегу, даже не дав Малуну выйти из лодки,
сказал громко, чтобы все слышали:
-- Вот и приехал к нам медвежатник! Смелости тоже учили в институте?
Что и как ответить на эту бестактность, Малун не знал. Потому
разозлился, но не подал виду. Широкая чугунная сковорода тяжело прокатывается по кускам свинца.
Дробный стук разносится далеко окрест.
-- Будто мелем кости, -- сказал Малун.
-- Эй! Не говори так! -- вдруг запальчиво крикнул Закун. -- Ты же
собрался на охоту, а не на игру какую-нибудь. Уйкра [Уйкра -- грех.]. -- Но
потом спохватился и, оправдываясь, сказал: -- Охотничий обычай так велит. Малун отметил про себя, что, поменяйся они ролями, Закун использовал бы
этот случай для бесконечных насмешек при людях. Дул тлани-ла -- олений ветер. Он идет с океана, сырой и холодный.
Даже в августе при этом ветре только ватная куртка с обливкой из брезента
может спасти от озноба. Комары и мошки стынут и становятся вялыми. Оленям
благодать -- гнус их не беспокоит, они большими стадами совершают перебежки
в поисках лучших ягельников. Вот и назвали этот ветер "оленьим".
Закун зябко поёжился и поднял капюшон. Между дюнами стыло поблескивали озёра. Осока на их берегах звенела,
будто жестяные пластинки. Охотники прошли несколько рядов дюн и вышли к
мелким зарослям кедрового стланика. Между кустами виднелись следы оленей, но
медвежьих не видно. Можно подумать, что медведи ушли с косы. Закун так и
сказал:
-- Медведи ушли в тайгу.
-- Не может быть, -- ответил Малун. -- В тайге нет ягоды.
Уже давало знать о себе расстояние, пройденное по сыпучим пескам и
кустарникам.
-- Медведя бить легко. Он большой, -- опять начал Закун. -- Бьёт тот,
кто ближе к нему и кому удобнее. Лучше бей ты, а я буду добивать. Это по
нашим обычаям.
"А шкуру заберёшь ты "по нашим обычаям", -- разозлился Малун, но ничего
не сказал. Прошли ещё километра четыре и повернули к заливу. Малун отвлёкся. Его
сейчас больше занимали мысли о начале учебного года. "Серёжа будет учиться!
Очевидно, прошлогодний учитель двойками и упрёками отбил у Серёжи желание
учиться. Я найду подход к Серёже и его отцу. Он будет учиться. Все будут
учиться. Дурацкое слово "переросток". Кто его выдумал? Сейчас нивхи поняли
значение образования. Не то что во времена недавнего прошлого, когда
родители забирали детей из школы, едва подходило время осенней охоты.
Обгорелые сучки -- единицы. Жизнь -- это дерево. А дерево растёт вершиной.
Старые сучья остаются под новыми, сгнивают и опадают. От этого дерево
становится стройнее". Вдруг Закун крепко схватил руку Малуна: охотники шли по ещё тёплым
отпечаткам больших лап. Это было исключительное лето -- лето без дождя. Такого давно не было на
Сахалине. Медведи, голодные и злые, бродили близ селений. Непрерывающееся
утробное урчание и сосущая боль в желудке заставляла их бродить целыми
сутками. Медведица была старая. Огромная и сильная, она долго дралась с
другими медведями, пока не стала хозяйкой большого урочища, богатого ягодой,
муравейниками и дичью. Возвышенные места сплошь заросли длинноветвистой
таёжной брусникой, низкие сырые берега реки поросли голубицей и малинником.
А осенью в реку входит кета. По утрам медведица выходила на реку и на
перекатах ловила рыбу. Она ловко подхватывала цепкими когтями больших и
упругих рыбин и бросала на берег. А там её детёныши, маленькие и пушистые,
прокусывали рыбам голову. Поздно осенью медведица со своими детёнышами поднималась вверх по долине
реки и ложилась в берлогу у подножия горы. Так было каждый год. Нынче же
лето подходило к концу, а семейство медведицы ещё не накопило жиру, чтобы
думать о берлоге. Медведица остервенело преследовала бурундуков, разоряла их
гнёзда глубоко в земле и поедала все их запасы. Но рытьё бурундучьих нор
утомительно и только ещё больше истощало медведицу. Иногда ей удавалось
поймать обессилевшую от голода куропатку. Тогда медвежата дрались из-за
каждого пёрышка. Она оставляла детёнышей у суковатого дерева, а сама уходила на охоту.
Однажды она вернулась с охоты и не нашла старшего медвежонка. Голод вынес
его из кустов, и он обалдело понёсся куда глаза глядят -- авось где-нибудь
да наткнётся на пищу. Мать с другим медвежонком долго шла по следу глупого
пестуна. Но на болоте потеряла его. Несколько ночей и дней она тонко и
протяжно кричала, звала сына, но тот не объявлялся. Может быть, он нашёл
пищу и сейчас быстро накапливает жир. А может Беспокойство не покидало
мать. Уже листья, трепетно дрожа, срывались с ветвей и нехотя ложились на
землю. Уже начались нудные осенние дожди, способные вызвать только досаду. А
медведи всё рыскали в поисках пищи. Медведица долго не решалась идти через залив на косу. В давние
времена она бывала там. И знала тамошние ягодные места. Но страшно идти
туда -- там люди. Когда медведица вспомнила людей, у неё заныла правая
лопатка. Туда в позапрошлом году ударил человек чем-то горячим. Рана долго
не заживала. Боль напоминает о встрече на косе, пугает её. Но она хорошо
помнит тамошние ягодные места. Скоро время ложиться в берлогу на долгую
зиму. Надо за оставшееся время накопить жиру. На косу! На косу! И медведица,
тяжело опустив голову, будто собралась разбить невидимую преграду своим
твёрдым лбом, решительно вышла на высокий берег залива.
-- Нигде нет ягоды, а на косе её много. Почему так? -- спросил Закун. --
Ведь и здесь не было дождей.
-- Это объяснить легко. Когда идёшь в густой туман, вся одежда
промокает. Не так ли?
-- Так, так, -- поспешно ответил Закун.
-- Растительность косы получает от морских туманов достаточно влаги,
чтобы нормально расти.
-- Гм-м-м, -- промычал Закун.
Следы на ягельнике пропадали. Но глаза врождённых следопытов вели по
следу точно -- кое-где медведь когтями ковырнул лишайник, кое-где на сучьях
трепыхалась побуревшая шерсть. След с бугров повёл на травянистую низину,
поросшую по краям ольховником. Медведи проложили в нём тропу. У охотников участилось дыхание. Стали резко и порывисто оглядываться по
сторонам. Кусты загустели, и они пошли, пригибаясь. По краям тропы жухлая
трава ровно подстрижена. Это медведи ели её. А в стороне от тропы в
некоторых местах трава примята. Здесь медведи спали. Малун, что шёл впереди,
чуть не наступил на свежий помёт медведя, бордовый от брусники. Куча. Ещё
куча. Это уборная медведей. Значит, медведи постоянно обитают в этом месте.
Где-то сидит медведь и поджидает преследователей. От этой мысли по спине Закуна пробежали мурашки.
Тропа раздвоилась.
-- Иди по левой, -- тихо сказал Малун.
Закун сделал два шага и повернул за Малуном.
-- Ты чего?
-- Ы-г-г. -- Закун хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова.
Его волнение передалось и Малуну. Чёрт дёрнул идти на эту дурацкую охоту.
Это не охота, а сплошная пытка. Ты не знаешь, что тебя ждет через секунду.
Но делать нечего. Надо идти дальше. Конечно, он мог бы вернуться домой без добычи. Ведь медведь -- не утка
весенняя, которую можно настрелять десятками. Охотники на медведя чаще всего
возвращаются без добычи. И никто не говорит, что они плохие охотники. Можно
вернуться и без добычи. Но тут Малун поймал себя на том, что дал своей воле
слабину. Нет, вперёд! Искать встречи с медведем! Что-то всё время сковывало
его волю, и она требовала раскрепощения. Что-то из взаимоотношений с Закуном
угнетало Малуна, и ему казалось, что именно сегодня он должен освободиться
от этого тяжёлого груза. Что-то большее, чем добыча, чем медведь, настойчиво
толкало его вперёд по следу, до страха свежему. Справа открылась кочкарная поляна. Дальше залив напоминал о себе бликами
от заходящего солнца. Слева продолжался чёрный ольховник. Метрах в тридцати
он обрывался, и там начинались голые дюны. Охотники шли по свежим отпечаткам
огромных лап. Медведица тоскливо глядела на своего маленького и пушистого детёныша,
нервно тянула ноздрями, поднималась с лёжки, пыталась бежать. Но куда? Она
ещё в детстве усвоила закон: не показывай себя врагу, выжидай сколько можно.
Внезапность -- вот залог успеха. Она уже давно видела тех страшных врагов,
которые шли убивать её детёныша. Она бы сама напала на врагов, но боялась --
их двое. А враги идут прямо на неё. О, нет! Она не покажет себя. И медведица
поднялась и тихо пошла в обход. -- Ы-г-г-г, -- затрясся Закун, будто его голого бросили в прорубь.
Дрожащей рукой он показал под ноги. На человеческих следах чётко
обозначались когти медведя.
-- Дьявол! Пожиратель охотников! -- взвизгнул Закун. Он, бледный,
суетился долго и зряшно. "Вот оно твоё лицо", -- с презрением подумал Малун. Он с удовлетворением
заметил, что волнуется гораздо меньше, чем его нахальный и самоуверенный
напарник. А Закун уже потерял власть над собой. Им полностью овладели страх
и суеверия. Малун повернулся и пошёл навстречу следу. Закун, сбиваясь, глухо умолял:
-- Уйдём, пока ничего не случилось. Уйдём подобру-поздорову. Это не
медведь. Это сам дьявол.
-- Молчи! -- вдруг разозлился Малун. Он впервые поднял голос на этого
почтенного представителя рода тестей и этим нарушил старый обычай.
Медведица выскочила неожиданно и резко, будто взрыв. Малун только
подумал: "Когда же кончится?" Выскочила медведица, за ней медвежонок, потом
огромный медведь. Но медведь не выскакивал. Это кусты стланика сдались под
напором медведей и отпрянули назад. Медведица галопом уходила от людей. Казалось, вся округа трясётся от её
тяжёлого бега. Рядом подвижным шаром катился медвежонок. Он то и дело
исчезал в траве. Быстрей! Быстрей! Надо успеть увести детёныша от страшных
врагов. "Уйдёт!" -- озадаченно подумал Малун. С уходом медведицы будет потеряно
больше чем день, потраченный на утомительную охоту. Ведь весь посёлок знает,
что учитель вышел на охоту. Не потерял ли он за долгие годы учёбы в русском
городе охотничьи навыки, которые привили ему сородичи ещё в детстве? А
главное, этот проклятый груз. Не дать уйти! А медведица уже пересекала кочкарник. Малун взял упреждение и быстро
нажал на гашетку. Медведица перекатилась через голову. Пуля прошила грудную
клетку -- низковато. Зверь в мгновение ока поднялся на дыбы и с пеной в пасти бросился на
врагов. Быстрей! Быстрей! Привычно ударить лапой, сломать хребет и рвать,
рвать врага! Боль в груди довела медведицу до бешенства. Закун дико прокричал: "Дьявол! Дьявол! Чур, не меня!" -- и исчез где-то
за спиной Малуна. Вместе с ним вдруг исчезла всё время давившая Малуна
тяжесть. Он вздохнул необыкновенно легко, будто сорвал с себя цепи. У Закуна расчёт был прост: пока медведица расправится с Малуном, он
успеет унести свою шкуру. Малун это понял. "Надо бы перезарядить ружьё", --
лихорадочно подумал учитель, но увидел, с какой скоростью приближается
зверь: не успеть. В двустволке только один патрон. Один выстрел должен
решить, чья жизнь через секунду оборвётся. Возможно, острота ситуации, когда
не остаётся никаких путей к спасению жизни, кроме открытого боя, и заставила
Малуна не потерять самообладания. Точно и только насмерть. Чем ближе, тем
точнее. Учитель собрал все силы и волю, чтобы в последнюю секунду не сделать
какой-нибудь оплошности. Чем ближе, тем точнее. На сотую долю секунды он
залюбовался потрясающим зрелищем: огромная квадратная голова втянута в
широкие, крутые плечи, лапы с длинными растопыренными когтями выброшены
далеко вперёд. Жёлтые клыки. Жёлтая пена в пасти. И какая всесокрушающая
уверенность в нападающей медведице! Медведица не бежит, а летит. Прыжок. Ещё прыжок, и она встанет на задние лапы, мелькнёт передняя
лапа, и в ноздри брызнет вкусный запах крови.
Но тут рядом с собой она увидела своего детёныша. Куда? Враг слишком страшен, чтобы детёныш находился рядом. Остро и властно заговорил инстинкт материнства, заглушив инстинкт самосохранения. Медведица резко остановилась, повернулась к детёнышу и дала ему оплеуху. Этой доли секунды оказалось достаточно, чтобы Малун выстрелил. Пуля прошла под ключицу, прорвала сердце и ударила в землю. Медведица рухнула, в последний раз недоуменно и грустно взглянув на крепко стоявшего человека. Малун машинально перезарядил ружьё. Только теперь он почувствовал неимоверную усталость. Хотелось развалиться на мхах, закрыть глаза и лежать долго-долго. За спиной хрустнула ветка. "Ещё!" -- ударило в воспалённый мозг. Малун резко обернулся -- с высокой лиственницы спускался Закун. Он подходил медленно, будто шёл на казнь. На его лице -- виноватость и покорность. Первое желание было -- дать пощёчину. "К чему?" -- уже спокойно подумал Малун и, повернувшись к нему спиной, устало сел на оскаленную, но уже ничем не угрожающую ему голову зверя. Медведица оказалась крупной. Хозяином добычи, как ожидалось, должен быть Закун, представитель рода ахмалк -- тестей. Но Малун разрезал медведицу на множество кусков и, это видели все, не спросясь Закуна, роздал односельчанам. Люди благодарили охотника. Говорили, что он настоящий нивх -- он не забывает народные обычаи. Благодарили охотника и непонимающе шептались между собой А шкура Она на другой же день висела, прибитая к стене дома Закуна с полуденной стороны. Так велит обычай. Мужчины пригласили Малуна на новую охоту.
Охота была назначена на утро следующего дня. Малун всю ночь не спал. Ворочался с боку на бок, сбил всё бельё. Его замучил непонятный доселе пот. Каждый раз, когда он, измученный, впадал в полудрему, на него неслась разъярённая медведица. Огромная голова втянута в широкие, круто налитые мышцами плечи, лапы с длинными растопыренными когтями выброшены далеко вперёд. Жёлтые клыки. Жёлтая пена. Утром, в назначенный час, охотники зашли за Малуном. Но он не пошёл с ними. Сказал: срочно нужен в школе. В тот же день Малун покинул Тул-во.
 
----------
Last edit by: aborigen at 28.02.2010 16:11:11
|
|
|
6.
Давай ещё!!!Прочитал с одного духу
|
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
28.02.2010 14:43
|
7.
@medion77
Давай ещё!!!Прочитал с одного духу…
Владимир САНГИ
ИЗГИН Что-то родное находил Изгин в тупоносых, битых временем и невзгодами
лодках. Они, опрокинутые, сиротливо лежат на берегу залива, как раз напротив
его дома; едва откроешь скрипучую дверь, лодки тут же лезут в глаза; с
выцветшими, потрёпанными бортами они напоминают выброшенных на берег камбал, раскрывших в неслышном хрипе рты: "Воды". Когда-то дом Изгина стоял в центре посёлка. А посёлок тянулся двумя
рядами вдоль прибрежных дюн. Изгин радовался: его дом расположен удобно --вправо и влево до крайних домов расстояние одинаковое. Это большое преимущество в зимние буранные вечера. Недельные бураны -- самое скучное в жизни нивхов-непосед: ни на рыбалку выйти, ни на охоту. Чем же заняться мужчине? Вот и ходит Изгин в гости к соседям. Под нудное завывание бурана неторопливо пьёт чай, расспрашивает о последних новостях, осторожно выведывает у соседа его отношение к какому-нибудь событию. Вокруг много происходит событий. И не всегда знаешь, как отнестись к ним. Тут нужно не спеша и обстоятельно обдумать их, узнать мнение людей. Когда же это делать,
как не в буранные вечера! Сегодня был у соседа справа, завтра -- у соседа
слева. А если буран затянется, посетит второй дом справа. Всё рядом, удобно.
Попробуй-ка в буран пройти по посёлку. Прибьёт к какому-нибудь сугробу,
утонешь в нём. А то и заблудишься вовсе. Вот и ходят жители крайних домов
друг к другу ежедневно, потому что сидеть дома несколько дней подряд без
дела -- невыносимая тоска. Конечно, лучше бы не надоедать соседу частыми
посещениями, но в буран и расстояние через дом -- почти непреодолимое. И не
останется ничего, как каждый день добираться до соседнего крыльца,
взбираться по скользким заснеженным ступенькам, громко ругать погоду, звучно
кашлять, сообщая о своём приходе, и гулко и усердно топать ногами, стряхивая
с торбазов налипший комками снег. Нивх терпелив. Примет гостя по обычаю:
подаст трубку и расшитый узором кисет, затопит печь. Угостит. Займёт
разговором. Если же беседа затянется допоздна, постелит оленью шкуру --
зачем выходить в буран? Авось к утру уймётся. А Изгину удобно -- его дом
посредине посёлка. А когда возвратишься с весенней охоты во льдах с удачей -- с огромным
сивучом, сало которого толщиной в пять пальцев! Какие бы муки он претерпел,
перетаскивая сало и мясо к себе, если бы его дом стоял вдали от берега. А
он -- его старый, добрый дом -- стоит прямо над прибрежным обрывом. Удобно
стоит. Правда, в последние годы Изгину не приходится таскать столь огромную
добычу Но выйти тёплым днём на нагретую солнцем дюну, посидеть на ней,
зарыв в крупный горячий песок голые, узловатые от ревматизма ноги Удобно
стоит дом. Изгин опытный охотник и рыбак. Некоторые поселковые насмешники говорят,
что он отжил своё и теперь годен разве только в сторожа. Но Изгин не слушает
их -- он был охотником, сейчас охотник и умрёт охотником. Сколько исходил Изгин за свою долгую жизнь! На восточном побережье
Сахалина нет урочища, где бы в погоне за удачей не побывал Изгин. Нет здесь
ни одного залива, ни одной речки, где бы и не рыбачил Изгин. Пусть
кто-нибудь из этих "остряков" попытается посоревноваться с ним в знании
залива, его мысков, бухточек, рек. Они и названия-то не все знают. Ведь не
случайно в прошлое лето профессор из Москвы, такой же старый, как Изгин,
когда записывал названия всех, даже малюсеньких, уже забытых многими
речушек, бугров, мысов, бывших стойбищ, взял себе в помощники именно его.
Хитрый старик: сам хорошо знает нивхский язык, а всё равно просил разобрать,
из каких слов состоит то или иное название. Профессор приезжал вместе с нивхским поэтом. Поэт -- частый гость Чайво.
А профессор здесь впервые. Говорил, приехал изучать нивхские названия,
обычаи, пишет книгу, что ли? Пока Изгин беседовал с профессором, поэт занялся другими сказителями --
благо их в посёлке несколько. Как-то в тихий, на редкость солнечный день старики -- Изгин и
профессор -- сидели на пологой ветхой дюне. Изгин всунул босые ноги в
нагретый песок и не торопясь вспоминал подзабытые названия. Уставший
профессор не спеша записывал их. Изгин смотрел на чистую страницу толстой тетради. Карандаш профессора
коснулся её, оставил маленький след. Вот карандаш медленно зашагал поперёк
листа, и за ним осталась цепочка следов. Но вот он помчался бойко, и цепочка
за цепочкой, как волны на заливе, легли его следы. В стороне послышался раговор. Кто-то говорил глухим голосом. Из-за бугра
появился Латун, бригадир молодых рыбаков. На нём чёрный пиджак, такого же
цвета брюки. Ишь, вырядился. Видно, сегодня рыбаки отдыхают. С ним --
молодой человек, сын сказительницы Тайгук. Молодой человек сочиняет складные
тылгуры -- легенды. Это даже не тылгуры. Стихи называются. А он -- поэт. На другой же день после приезда поэт навестил всех стариков. Изгина
тоже. Старик благодарил молодого человека: далёкий гость принёс ему своё
почтение. Вот и сейчас он подошёл посмотреть, как идут дела у стариков. Сын Тайгук родился и жил в Чайво до возраста пускания корня.
Односельчане уже ждали, что в посёлке появится ещё один очаг. Но юноша,
подхваченный каким-то ветром, сорвался с родных мест и уехал в какое-то
большое русское селение, что, как рассказывают бывалые люди, находится на
расстоянии полжизни пути, если идти пешком. Говорят, там большие дома-скалы,
такие большие, что можно вселить в один из них всех жителей посёлка Чайво с
его колхозом, рыббазой, метеостанцией, магазином и почтой, и ещё утверждают,
тесно не будет. А домов столько, что, если даже заходить не на чай, а просто
так справиться о здоровье жителей, понадобится много месяцев. Сына Тайгук не было пять лет. Вернулся учителем и, как сейчас уже
привыкли нивхи называть его -- поэтом. Те, кто первым слушал его выступление
(слово-то какое, тоже появилось совсем недавно), утверждали: никогда их
слуха не касалось подобное. Вскоре и Изгин услышал его. Сам признанный сказитель, он поразился
обилию ума, вложенного в те немногие слова, что составляют стихи. Поразился
звучности этих слов, стройности и зримости. Многие стихи поэта были одеты в
мудрую печаль. Такое могли говорить лишь уста лучших шаманов, которых Изгину
доводилось видеть в годы своей юности. Этого молодого человека с рюкзаком за плечами видели во всех нивхских
селениях. Изгин встречал на своем веку не одного собирателя сказок. Но этот
удивлял сказителей какой-то ненасытной жадностью к сказаниям, он мог их
слушать часами. Что греха таить, Изгин поначалу делал вид, что знает не много сказаний:
кому охота тратить время на сказки и легенды, когда, допустим, пошла рыба.
Да и язык устаёт. Но вот однажды увидел Изгин: на берегу собралось несколько неводников с
рыбаками и среди них -- кто-то в белой рубахе. Вышел старик
полюбопытствовать, что заинтересовало столько солидных людей. И услышал
неповторимое: казалось, само море вдруг обрело язык и заговорило с людьми --
поэт читал стихи. А вокруг тишина, тишина. Даже слышно, как пена шуршит о
борта лодок. А поэт стоял на груде невода, широко расставив ноги. Левая рука
его энергично согнута, а правая в такт стихам делала круговые движения,
будто он вращал что-то тугое. Его подхватила большая внутренняя сила, и
казалось -- вот-вот он взлетит. Поэт читал стихи о волне. Изгин видел, как на бескрайнем океанском просторе что-то еле заметно
сверкнуло. Плеск. Ещё плеск. И зародилась маленькая волна. Играя с рыбьей
стаей, она все росла и росла. И вот, выгнув спину, поскакала белым
горностаем. Велик океан. Во все стороны одна даль, даль. И помчалась
волна Куда? Зачем? Кто тебя приветит
нежным словом?
Кто тебя
в просторных
далях
ждёт? Но её никто и нигде не ждёт.
Громадина волна, перед которой ничто не устоит, не знает, зачем она
появилась на свет. Ничему не рада,
ни на что не злишься, У тебя, холодной,
никаких страстей.
Забавляясь силой,
вдаль стремишься,
В те края,
откуда
нет
вестей. И вот она, громадная, и вот она, гривастая и в ярости бессильная,
нависла над скалой. Мгновенье! И обрушится всей своей мощью на камни, и
только вспыхнувшие в лучах солнца брызги напомнят: была она громадная,
могучая волна. Поэт кончил читать. Все молчали, захваченные страстным чтением.
Изгину жаль волну, так зря растратившую свою огромную силу. Но вот
какая-то смутная, необъяснимая тревога охватила старика, вытеснила все его
повседневные маленькие заботы. Эта тревога молнией вошла в голову старика,
стала стучать в виски, с настойчивостью дятла, добирающегося до личинки
короеда. Только заметили односельчане: с тех пор уже не поэт искал встречи
со сказителем, а старый человек шёл к поэту и торопился выложить всё, что
слышал от разных сказителей за свою долгую жизнь. И рассказывал до тех пор,
пока неутомимый молодой человек не сдавался: -- Аткычх, передохнём.
И вот стоит поэт перед стариком, высокий, обветренный, как и все
нивхи, с живыми, на редкость большими глазами, окаймлёнными чёрными
ресницами. Брови -- вразлёт, как ястребиные крылья, тонкие, цвета клюквы,
губы. Худощавое лицо живо откликалось на окружающее. -- Работайте, работайте, -- мягко сказал поэт. Чувствовалось, что он
смущён, пришёл и помешал людям. -- Мы с Латуном просто хотели посмотреть,
как вы работаете. Изгин обрадовался молодым людям: им тоже интересно, что говорит старый
человек.
-- Присаживайтесь, нгафкка, -- обратился Изгин к поэту. -- И ты
присаживайся, бригадир, -- сказал Латуну.
-- Раз уж сошлись вместе профессор, поэт и сказитель, надо говорить о
том, что всем интересно, -- сказал Изгин, лукаво прищурив и без того узкие
глаза.
"Сейчас что-нибудь расскажет", -- будто неожиданной приятной находке
обрадовался поэт.
-- Вы, конечно, слышали, что среднее течение нашего залива называется
Харнги-ру. Но не знаете, откуда взялось это название. -- Старик обвёл
собеседников испытующим взглядом. Когда Изгин сказал, что среднее течение залива Чайво у пролива носит
название Харнги-ру, профессор удивлённо глянул на старика. Смотрел с
нескрываемым любопытством. Совсем как подросток, которого посвящают в тайны
охоты. А потом на его блеклые от старости глаза опустилось сомнение. Харнги-ру Харнги-ру Пожалуй, никто в посёлке не задумывается над
тем, почему среднее течение у пролива называтся Харнги-ру. Называется так, и
всё. И никому нет дела до происхождения этого названия. Харнги-ру -- Озеро гагары. На заливе -- и вдруг озеро! Разве может быть
такое?
Очень давно юному Изгину дед (память о нём добрая) рассказал, откуда
взялось это странное и загадочное название. Длинный, сплошь покрытый кедровым стлаником и низкорослым ольшаником
остров, что лежит посредине залива Чайво, некогда был намного шире, чем
сейчас. А на том острове -- озеро. Как-то гагары пролетали над заливом и нашли этот остров с озером. Озеро
удобное: залив под боком, за пищей далеко лететь не надо.
И поселились гагары на этом озере. Свили гнёзда. Кормят детёнышей живой
рыбой. Очень обильно кормят: рыба рядом, сама лезет в клюв.
Детёныши растут сытые, ленивые. Лежат себе в тёплых гнёздах и только
раскрывают рты, чтобы принять рыбу от родителей. Ни летать не хотят, ни
ходить. Так отлежали ноги, что и по сей день не разгибаются. Потому гагары и
не умеют ходить по твёрдому. А ведь другая птица и по воздуху летит, и по
земле ходит. Развелось гагар в озере больше, чем комаров в тайге. Они пожрали всю
мелкую рыбу в заливе. Старые рыбы забеспокоились -- их роду приходит конец.
Обратились они со своим горем к хозяину моря Тол-ызнгу. Приплыл Тол-ызнг к острову. Говорит гагарам:
-- Птицы вы, птицы! Вы наделены крыльями -- расстояния вам нипочём. Вы
наделены умением плавать на воде и под водой -- шторма вам не страшны. Пищу
добыть вам ничего не стоит. Поселитесь снова в отдалённых озёрах.
А гагары тянут шею, чтобы через прибрежные бугры увидеть Тол-ызнга. И
вытянулась шея у гагар длинная-длинная.
Тол-ызнг снова обращается к гагарам:
-- Птицы вы, птицы!..
А гагары издеваются над ним:
-- А-а, а, а-а!
Знают, что Тол-ызнг не достанет их. Он только в море хозяин. Через берег
он не страшен гагарам.
Разгневался Тол-ызнг. Поднял в море страшную бурю. Волны набросились на
берег острова, ударили в склоны побережных бугров. И вскоре разрушили узкий
перешеек, что отделял озеро от залива.
Ещё дед Изгина видел маленькую бухточку, врезанную в остров, -- всё, что
осталось от озера.
А теперь и бухты нет -- прямой, круто обрывающийся к волнам берег.
Гагары разлетелись кто куда.
А море продолжает гневаться и по сей день -- всё рушит и рушит берега Изгин умолк. Но будто видел: над обрывом в молчаливом крике нависли
крючковатые, как пальцы стариков, оголённые корни. Им не за что ухватиться.
И валятся, валятся в море деревья и кусты. Исчезло озеро Харнги-ру. Исчезло много прибрежных дюн. Всё рушится. Всё
исчезает. Исчезнувшее забывается. Ничто не вечно. Вечно только время.
Изгину взгрустнулось от этих невесёлых мыслей. Он шевельнул ногой. По
склону дюны побежала струйка песка. И вот уже ручей низвергается вниз, к
воде. Волны подхватывают песок, и течение выносит его в залив. Пройдёт
немного лет, и не станет дюны, на которой сидит Изгин. Да и сам Изгин скоро
умрёт. Грустно и печально старику. Но тут взглянул на собеседника,
встрепенулся: профессор и поэт торопливо записывали в тетради его слова,
слова старого охотника и сказителя. Цепочка за цепочкой легли волны на
чистые листы. Вечные волны. И старик подумал: вечна и жизнь. Она живёт, передаваясь из поколения в
поколение.
Через полмесяца поэт уехал домой в областной город. С наступлением
перелёта птиц в сторону полудня уехал и профессор.
И остался старый сказитель один. Наедине со своими мыслями и
настроением
Прошлое лето было большой радостью в одинокой, ничем не приметной жизни
Изгина. Он лелеял надежду на его повторение. Но не приезжал ни профессор, ни
поэт. Говорили, что поэт уехал в Москву. Надолго. Теперь Изгин целыми днями чинил лодку и сети, это занятие стало его
повседневной радостью. Хоть старый Изгин, но он остался охотником и рыбаком.
За свою долгую жизнь он хорошо изучил нрав залива. Кто лучше всех в селении определяет течение? А оно изменчивое. Некоторые
бригадиры прямо на рулевых вёслах делают маленькие царапины -- отмечают дни
большой и малой воды. А Изгина увези хоть куда, продержи его там сколько
угодно времени, вернётся к родному заливу, взглянет на его лицо и скажет:
сегодня третий день большой одинарной воды, через неделю будет двойная вода.
А знать воду ой как надо! В большую воду за сутки один длинный прилив и
такой же длинный отлив. А в двойную -- косы не успевают обнажиться, как тут
же вновь заливаются приливной волной. На восточном побережье Сахалина
рыбачут в двойную воду два раза, в большую -- один. В переходный период
между двумя водами первый отлив еле намечается. Но при расторопности можно
сделать замёт. Иногда во время подходов сельди и в толчок притоняют большие
уловы. Но кое-кто по неопытности "зевает" этот миг. Как-то вышел Изгин на берег, взглянул на залив и заметил: через полчаса
вода слегка отхлынет. Но никто и не собирался на рыбалку. Изгин торопливо
направился к Латуну, бригадиру молодёжной бригады. Застал у него многих
рыбаков. Собрались у бригадира и с самым беспечным видом о чём-то говорят.
Латун гостеприимно поднялся навстречу старику и предложил стул. Старик
прошёл мимо высокого неудобного стула, сел у стены на пол, накрест подогнув
под себя ноги, хитро прищурив щёлки-глазки, сказал: -- Уже май месяц, а медведь всё ещё спит в берлоге. А осенью он
удивится: "Что-то произошло в природе -- лето на месяц стало короче".
Молодые рыбаки поняли намёк.
-- Что вы говорите, дедушка! Толчок будет завтра, -- уверенно сказал
Латун.
-- У человека есть слабость: когда он разучится делать своё дело,
начинает поучать других. -- Это сказал Залгин, редкий среди нивхов грубиян,
не признающий разницы ни в возрасте, ни в положении. Товарищи не любили его
за это, но держали в бригаде: работал как нартовая собака. Вокруг раздалось: "Ш-ш-ш-ш". Это на Залгина. А Изгин надел потрёпанную
оленью шапку и гордо вышел. Через час молодые рыбаки стояли на берегу --
тянул слабый отлив. Рыбки, резвясь, выпрыгивали из воды и, сверкнув жирными
брюшками, возвращались в родную стихию. Рыбаки оживлённо говорили о чём-то,
резко жестикулировали. Всё это Изгин видел из окна своего дома. А поздно
вечером, когда рыбаки вернулись с рыбалки, использовав только один отлив,
мимо прошёл старик Изгин. Он шагал с независимым видом: руки заложены за
спину, голова запрокинута, будто старая шапка вдруг настолько отяжелела, что
оттягивала её назад. -- Дедушка, -- донёсся до него виноватый голос Залгина.
Изгин даже не обернулся.
-- Дедушка, а дедушка! -- слышится глухой, хриплый голос.
Это обращается уже бригадир. Ну что ж. Ему можно ответить.
Молодые рыбаки окружили старика.
-- Дедушка, бригада просит извинить Залгина. -- Это сказал бригадир.
-- И ещё, дедушка, я уже третий сезон бригадиром, а нет-нет да и ошибусь
с этим проклятым течением. Научите меня совсем не ошибаться. Изгин внимательно посмотрел на Латуна, потом перевёл суровый взгляд на
Залгина, стоявшего с опущенной головой. Видно, здорово ему досталось от
друзей. Старик глубоко и спокойно вздохнул. Примирение состоялось. Кто
теперь посмеет сказать, что Изгин никому не нужен! Человек -- он всегда
людям нужен. Пусть он будет инвалидом или глубоким старцем -- он нужен
людям. Напротив дома Изгина -- тонь. Её так и называют -- Изгинская. Когда
здесь мечут невод, старик выходит из своего жилища, становится около
питчика, который с помощью деревянного кола регулирует замёт и натяжение
невода, и вслух даёт оценку замету. А увидев, как прибрежной струёй выносит
начало невода, кричит: -- Смотрите, люди! Бригадир выставил пузо! Видно, слишком много рыбы
вошло в невод. Видно, не под силу бригаде притонить его. И бригадир, жалеючи
людей, загородил рыбе вход в невод! Питчик пробежками пытается исправить оплошность бригадира, но замёт,
считай, пропал. Изгина недолюбливали за его острый язык и старческую настырность. Но он
относился к той категории людей, которые всегда бывают правы. И потому его
уважали. Колхозное начальство считалось с его мнением, но решило, что будет
лучше, если держаться от него подальше: уж очень откровенно говорит Изгин о
самых неприятных вещах в работе и поведении членов правления и председателя
колхоза. Рядовые же колхозники поддерживали его -- пусть говорит. Но с годами боевой дух старика истощался. А последнюю зиму он пережил с
трудом. Почти не вставал с постели. Мучил старый, как он сам, недуг --
ревматизм. А тут ещё заболел воспалением лёгких и чуть не ушёл в Млых-во --
селение усопших. Поднялся только весной. Летом мало общался с сородичами.
Лишь изредка спрашивал: не слышно, приедет ли нынче поэт? По селению уже не ходили его остроты. Не докучал бригадирам своими
замечаниями
-- Угомонился, -- говорили одни.
-- Как бы нынче не того -- шептали другие.
Вот уже третий год колхоз застраивается новыми домами. Посеревшие от
времени старые избы были возведены ещё руками Изгина и его сверстников. Они
отслужили своё, и колхоз построил новый посёлок чуть выше прежнего. Старые
же дома разобрали на нё -- амбары для хранения юколы.
Нынче летом последние семьи въехали в новые дома. Изгин же ни в какую не
соглашался покинуть своё старое жильё. Его дом теперь стоял оторванно от
пахнущих смолой коттеджей. Колхоз слегка починил жилище старика. На этом от
него отстали. Последнее лето Изгин отдавался своим давним желаниям. А эти желания, как
больные птицы, не улетали далеко. В мае он ждал наступления июня -- месяца
хода горбуши. В июне с нетерпением ожидал хода кеты, который бывает в конце
августа. Он заготовил много юколы и всё роздал сородичам. Односельчане
удивлялись его беспечности: себе-то не оставил
И опять по селу пополз шёпот:
-- Пожалуй, нынче он того
С особым нетерпением старик ждал наступления зимы. Бывает такое.
Справится человек со своими насущными делами и однажды ловит себя на мысли:
дела поменьше и не очень важные закончены, а главное, большое ещё далеко
впереди. Сделать бы его сейчас, да нельзя -- не время. Остаётся одно --
мучить себя изнурительным ожиданием.
Изгин уже давно закончил приготовления к зиме. И теперь скучал от нечего
делать и ругал себя за его непоспешность. Старик открывал дверь. Та выводила
скрипучую песню, которая вползала в его душу и тяжёлой печалью растекалась в
ней. Открывалась дверь и вместе со светом в глаза лезли старые, никому не
нужные лодки. Их даже на дрова никто не порубит. Пропитанные насквозь солью,
они способны только тлеть, испуская едкий дым. А ведь когда-то и их водили пузатые и деловитые мотодоры. Наполненные
живой сельдью, они важно подходили к приплоткам, где их радостно встречали
сортировщицы и шумная ребятня. Когда-то и с ними заигрывали волны,
плескались вокруг них и играючи прикасались к ним щёчками. А теперь они, никому не нужные, забытые, лежат на берегу. Лишь ветер
навещает их, пролезает сквозь щели, равнодушно гудит в пробоинах и улетает
по своим, только ему известным делам. Да дождь, видя их беспомощность,
злорадно пляшет по открытым днищам. Старику жалко их, и его глаза
покрываются голубовато-белесой плёнкой грусти. Старик старается не глядеть
на лодки, у порога звучно сморкается и мучительно думает: чем бы сегодня
заняться? Потоптавшись минуту в нерешительности, не спеша поворачивается и, сутуло
пригнувшись, влезает в низкую дверь. Медленно проходит в наполненную
сумраком комнату. И начинает переставлять прочные сиденья -- чурки от
лиственницы -- от стены к нарам, потом от нар переносит в угол, где грудится
всякий хлам: дырявый брезентовый дождевик, заплатанная ватная телогрейка,
грязное бельё. Валко ступает в сторону, примеривается, снова хватает чурку,
несёт в передний угол и ставит к свежевыскобленному пыршу -- обеденному
столу на коротких, с рукоятку ножа, ножках. Эта странная для постороннего глаза привычка появилась у него давно,
когда Изгин вошёл в рыболовецкую артель и закрепился на месте.
До времени пускания корня Изгин прожил как и все нивхи: год у него был
строго разбит на сезоны. Когда солнце при своём заходе делает самый длинный
в году шаг -- это сезон лова горбуши. Многотысячные стаи лосося идут из моря
в реки на нерест. И человек выезжает на облюбованное ещё предками урочище и
заготовляет нежную юколу. Когда деревья и травы остановят свой буйный рост и, отдав земле своё
наследство, устало отдыхают, из моря прёт старший брат лососей -- кета. И
человек срывается за косяком рыбы в новые места. Но вот пришли холода. По утрам гулко гремит подмёрзшая земля, уверенно и
обильно падает первый, уже "настоящий" зимний снег, которому суждено
растаять весной последним. Бодрящий воздух, мягкое поскрипывание ещё не
схваченного морозом снега тревожат сердце. Человек чувствует, как он
наливается новой силой. Притихает на какое-то мгновение. Потом вдруг
заволнуется, заспешит. И переезжает всей семьёй с оголённого побережья моря
в тул-во -- зимнее стойбище, -- где под защитой тайги не страшен никакой
буран. Зима долгая-долгая. Но вот солнце стронулось с самого короткого дня.
Месяца через два мужчины заканчивают сезон охоты на соболя и вскоре
переезжают в кэт-во -- в летнее стойбище -- и открывают сезон охоты на
морского зверя во льдах. Каждый переезд -- это новые места, новые дела, новые радости. И так из
года в год в течение многих лет. Когда организовалась рыболовецкая артель, пришёл конец такой жизни.
Изгина мучила тоска по вольным переездам. Каждодневная многолетняя работа в
колхозе приглушила эту тоску. В последние годы вновь заговорил властный зов
тайги. Но старость и болезни держали старика в четырёх стенах тёмного
приземистого дома. И заметили люди: у старика появилась странность. Ни с того ни с сего
Изгин переставлял в доме нехитрую мебель. Высокий русский стол, обшитый
потрескавшейся, выщербленной клеёнкой, переносил от окна к глухой стене,
низкий стол -- пырш -- перетаскивал к нарам, менял местами толстые
чурбаки -- сиденья. Не знали люди, что после таких перестановок в доме убийственная тоска по
странствиям хоть ненадолго, но заглушалась: перестановка мебели создавала
иллюзию смены мест, переездов. В нынешнюю весну перестановки так участились, что замученный длинноногий
стол стал жалобно скрипеть. И чтобы не расшатать его окончательно и как-то
отвадить себя от этой неодолимой потребности, старик прибил большими
гвоздями ножки стола к полу. Шли дни. Долгожданная осень медленно, но вступала в свои права.
Нгаски-ршыхн -- Чересхребтовый ветер, дующий с материка, -- стал настойчивым
и до дерзости властным. Он взбеленил залив, который долго и упорно бил в
берег гривастыми волнами, будто зная, что отсюда ему суждено застывать. Как-то утром привычно пропела дверь, вместе со светом в глаза ударили
силуэты лодок, но за ними старик не увидел живого плеска воды. Как глаза
мертвеца, холодно мерцала тусклая полоса. Старик облегчённо вздохнул:
скоро
А пока он решил заняться промыслом нерп. Осенью нерпы не уходят в
море -- в заливе достаточно пищи. Они просасывают тонкий лёд и дышат через
отдушины. Иногда выходят на лёд. Тогда их видно на ледяной пустыне за много
километров.
Ещё несколько дней стужи, и по заливу можно ехать. Изгин заточил лёгкий
гарпун, подтянул на нарте ремни, обрубком лесины подпёр дверь, чтобы
бродячие собаки не проникли в дом, и первым в селении открыл сезон дороги.
Откормленные собаки рванули и понесли Изгина к острову Лежбище. По целине
ещё не сбитого ветрами снега чётко обозначились две узкие полоски -- след
Изгиновой нарты. Попарно привязанные к потягу собаки мчали легко. Над
заливом взлетала длинная песня полозьев. Впереди упряжки, соединённый с
потягом длинной постромкой, резво бежал передовик Кенграй. Он знал, куда его
направил хозяин. Каждую осень Кенграй ведёт упряжку на остров. Там его и всю
упряжку ждет свежее мясо нерпы. Старик не командует собаками -- передовик
отлично знает дорогу. Вдруг Кенграй резко бросился в сторону. Упряжка с визгом пошла за ним.
Изгин не остановил нарту, а только слегка притормозил. Кенграй, тыча носом,
стал разгребать чуть приметный бугор. Под тонким снегом оказалась чёрная
вода. Отдушина! Обрадованный старик не по возрасту ловко спрыгнул с нарты и
отметил её веткой ольхи, прихваченной на всякий случай. Нерпа этой отдушины
по нивхским обычаям уже имела хозяина. Теперь если кто-нибудь добудет её,
обязательно отдаст хозяину отдушины.
Покосившаяся бревенчатая изба, припорошенная свежим снегом, дохнула
на хозяина холодным сумраком. Изгин внёс меховую постель, юколу для себя и
собак, кастрюлю и остальные вещи. Затопил железную печку сухими
прошлогодними дровами, что аккуратно сложены у стены.
Изгин проснулся с мыслью: не проспал ли? Было темно и холодно --
избушка остыла за ночь. Маленькое окно -- будто грязный листок бумаги:
начинался рассвет. Старик приподнялся на локтях, старость больно отдалась в
позвоночнике. Кряхтя, поднялся и разжёг печь. Позавтракал юколой и вышел. Солнца ещё не было, но даль хорошо
проглядывалась. Старик от радости вздрогнул -- на белой, как простыня,
поверхности залива чернели три крупные точки. Это нерпы. Сегодня первый день
охоты по замёрзшему заливу. Старик надел белый маскировочный халат, взял
изящный гарпун и малокалиберную пятизарядку и спустился на лёд. Изгин долго целился. Нерпа взмахнула ластами, красиво изогнулась и
ушла в отдушину, будто пронзила лёд. Капли крови на снегу говорили о лёгком
ранении.
-- Эх, хе-хе-е-е -- только и сказал Изгин.
Вторую нерпу, маленькую, взял. Третья не подпустила на выстрел. Неудача
не огорчила охотника. Чего хорошего ждать, когда он не соблюдает даже самых
простых обычаев. Ведь перед охотой надо было задобрить хозяина моря
Тол-ызнга. Старик отругал себя за поспешность. Вернувшись в избу, Изгин вытащил из мешка кулёчек с рисовой крупой,
которую прихватил не для того, чтобы после охоты баловать себя душистой
кашей или наваристым бульоном, а специально для жертвоприношений, отсыпал
горсть крупы, выложил из пачки несколько папирос, что предназначены для той
же цели, так как Изгин не приучил себя к курению, и не поленился сходить за
целый километр к отдушине. -- Будь благожелателен ко мне, дряхлому старику. Угостил бы тебя, да
нечем: беден я, -- сказал, мягким движением бросая в воду приношения. Изгин больше месяца не ел свеженины. Потому, не откладывая надолго,
ловко разделал нерпу, закусил сладкой печёнкой, сварил и съел нежную требуху
с кровью. Голову нерпы обсосал и закопал под обрывом -- пусть другие нерпы
не думают, что Изгин дурно обращается с их сородичами. В последующие два дня старик добыл только одну нерпу.
"Ничего, -- успокоил он себя, -- только начало охоты".
Как-то, поднимаясь с залива на берег, Изгин заметил: под обрывом в снегу
мелькнул рыжий хвост. Неужто лиса? Чего она подошла прямо к избе, ведь
собаки рядом? Лиса вынырнула из снега -- в зубах голова нерпы. Это была
молодая, совсем светлая лиса. Она тонко тявкнула на человека и, дразня
собак, помчалась прибрежными буграми. Следы лис стали попадаться часто. Но старик не обращал на них
внимания -- мех ещё недостаточно вылинял. Да и охота на этих прекрасных
ходоков -- большая трата сил. А старик уже не может долго стоять на лыжах. В пятое утро вышел Изгин из своей избушки да так и замер: семь нерп
лежало на ледяном панцире залива. К первой подкрался близко, но она успела
уйти в отдушину. Другие нерпы лежали в отдалении и не могли заметить
человека в белом халате. Старик решил подождать: если у нерпы нет второй
отдушины, она через несколько минут высунет нос, чтобы вдохнуть воздух. Так и есть. Вода запузырилась, забулькала, и показался буроватый усатый
нос. Изгин с силой вонзил в него гарпун. Нерпа рванула и сдёрнула наконечник
гарпуна с древка, но ремень, связывающий их, не дал ей уйти. Ремень
натянулся, зазвенел тетивой тугого лука, с него бусинками брызнула вода.
Нерпа вырывалась, но жало наконечника с открылками прочно засело в слое жира
под кожей. Изгин с трудом подтянул нерпу, коротко и хлёстко ударил палкой по
голове, вытащил на лёд. Ко второй подкрался близко и тут увидел: она без головы. А следующая
нерпа была с разодранным горлом. Это мог сделать только Он. Да, да, Он. Это
его работа. Старик обрадовался тому, что у его друга клыки ещё сильны. Он, конечно, знает, что Изгин одряхлел и очень нуждается в его помощи.
Он явился ночью. Как всегда, мастерски подкрался к нерпам и ударами клыков
умертвил их. Это Он приготовил подарок своему давнишнему другу. Сам же,
должно быть, сейчас отдыхает в буграх острова. Полдня Изгин занимался тем, что свозил дар друга к избушке и варил пищу
себе и собакам После крепкого чая он обычно ложился отдыхать. Сегодня же после встречи
со старым другом ему не лежалось. А он-то думал, что больше не увидит его,
вышел на залив, нашёл след. Старик узнает его среди тысячи лисьих следов. Он
крупный, как у ездовой собаки. Старик пригнулся над ним -- когти
притупились, почти не обозначались на снегу. Да, стар. Эта зима -- последняя
зима старого друга. Такова воля природы. Изгин лишь ускорит его конец. Чего
ему зря мучиться? Они впервые встретились восемь лет назад. Как-то днём Изгин рассматривал
в бинокль поверхность залива и вдруг заметил: от Лесистого мыса к лежбищу
движется чёрная точка. Вскоре он узнал, что это длиннохвостая собака.
Наверно, сука, решил Изгин. Собака пробежала мимо него в нескольких шагах. И
только тогда Изгин распознал в ней чёрно-бурого лисовина. Схватил ружьё, но
зверь скрылся за ропаком. А спустя минуту старик уже радовался, что не убил
дорогую лису.
В далёкие времена Изгиновой юности каждый род нивхов имел свои охотничьи
угодья. У отцов Изгина было большое урочище за Лесистым мысом. Летом и
осенью там собирали ягоду и орехи, зимой охотились на соболя. Но главным его
богатством, считались чёрно-бурые лисы. Отцы Изгина выкапывали из нор лисят
и держали в посёлке. Тогда чуть не у каждого дома можно было видеть
маленькие хатки. Тонкий лай лис перемешивался с грубым лаем нартовых собак.
И этот хор можно было услышать почти во всех нивхских селениях. На племя
оставляли несколько пар лучших чернобурок. Чувствуя покровительство
человека, звери не уходили из урочища. Со временем нивхи перестали держать
лис. И никто уже не интересовался норами, расположенными далеко от селения.
С некоторых пор охотники стали замечать, что помеси чёрнобурых и рыжих
лис -- крестовок и сиводушек -- стало больше. А потом у промысловиков
появились дальнобойные ружья, охотники преследовали дорогих зверей и выбили
почти всех. Бывали зимы, когда чернобурок не встречал ни один охотник с
побережья. Вот как мало их стало! Когда Изгин впервые увидел лисовина, у охотника появилось такое чувство,
какое появляется при встрече единственного брата после долгой, полной
неизвестности разлуки. Наверно, это потомок чернобурок Лесистого мыса.
Где-то глубоко в душе шевельнулось придавленное толстым слоем времени
чувство -- чувство хозяина и покровителя. Первая мысль была: как бы лисовин
ненароком не нарвался на чей-нибудь выстрел. В течение зимы Изгин и лисовин встречались несколько раз. Человек
отгонял зверя от косы, по которой ходили охотники. Лисовин уходил спать в
сторону Лесистого мыса. Его переход на залив и косу лежал через остров
Лежбище. При каждой встрече радость заполняла душу Изгина, и он разговаривал
с лисовином как с родным. А тот, отбежав немного, садился, рассматривал
человека и, оглядываясь, медленно уходил. Лисовин перестал бояться Изгина. И не надо, умница! Знай своё дело --
размножайся. Несколько раз лисовин попадал в облаву охотников, но перепрыгивал флажки
и уходил, дразня стрелков богатым пушистым хвостом. Он крупный и сильный. О
нём в селениях ходили легенды и поверья: будто это не лиса, а дух,
обернувшийся в дорогую лису, показывается людям, чтобы напомнить о себе.
В феврале во время гона лисовин водит целую стаю самок. Другие самцы
боятся его -- уж очень сильны челюсти у чёрно-бурого, а удар широкой грудью
может любого сшибить с ног. А в следующую зиму охотники добывали крестовок и
сиводушек. И никто не знал, что надо благодарить не всевышнего, а Изгина,
Изгин же от этой доброй тайны испытывал неописуемую радость.
С годами спина лисовина всё больше и больше седела. И уже на шестую зиму
она сплошь заискрилась серебром, и шкура лисовина стала дороже, чем шкура
самого тёмного соболя.
Лисовин -- прекрасный охотник. За утро с ходу убивал не одну заспавшуюся
нерпу. Он без труда мог зарезать оленя-нялака [Олень-нялак -- молодой
олень-двухлеток.]. Его добычу подбирал вместе с лисами и Изгин. И усердно
благодарил прекрасного охотника. И ещё старательнее следил, чтобы лисовин не
ходил на косу.
В прошлую зиму Изгин видел своего старого друга. Тогда Изгину стало не
по себе -- лисовин утратил гибкость, позвоночник его огрубел, шаг потерял
изящную размашистость, задние лапы не ложились во вмятины от передних;
великолепный чок -- округлый единый след от передней и задней лап -- был
потерян, и след получался размазанный. Изгину стало больно от мысли, что и
его друга настигла безжалостная старость. Теперь Изгина беспокоила другая
мысль: лисовин подохнет где-нибудь в тайге и никто так и не оценит
редкостную шкуру.
В прошлом году во время гона состоялась их последняя встреча. А лисовин
был один. Наверно, он уже не самец, с болью подумал старик, но не стал
стрелять -- шкура линяла.
Вскоре охотник слёг и только к лету встал с постели.
В эту осень один из охотников на позднюю утку рассказывал, что видел
молодую бурую лису. Хотя она не успела надеть "выходную" шубку, можно
полагать, что это крестовка. Неужели это потомок лисовина? Неужели он ещё
может продолжать свой дорогой род? Чувство, похожее на надежду, вселилось в
душу Изгина и стало тревожить и звать в дорогу. Но силы Старика всё лето мучила мысль: станет ли он на охотничью тропу? Кое-кто
в селении поговаривал, что старик отправил на пенсию своё охотничье сердце.
Но больнее всего было самому признаться в этом. "Я ещё покажу, на что
способен!" -- вдруг рассердившись, сказал он себе.
Тяжелогружёная нарта с трудом дотащилась до посёлка.
Изгин остановил нарту у своего дома, закрепил её остолом, начальный
конец потяга с передовиком Кенграем привязал к колышку и, отодвинув обрубок
лесины, толкнул дверь. Он замер от неожиданности -- в стороне, у стены
лежала большая мёрзлая нерпа. Старик понял: это нерпа из отмеченной
отдушины. Нивхи строго соблюдают добрые обычаи.
То ли продуло по дороге, то ли остыл во время ожидания нерп у отдушины,
но стоило попасть в тепло, как заныли все суставы. Ночью то и дело
просыпался от боли в позвоночнике и потом долго не мог уснуть. Теперь старик целыми днями лежал на оленьих шкурах поверх низкой полати
и смотрел на огненный живой глаз-кружок в дверце постоянно горящей печки.
Тут забуранило на неделю, и Изгин радовался: не надо подниматься с постели.
Его навещали родственники, друзья-старики. Приносили гостинцы: мягкую юколу
из тайменя и свежий топлёный жир нерпы. При посетителях он старался
держаться бодрее. Прошёл буран.
Но старик не поднялся. Он пролежал до большого февральского бурана и
встал лишь тогда, когда над миром установилась морозная, тихая до звона в
ушах, солнечная погода. Изгин торопился -- неизвестно, что будет через несколько дней. Может
быть, его снова повалит болезнь. А пока чувствует себя вполне сносно. Скорей
в тайгу! Но у него нет широких лыж. Изгин попросил их у старика Тугуна,
который уже два сезона не становился на лыжи, но хранит охотничьи
принадлежности -- память о былой славе. -- Зачем тебе мои лыжи? -- едва веря в услышанное, спросил Тугун.
-- Похожу по тайге, -- тихо ответил Изгин.
-- Ты же не оправился после болезни, -- сказал Тугун, а сам подумал:
старость -- такая болезнь, от которой не оправляются.
-- Я хорошо чувствую себя. Дай лыжи. Я похожу по тайге, -- голос Изгина
дрожал. Было похоже, что это его последнее желание.
Лесистый мыс за спиной.
Звериный инстинкт подсказывал: нужно идти гуськом. Но мешал потяг --
прочная, сплетённая из тонких верёвок бечёвка, к которой попарно привязаны
собаки. И собаки тонули в рыхлом снегу на глубину своего роста.
Со стороны казалось бы: по снегу скользит цепочка стройных острых ушей,
а за ними -- полчеловека Тяжелее всех Кенграю: ему пробивать дорогу.
А каюр спешил: надо успеть засветло добраться до каменистых россыпей.
-- Та-та!
Собаки дружнее налегают, постромки упруго гудят. Но через несколько
минут упряжка снова сдаёт. Из груди, сдавленной широким ремнем --
хомутом, -- с тяжёлым свистом вырывается воздух. Языки провисли на добрую
ладонь.
Собаки на ходу беспрестанно хватают снег. Вот упряжка совсем встала. Собаки виновато оглядываются на хозяина, их
верные глаза говорят: сейчас мы снова пойдём, дай только немного
передохнуть.
-- Та-та!
Упряжка пошла. Медленно и трудно, огибая лома -- нагромождения
поваленного леса, -- обходя придавленные невзгодами суковатые деревья.
Иногда какой-нибудь пёс падал под лежалый ствол, исчезал в снегу с головой.
И каюр останавливал нарту: пока пёс выкарабкается из рыхлого снега, совсем
выбьется из сил. День на исходе. А до россыпей ещё далеко. Охотник в этих местах впервые.
Но идёт верно, по приметам, подсказанным отцом, когда Изгин был в возрасте
посвящения в охотники: кончится марь, пойдут отроги, что на расстоянии двух
дней быстрой ходьбы, после понижения переходят в отвесные горы. До гор не
доходить. Идти долиной маленькой речки. Слева и справа долина прорезается
несколькими расщелинами. Выше она сужается. На расстоянии полутора дней
ходьбы отроги, что идут по правую руку, обрываются, и поперёк твоему ходу
поднимается круглая сопка с обвалившимися склонами. В этих россыпях раньше
было обиталище чернобурок. За сопку лисы не заходят -- там поперечная
расщелина покрывается глубоким снегом. В неё ветры не проникают, и снег всю
зиму лежит рыхлый. Звери не любят эту расщелину. Лисы отвоевали долину речушки, берущей начало у основания Округлой
сопки. И жируют в ней и летом, и зимой. Благо в долине много пищи: кедровых
орехов, ягод, мышей, боровой дичи -- глухарей и рябчиков. В речушку большими
косяками входит летом горбуша, а осенью -- кета. Рыба мечет икру. А после,
дохлую, её выносит течением на песчаные мели.
-- Та-та!
Собаки идут шагом. Уже не свист вырывается из их сильной груди -- слышен
хрип, как будто на горле собак сомкнулись челюсти медведя.
Охотник становится на широкие лыжи и выходит вперёд. За ним упряжка с
пустой нартой. Справа показался распадок, заросший густым невысоким ельником. Возможно,
лет пятьдесят назад здесь был пожар, и деревья не успели вытянуться.
Уже сумрак незаметно опустился на тайгу. И под кронами пихты и ели
сгустились тени. А отроги тянутся, тянутся, и конца им не видно. -- Порш! -- тихо и как-то безразлично, будто покорившись непреодолимости
пути, говорит каюр.
Собаки тут же залегли. Их бока вздымаются часто-часто, как маленькие
кузнечные мехи. Собаки жадно глотают снег.
-- Вам очень жарко. Замучил я вас, -- как бы извиняясь, говорит каюр.
Те в ответ благодарно виляют обрубками хвостов. Каюр не стал привязывать нарту к дереву -- уставшая упряжка без причины
не сойдёт с места, -- закрепил одним остолом.
Огляделся. Тёмные тучи набросили на землю мглистую тень. У горизонта
морозно алела узкая, как лезвие охотничьего ножа, полоска. Тихо. Погода
вроде бы не изменится. Редкие прямоствольные лиственницы вынесли оголённые ветки до самого
неба. На сучьях снег -- будто кто-то невидимой рукой разложил по толстым
ветвям ломти тюленьего сала. Тайга отрешённо и спокойно бормочет свои вечные
слова. Похоже, что великой тайге совершенно безразлично, кто вошёл в неё:
зверь ли, птица ли, человек. Сумрак сгущался.
Изгин поводил плечами и походил поясницей, изгоняя озноб, овладевший им.
Когда руки немного отошли, схватил топор и пошёл выбирать сухое дерево. У
старика строго-настрого заведено -- в любых условиях не отказывать себе на
ночь в горячем чае. Нарубил сухих сучьев, повалил две нетолстые сухостойные лиственницы,
перетаскал к нарте. Для растопки содрал с деревьев рыжую бороду -- лохматый
лишайник бородач. Через несколько минут затрещал сухой бездымный костёр. Старик туго набил
снегом обгорелый чайник и подвесил его над костром. Нужно ещё накормить собак. Изгин отрезал кусок сала величиной с
пол-ладони и, подцепив кончиком ножа, точно бросил ближайшему псу --
высоконогому Аунгу. Тот на лету поймал предназначенную ему порцию. Второй
кусок перелетел через голову Аунга и угодил в пасть жадному вислоухому
Мирлу. Через несколько минут вся упряжка закусила мороженым салом, после
чего принялась грызть мясистую юколу. Вскоре поспел кипяток. Старик опустил щепоть чая в поллитровую
алюминиевую кружку, достал из мешка варёного мяса, немного хлеба и стал
жевать в задумчивости. Горящие угли тонко запели. Дух огня напоминал о себе. Изгин отломил
кусок хлеба и юколы, бросил в костёр: вот тебе, добрый дух. Сделай, чтобы
больному старому охотнику сопутствовала удача. Чух! Когда старик закончил свою нехитрую трапезу, уже совсем стемнело. В небе
кое-где бледно мерцали высвеченные костром звёзды. Пора спать. Обложил костёр с двух сторон лесинами, наладил нодью --
долгий таёжный огонь. Нодья будет тлеть всю ночь.
Рядом с лесиной выбил ногами яму в снегу. Положил на дно оленью шкуру и
лёг спиной к костру, мысленно попросив хозяина тайги всех благополучий в
трудной дороге таёжного охотника. Выбрал удобную позу, натянул на голову
большой меховой воротник от оленьей дохи и глухо позвал:
-- К'а!
Собаки в упряжке привычно подошли к своему хозяину и тесно залегли
вокруг него.
В эту ночь старику снился молодой поэт
Едва развиднелось, а старик уже был на ногах.
Высокие слоистые облака обложили всё небо. Сквозь них слабо сочился
скупой свет нового дня. Было тихо, будто закрыли все ворота, откуда мог вырваться ветер и,
радуясь своему освобождению, пронестись по свету.
Нодья почти вся сгорела -- остались одни обугленные концы сушняка.
Человек собрал сучья, нарубил тонкого сухостоя. И второй раз в этой огромной
дикой местности запылал маленький костерок. Налетела стая таёжных бродяг -- мрачных остроклювых кедровок. Они
расселись на ближайших деревьях и резким картавым криком нагло вопрошали:
чем бы поживиться? Прилетели две маленькие черноголовые синицы. Сели на пенёк, уставились
бусинками глаз на невидаль -- костёр, о чем-то между собой затенькали.
Погреться прилетели. Так подсаживайтесь к огню. Всем тепла хватит. Но
синички повертели чёрными головками, невесомо вспорхнули на высокую пихту и
стали прыгать с ветки на ветку, внимательно и зорко всматриваясь между
хвоинками -- пташки вылетели на завтрак. Горячий чай выгнал остатки стужи, которая, воспользовавшись сном
старика, закралась под самое сердце.
Изгин решил не мучить собак -- лес стал гуще, снег глубокий и рыхлый.
Растянул упряжку на всю длину потяга, чтобы собаки не запутались в
постромках, дал им мороженой наваги и немного сала (кто знает, сколько ему
бродить по тайге) и стал на лыжи. Кенграй и Мирл оторвались от корма: ты что, уходишь без нас?
Охотник оглянулся: уже вся упряжка недоуменно смотрела ему вслед. Старик
налёг на лыжную палку и быстрее заскользил между деревьями.
Рассыпающийся целинный снег мягко ложится под лёгкие охотничьи лыжи,
обшитые камусом -- мехом из оленьих лапок. Лес поредел. И вскоре деревья раздвинулись.
Изгин пересёк чистую низину, углубился в ольшаник. Охотник не
сомневался, что идёт по переходу лисовина. И действительно, между кустами,
где снег не переметает, он наткнулся на тропу. И старое, уставшее от
пережитого сердце вновь сообщило о себе: застучало радостно и взволнованно. Последний, трёхдневной давности, след уходил в сторону тайги. Лисовин
делал частые галсы в сопки. Но основная тропа вела в верховья речки.
На повороте от речушки Изгин вдруг наткнулся на лыжню. Она уперлась в
след лисовина, дала несколько лучей в сторону, оборвалась: человек вернулся
своим следом. Судя по всему -- здесь побывал опытный охотник. Только
намётанный глаз Изгина мог заметить места ставки капканов. Их четыре.
Человек был здесь позавчера. Надо обойти чужие капканы, нельзя мешать
другому охотнику. Это закон тайги. Но вдруг старик рассердился. Ведь чёрно-бурый лисовин принадлежит ему,
Изгину. А тут кто-то другой покушается на его драгоценность. Но мог ли кто
знать, что ты оберегаешь лисовина уже много лет, что дорогая шкура при
желании уже давно составила бы венец твоей охотничьей славы? Тот, кто
поставил капканы, конечно, не знал о намерениях Изгина. Получается, что
Изгину нужно не мешать тому охотиться. От такой мысли стало совсем плохо.
-- У-у-у, -- злится старик. Он ненавидит охотников, которые, поставив
капканы, сидят дома и пьют чай. Ловись, зверь, ловись. Впрочем, чего я
мучаюсь, -- обрадовался Изгин. -- Ты лови себе капканами, а я похожу по
тайге, -- мирно и окончательно договорился старик с отсутствующим
соперником. Потянул слабый ветер. На полянах взметнулись струйки сухого снега и
змейками поползли к опушке, исчезли там в кустах. А в лесу -- тихо. Лишь
лиственницы таинственно шушукаются своими верхушками. Слева появился узкий, как щель, оголенный распадок. Лишь кое-где на его
крутых склонах зацепился кустарник, теперь утопленный в снегу до ветвей.
Затем справа отроги заметно понизились. Скоро! Утром небо было светло-серым, сейчас оно стало мглистым. "Успею
обернуться", -- успокоил себя старик.
А вон впереди за двумя излучинами долины -- сопка.
Ещё немного, и начнутся бугры и россыпи -- дом лисовина.
Подходя к ним, Изгин нашёл сегодняшние следы. Лисовин мышковал на пойме
и вернулся к каменистым россыпям. Тяжело переступая, старик поднялся на первый бугор. Оглянулся по
сторонам -- не видно лисовина.
Дорога утомила старика, хотелось сесть, привалиться к дереву и
расслабить ноги. Изгину стало жаль своих верных ног, так долго служивших
ему. Пора им на покой. А он заставил их так много трудиться. Но надо ещё
осмотреть другие бугры. Да поспешая -- погода что-то не нравится.
Изгин чуть не вспугнул того, кого так долго искал. На снегу под
нависшими ветвями ольхи чётко обозначился чёрный круг. От волнения старик
чуть не присел. Сердце колотилось так гулко, что казалось, лисовин слышит
его удары. "Он, конечно, знает, что я здесь, -- думает Изгин, -- он не
уйдёт. Он позволит мне взять его шкуру". Метрах в двадцати от лисовина топорщится куст кедрового стланика.
Отличное укрытие! Подход удобный. Изгин стал подкрадываться. Нагнувшись до
ломоты в спине, он медленно и мягко переступал широкими лыжами. Мех, которым
обшиты лыжи, смягчал шелест, рыхлый снег скрадывает звуки движения. Лисовин,
не шевелясь, дважды поднимал уши, прядал ими. Изгин останавливался и
старался не дышать. Наконец вплотную подошёл к кусту и неслышно положил
ствол ружья на ветку. Не нужно спешить. Нужно сперва успокоить сердце.
Лисовин хорошо виден. Отдохну и тогда буду стрелять. Но тут в старике
что-то поднялось и запротестовало. Нет, он не будет стрелять в спящего
лисовина, который щедро дарил ему нерп и оленей. Стрелять в спящего зверя
нехорошо. И притом Изгин так соскучился по другу, что ему непреоборимо
захотелось увидеть его во всей красоте. Хотелось поднять его, посмотреть
живого в невиданной шкуре и тогда уже Рядом с лисовином -- несколько чашеобразных вмятин: видно, это его
любимое место отдыха. Нет, в спящего зверя Изгин не будет стрелять.
Как бы угадав желание человека, лисовин поднял голову, невозмутимо
зевнул. Озираясь вокруг, потянул воздух. Встал на толстые лапы и
встряхнулся. По всей спине, от головы до хвоста, пробежала серебристая
пересыпь. Изгину даже явственно послышался звон -- будто рассыпались
серебряные деньги. Лисовин сейчас будет купаться в снегу. Так и есть, он вытянул морду,
подогнул передние лапы, оттолкнулся задними и проехался на брюхе. Затем
перевернулся на спину, перекатился с боку на бок, встал и встряхнулся. На лисовине очень дорогая шкура. Такую шкуру Изгин за свою долгую жизнь
впервые видел. Вот она. Уже в руках Изгина. Такая добыча! -- мечта охотников
всего света. Перед тем как нажать на спусковой крючок, Изгин ещё раз внимательно
оглядел друга. Он стар. Уже не нужен природе. Всё равно умрёт где-то в
тайге, и его съедят другие звери, и бесценная шкура так и не найдёт своего
ценителя. Изгин убедил себя, что убиение столь дорогого зверя оправданно. Пусть
послужит своему другу и покровителю последний раз.
Изгину стало немного неловко, когда он поймал себя на мысли -- о нём
напишут в районной газете. Может, сфотографируют. А что? Пусть пропишут в
газете! Пусть все узнают, что лучший охотник -- это Изгин. На закате жизни
Изгина посетит большая охотничья слава. Старик снял с правой руки мягкую рукавицу из нерпичьей кожи, приник к
прицелу и плавно положил палец на холодный спусковой крючок. Глубоко
вздохнул, медленно выдохнул, задержал дыхание. Мушка направлена точно в
голову зверя. Сейчас выстрел громко известит миру о неслыханном успехе
старого охотника Изгина. И вдруг -- будто пламя из охотничьего ружья. Изгин вздрогнул и поднял
голову. Красная молодая лисица вылетела из-за куста, играючи прилегла перед
красавцем лисовином. Гибко и упруго заходила всем телом. Виляя хвостом,
обошла лисовина вокруг. Изогнувшись, рыбой взметнулась перед его носом.
Лисовин, как бы отбиваясь от нахлынувшей напасти, поднял переднюю лапу. Его
толстый пушистый хвост заходил кругами. Это был свадебный танец.
"Ты ещё можешь!" -- изумился охотник. Его руки вяло опустились.
Лиса, извиваясь в страстном танце, звала лисовина. Лисовин принял вызов.
Резвясь, они скрылись вдали.
"Пусть поживёт до следующей зимы", -- спокойно подумал Изгин. Но тут же
испугался своей дерзости. Он повернулся как-то неловко. Резкая боль пронзила поясницу и взлетела
по слине. "Что это?" -- почему-то безразлично подумал старик.
Но одна мысль стала тревожно и настойчиво стучать в виски: там, на
тропе, капканы! Там, на тропе, капканы!! Старик несколько раз жадно схватил ртом морозный воздух, собрал все
остатки сил и, убедившись, что может идти, двинулся своей лыжнёй назад.
Началась позёмка. Ноги подкашиваются. Суставы скрипят, будто снег в
мороз. Вот и место ставки. Теперь невозможно найти капканы: замело. И старик
стал наугад протыкать снег. Он устал от ходьбы, ожесточился и ошалело тыкал
палкой. Как сквозь полусон услышал лязг металла. Сломал палку на месте
прихвата челюстей капкана -- сил не осталось разжать их. "Что ты
делаешь!" -- кричит кто-то. "Нельзя так", -- отвечает помрачневшее сознание.
А руки продолжают делать своё. Ещё два раза слышал Изгин лязг металла. Четвёртый капкан так и не нашёл.
Как же быть? Тогда к нему пришла спасительная мысль -- нужно оставить запах
человека. Ни один зверь даже близко не подойдёт! И старик помочился на куст
ольхи.
Усталость валила с ног. Но тут старик забыл об усталости -- его осенила пугливая мысль. Если бы
кто-нибудь был рядом, то заметил бы: старик весь преобразился. Он медленно
повёл головою вокруг, посмотрел сперва на неясный след лисовина, потом
взглянул в сторону сопки, куда скрылись лисы, и неожиданно отчётливо сказал
вслух: "Я ещё вернусь сюда". Но от этой дерзости его передёрнуло. И опять вспухла голова. И опять туман застлал глаза. И опять одолела
страшная усталось, будто он только что завершил большой, отнявший у него все
силы труд.
Но надо идти. Ветер настойчиво толкает в спину. С неба валит крупный снег. Снежинки кружатся перед глазами, слегка
завихриваются. Снег пушистый-пушистый. Мягко ложится на плечи, шапку и лицо.
О-о, как много снегу! Тонут широкие лыжи. Старик переступает с таким трудом, будто не снег
налипает на лыжи -- свинец. Изгин жадно хватает воздух пересохшим ртом. Но
воздух будто лишился живительной силы. Старик весь мокрый. А дорога ещё
длинная-длинная И видит: высоко выпрыгивая из снега и с головой проваливаясь в нём,
скачет навстречу зверь. Скачет трудно, из последних сил. Скачет так, будто
перед ним быстроногая добыча, которую он настигнет следующим прыжком. Старик
обрадованно остановился, узнав в скачущем звере Кенграя. Умный пёс,
по-видимому, забеспокоился в долгом ожидании хозяина. Снялся с ошейника и
пошёл по заметённому следу. Кенграй в прыжке обдал хозяина комьями снега и, радостно повизгивая,
завертелся у его ног. У старика же не осталось сил поласкать верного друга.
Собака нетерпеливо порывается вперёд, останавливается, поджидает
хозяина, возвращается к нему. Кенграй недоуменно, не мигая, смотрит на
хозяина. Что-то смутное и тревожное овладевает собакой, и Кенграй жалостливо
скулит. Сквозь наплывший на глаза мутный туман Изгин благодарно смотрит на
собаку -- Идём, Кенграй, идём, -- с усилием говорит старик
----------
Last edit by: aborigen at 28.02.2010 16:12:28
|
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
25.05.2010 22:14
|
8.
@Aborigen
Но надо идти. Ветер настойчиво толкает в спину.Владимир САНГИ ЛОЖНЫЙ ГОН Предки зовут Маленькие медвежьи глаза Мирла злобно сверкнули. На могучем загривке предостерегающе вздыбилась жесткая шерсть. Низко наклонив округлую медвежью голову, он зарычал, обнажая острые клыки. Необычная обстановка нервировала собаку. Будто гром ударил рядом, и все вокруг заходило упругой дрожью. Мирл попятился, трусливо прижался к Нехану, жалобно взвизгнул, будто над ними занесли палку, и бросился под сиденье. Только два зеленых огонька по-волчьи мерцали в сумраке. Кенграй же прижал уши, нервно замигал припухлыми, мягкими веками и доверительно положил удлиненную лисью морду на колени Пларгуна. В глазах собаки было удивление: что происходит?.. Пларгун ласково почесал пса за ухом. Мелкая дрожь пробежала по вылинявшей спине Кенграя. Мотор надсадно взревел. Вскоре рев перешел в напряженный вой. Вертолет оторвался от земли и криво взмыл. Пларгуна точно вдавило в жесткое сиденье. Казалось, кто-то невидимой рукой схватил сердце юноши и потянул вниз. Плоская земля вдруг накренилась, стала на ребро и покатилась навстречу. Пларгун, опасаясь упасть, крепко вцепился в жесткие края сиденья. Лучка не по возрасту проворно соскочил на верткий, как лодка-долбленка, пол, распластался на нем, пытаясь обхватить его руками. Он боялся, что этот ненадежный пол вывернется из-под него и сбросит его в пустоту. Только Нехан не волновался. Широко расставив ноги, он сидел прочно. Нехан глянул на распластавшегося старика и весь затрясся в хохоте. Пларгун слышал сквозь гул мотора: будто грохотал о камни осенний прибой. Юноша позавидовал силе легких знаменитого охотника. С такими легкими не страшны никакие переходы, никакие перевалы. А Нехан, запрокинув голову, трясся всем своим крупным телом, и казалось: это он могучим хохотом растряс машину. Вертолет, описав над полем полукруг, выровнялся и, набирая высоту, пошел ровно, без срывов. Старик вначале встал на четвереньки, потом медленно поднялся и, убедившись, что машина надежно держит его в воздухе, сел на сиденье, конфузливо улыбаясь. Оправляя жиденькую бородку, он повертел головой в разные стороны. А Нехан все хохотал. Мясистые, наплывшие друг на друга веки совсем сомкнулись, и из узких щелей по щекам катились слезы. Он вытирал их пухлой ладонью. Пларгун отвернулся. В круглом окошке неслась навстречу темная бесконечная тайга, местами разреженная бурыми проплешинами -- марями с четко вырезанными на них окнами -- озерами. Пларгун увидел: в бесконечной тайге с сопками, марями, реками и озерами проложены узкие светлые полоски. Это трассы, прорубленные геофизиками и лесниками. Когда они только успели сделать это?.. А вон на сопках и возвышениях желтые пятна, с высоты напоминающие куропачьи лунки. Они разбросаны на многие десятки километров. Это ищут нефть. Слева, отсеченный от моря длинной бугристой косой, покрытой кустами ольшаника, открылся залив Нга-Биль со множеством островов, темнеющих густыми рощами приземистой лиственницы. Серое, местами покрытое туманом море уходило далеко влево и обрывалось где-то за изогнутым белесым горизонтом. Длинные извивающиеся волны зарождались прямо из темной пучины, вздымались, обрастая белой гривой, и выбрасывались на пологий песчаный берег, далеко выкатывая живую пенную кайму. -- Смотри! Смотри! -- закричал старик Лучка, уже совсем оправившийся от испуга. -- Вон, внизу, слева! Речка идет от озера в залив! И поселок у озера!.. И река и поселок называются Къ'атланг-и. Пларгун утвердительно закивал головой: да, да, он знает эти места. Как-то вместе с одноклассниками он приезжал на экскурсию на нефтепромысел Хатагли. -- Къ'атланг-и... Къ'атланг-и, -- повторил старик. -- Нгафкка, а ты знаешь, откуда это название пошло? Гул мотора, больно сверливший уши, стал тише. -- Эта река называется Къ'атланг-и. А русские на своих картах написали Хатагли. Потому что их ухо плохо слышит нивхскую речь. Старик еще раз взглянул на узкую, извивающуюся речку, тускло блеснувшую щеками-заводями. -- Река как река, -- сказал старик. -- Но вода в ней совсем негодная. Где-то в нее нефть втекает. Вода в реке, как наваристый чай, густая и очень вонючая. Таймень, что из залива в реку уходит, керосином пахнет. За цвет и запах так реку и назвали: Къ'атланг-и -- терпкая, значит. Вон на берегу залива большие, как дома, красные баки. Видишь? В эти баки японцы нефть качали, здесь была японская концессия. Давно это было, до войны. Весь залив нефтью испоганили. Им-то что заботиться о заливе, об этой земле. Знали: временно они здесь. Им нефть была нужна... Но вот пришли наши. Но и наши не очень-то берегут залив... Залив-то Нга-Биль называется -- Место крупных зверей. На косах были лежбища нерп и сивучей. Много рыбы в заливе водилось. Л где рыба и зверь есть, там человек поселится. На побережье много стойбищ было... Испоганили залив. Зверя отпугнули, рыбу керосином заразили. Только одно название и осталось Нга-Биль... Нехан сидел напротив и тоже смотрел в окно, задумавшись. Пларгун украдкой с восхищением поглядывал на него. Если бы не Нехан, Пларгун болтался бы сейчас в поселке, слонялся по берегам остывших тусклых озер в поисках запоздалых уток... Октябрь -- межсезонное время. Рыбаки уже заканчивали осеннюю путину, повытаскивали на берег лодки и мотоботы, ждали, когда станет лед, чтобы выйти на подледный лов наваги... Своего отца Пларгун не помнил. Когда ему было три года, отец ушел промышлять нерпу во льды Охотского моря и не вернулся. Пларгун рано научился обращаться с луком -- подарком дяди Мазгуна, за лето добывал несколько сотен пушистых, полосатых бурундуков. Дядя Мазгун радостно говорил: растет охотник, достойный отца!.. Когда Пларгуну исполнилось двенадцать лет, дядя подарил ему настоящее ружье -- одностволку двадцатого калибра. В начале лета дядя Мазгун чинил лодку-долбленку. Над бугристым берегом низко пролетали краснозобые гагары и глухо кричали: "Га-га-га!", "Нгах-ваки!", "Нгах-ваки!" А на прибрежной отмели шумели суетливые кулики: "Чир-р-р! Чир-р-р!" Дядя Мазгун вслушивался в привычный гомон птиц и строгал дощечку для сиденья. Вдруг совсем рядом бухнуло. Дядя Мазгун вскинул голову и увидел: гагара, сложив крылья, со свистом камнем упала в воду и осталась на воде, бездыханно покачиваясь. На дюне стоял Пларгун. Он переломил ружье и по-взрослому спокойно продул ствол. Сизый дым медленно поплыл над охотником. -- Ох! -- удивленно воскликнул дядя... Когда Пларгуну исполнилось пятнадцать лет, дядя Мазгун подарил ему новенькую двух весельную лодку-долбленку. -- Теперь ты взрослый; единственный мужчина в доме. Ты должен быть настоящим кормильцем семьи, -- сказал он. -- Матери одной трудно. Да и рыбы совсем не стало в заливе. -- Нет! -- отчаянно закричала мать. Пларгун удивился: мать посмела повысить голос на мужчину? И не просто на мужчину -- на мужчину родственника. -- Нет! -- повторила мать. -- Мой сын не бросит школу! Пусть хоть он не тянет лямку рыбака! И мне не так уж трудно: сын живет в интернате. Дядя Мазгун будто не слышал слов женщины. Он обратился к Пларгуну: -- Ну, сколько тебе можно учиться! Восемь классов -- это много. В нашем колхозе кто с таким образованием? Да к чему тебе большое образование? Все равно директором рыбзавода не станешь. Будешь учителем. Пошлют тебя на лесоучасток, где нет нивхов. И будешь работать в маленькой школе. Уйдешь от сородичей, от родных, от охоты и рыбы. Какой же будешь нивх? Да и какие заработки у учителя? Чтобы получать такие деньги, можно вовсе не учиться. Рыбаки в иные годы больше получают. А ведь не кончали институтов. Ты же охотник!.. ...Да, конечно, соблазнительно иметь собственную лодку... Удачно выбрав хорошее течение, попутный ветер, выйдешь на воду у своего поселка на охоту и вернешься в низко сидящей лодке, нагруженной тяжелой добычей!.. И охотника встретят степенные, сдерживающие радость мужчины и старухи. А молодые женщины и девушки будут стоять на прибрежных дюнах, не смея спуститься к воде!.. Соблазнительно... Нынче весной Пларгун окончил школу. Признаться, он еще не решил, в какой институт поступать. Кое-кто из выпускников учится в педагогическом институте в городе на Неве. Говорят, Ленинград -- самый красивый город в мире. Учиться там -- высшее счастье... Конечно, можно стать и педагогом. Или пойти в медицинский, в рыбный... Но юношу больше привлекает профессия, связанная с природой, -- географ или егерь, например... Еще в седьмом классе в руки Пларгуну попал многотомный красочно иллюстрированный Брем. Он так увлекся, что не расставался с ним ни днем, ни ночью, пока не прочитал, а прочитав, вновь и вновь возвращался к нему... В мечтах Пларгун оказывался во всех уголках земного шара: охотился с индейцами, разукрашенными перьями орлов-кондоров. Преследовал ягуаров в густых, сумрачных и сырых лесах Амазонки; на болотистых берегах тропических рек ловил страшных аллигаторов; его душила в железных кольцах восьмиметровая анаконда; его лодку где-то в безбрежии океана таранила громадная меч-рыба. Сильный и смелый, Пларгун предотвращал нападение льва в Африке или преследовал леопарда-людоеда в дебрях индийской реки Ганг... Вертолет ровно гудел. Скоро впереди отвесной стеной встал Нга-Бильский хребет. Прошли вдоль него, огибая отроги. Внизу в тайге, как белые нитки, случайно оброненные на зимнюю медвежью шерсть, сверкнули извилистые истоки рек и ключи. Справа хребет кончался полого. Но за ним, несколько в отдалении, выступил другой. С обожженными ветрами и морозом скалистыми склонами, он круто повернул влево, обрываясь в море. Сверху казалось, что какое-то фантастически громадное животное наполовину вылезло из моря, на мгновение замерло, раздумывая, что ему дальше делать... Если бы не Нехан, неудачно началась бы трудовая жизнь Пларгуна. Поэтому так велика была радость юноши, когда он встретился с Неханом и тот решил взять его в свою бригаду. В поселке Тул-во Нехан появился три года назад, летом. Сильный, как медведь, общительный и веселый, он быстро стал своим человеком. Его приняли мотористом на пузатый беспалубный рыболовный бот. До Нехана мотодорой командовал Накюн. Парень явно не ладил с упрямой и кичливой "дорой", как рыбаки уважительно называли бот. Часто в ожидании, когда подойдет за ними мотодора, рыбаки скучающе зевали или играли в "дурака". А Накюн, молодой моторист, взлохмаченный и весь черный от сажи, совал в цилиндр зажженный факел из пакли и остервенело крутил ручку завода. Говорят, очень скромный, он быстро научился ругаться по-русски и не стеснялся при старших демонстрировать свои познания в этой области. Бригада, как правило, выезжала на тонь, когда другие рыбаки уже успевали метнуть невод, и их "доры" бойко тащили через залив рыбницы с трепещущей живой сельдью. С появлением нового моториста "дору" будто подменили: она стала покладистой и безотказной, как выкормленная собачья упряжка у хорошего хозяина. Бригада единодушно назначила мотористу повышенный пай. А подходы сельди были дружные, и Нехан прилично зарабатывал. Никто точно не знал, откуда Нехан родом. Ходили слухи, будто он с западного побережья. Кто-то, может быть даже сам Нехан, сказал, что он из рода Ршанги-вонг, который в прошлом населял отдаленные урочища побережья. В наши дни этот род разъехался по всему побережью и группами или поодиночке влился в селения других родов. Жители поселка Тул-во не помнят, чтобы Нехан соединил свой родовой огонь с огнем какого-нибудь местного рода. В наше время, когда старые обычаи забываются, на это мало кто обращал внимание. Лишь некоторые старики, ревностно хранящие старину, иногда намекали: в поселке живет безродный... В позапрошлое лето рыба подошла к побережью жидкими косяками. И никаких прогнозов на зиму не было. Нехан бросил рыбалку и вместе со стариком Лучкой и охотником Тахуном соболевал где-то у подножия Нга-Бильских гор. Вот тогда-то о нем и узнал весь район. В самом начале охотничьего сезона Тахун вдруг вернулся в Тул-во. Объяснил: старая болезнь -- ревматизм -- вновь ударила в ноги. Тахун стал промышлять лис на косе. Односельчане только пожимали плечами: на лису ходит, а на соболя не мог. А ведь на лису нужно тратить не меньше сил, чем на соболя. Заведующий заготовительным пунктом молодой парень Миша Сычев набросился на Тахуна: "Дезертир! Испугался тайги! А план? Вдвоем не возьмут плана!" Односельчане осуждающе смотрели на охотника: бросил в тайге товарищей... Такого еще не было на побережье. А может быть, не договаривает что-то?.. В конце зимы старик Лучка и Нехан вернулись из тайги. Они подтвердили, что Тахун после месяца охоты начал жаловаться на больные ноги. Да и дров не успел завезти домой, семья осталась без огня. И они отпустили его. Но это не помешало им перевыполнить план еще на пятьсот рублей! И Миша Сычев ликовал! На страницах районной газеты появился улыбающийся Нехан, руководитель охотничьего звена. А Нехан из вырученных больших денег подарил Тахуну добротную двустволку. На этот факт люди особого внимания не обратили: у нивхов в обычае делать подарки. Нынешнее лето было опять безрыбное. И Нехан устроился буровым рабочим в нефтеразведку где-то на север побережья. В конце сентября он появился в Тул-во и стал сколачивать звено охотников-промысловиков. К нему снова пошел старик Лучка. Третьего найти было трудно: все мужчины готовились к зимней путине, к экспедиции на другие заливы. И Нехан решил взять Пларгуна. -- На... на... наш... рай-а-а-йон д-д-дали лицензию на... на четыреста соболей и... и... и сорок пя-я-ять выдр, -- до ломоты в скулах заикался Миша Сычев. Всем известно, что Миша заика, но сегодня он нервничал и заикался, как никогда. Высокий, сутуловато-изогнутый, будто готовая к прыжку рысь, он настороженно всматривался сквозь табачный дым в лица охотников. Он прекрасно знал, что сейчас спокойный ход районного слета охотников нарушится. Вон во втором ряду возле стенки сидит человек в одежде из оленьего меха. На нем облезлая доха и шапка, похожая на капюшон с обрезанным верхом. Жухлая, с трещинами, обветренная кожа, раскосые вопрошающие глаза. Это старый орок-оленевод из северного поселка Валово. Сейчас у оленеводов горячая пора -- они в тайге, с оленьими стадами, и на слет послали старого Мускана, от которого в тайге мало проку. Сычев на секунду задержал взгляд на его лице... Спокойно попыхивает трубкой... Смирный старик. На горло не будет наступать. Он и языка-то русского не знает... Ему достаточно и десяти соболей. Другим пастухам дам по пять штук. Когда таежники пастухи спохватятся, отвечу: скажите спасибо, что оставил вам по пять соболей, вас на слете не было... Вон, в центре, наклонившись вперед, сидит Ржаев, работник зверофермы. Он приезжий, но давно живет на побережье. Лицо обожжено морозом, исхлестано ветром и дождями. Если бы не серые, потускневшие от возраста глаза и светлые взлохмаченно-вьющиеся с сединой на висках волосы, его трудно было бы отличить от местных жителей -- нивхов. Летом он работает на звероферме, зимой соболюет. Ржаев напряженно застыл. Он весь -- внимание. Давно потухшая папироса повисла, прицепившись к выпяченной нижней губе. Тяжелый пепел не обломится, не осыплется. Ожидающе прищуренные глаза уставились на Сычева. Горлохват... От него не отделаешься и пятнадцатью соболями... сволочь... Вчера пришел с бутылкой "капитана" ["Капитан" -- коньяк "Четыре звездочки" (жаргон).] и с пьяного взял слово: двадцать пять соболей! А утром откуда-то вытащил бутылку спирта. У-у-у... -- гудит голова. За клубами дыма видна серая макушка чьей-то головы. А-а, это старик Лучка. Сидит, безучастный, в дальнем углу, чтобы не мешать людям, когда им вздумается выйти или войти. А это еще кто такой в четвертом ряду? Совсем еще мальчишка. С молчаливым восхищением смотрит на промысловиков. А-а, это парень Нехана. Нехан вчера говорил о нем -- возьмет в подручные. Тоже мне, охотник нашелся. Лица... лица... Обожженные грубые лица... десять соболей... двенадцать... десять... За длинным столом, наспех сколоченным из досок и по крытым линялым сукном, -- президиум: Нехан, русоволосый Горячев -- начальник таежной метеостанции -- и еще несколько человек. Нехан приехал за четыре дня до открытия слета. Все дни он пропадал у Сычева. Вечерами в доме Сычева раздавались громкие голоса и песни. Подпевал Сычев. В это время он не заикался... Нехан просил семьдесят пять на троих. Лица... Лица... Обожженные лица... десять... двенадцать... десять... Пларгун впервые на слете охотников. Вокруг -- знаменитые промысловики, соболятники, медвежатники, добытчики лисиц и нерп. Юноша с восхищением оглядывает их. Утром выступал представитель райисполкома. Он поздравил охотников с открытием сезона. Сказал, что труд охотников так же почетен, как труд зимовщиков Антарктиды. Потом наградил передовиков прошлого года ценными подарками. Нехан и Лучка получили красивые Почетные грамоты и золотые наручные часы с центральной секундной стрелкой. После обеденного перерыва представитель райисполкома отсутствовал. Кое-кто, отметившись, ушел по своим делам, и только к концу слета, когда решался самый главный вопрос, явились все. Дым под потолком. Дым в груди. Дым в глазах. Пларгун не курит. И ему хочется откашляться. -- Все-все... всего четыреста со-болей, -- повторил Миша Сычев, молодой "пушник". Так коротко называют охотники начальника заготовительного пункта. Пушник говорил, что нынче план на соболя срезали на сто пятьдесят штук, а план по сдаче пушнины увеличили на несколько тысяч рублей. Значит, план нужно выполнять в основном за счет цветной пушнины: лисицы, норки, ондатры, белки. На звероферме летом был большой падеж. Значит, на норку мало надежды. Остается лисица. А лису, как всем известно, добывать труднее всего. Нужно иметь неутомимые ноги, чтобы перехватить скорого и чуткого зверя. И пушник предлагает: промысловикам, чьи участки находятся в тайге, план таков -- соболь и лиса один на один; охотникам с морского побережья, где лисы больше, а соболя мало, -- один на два. Значит, таежнику Ржаеву план: двадцать соболей и двадцать лис. -- Врешь! -- взрывается Ржаев. Папироска дернулась кверху. Пепел обломился, рассыпался по колену. Но Ржаев не заметил этого. Его округлые росомашьи глаза уставились на сутулого пушника. -- Врешь! Я таежник. Зимой лиса у меня. Где я ее изловлю? Не надо мне лисы. Замените ондатрой! Пушник выдерживает нападение Ржаева. Тут пушника поддерживают: -- Ондатру ты и без плана поймаешь. -- Ондатра -- дармовые деньги, -- это из президиума бросает реплику Нехан. -- Дармовые? -- защищается Ржаев. -- Да что ты в ондатре понимаешь? Ты живую-то ондатру видел?! Нехан, житель побережья, действительно мало понимает в ондатре, которую только десять лет назад выпустили на обширные болота. Ондатра привилась и размножилась по таежным озерам, старицам и болотам. Вот уже третий год, как разрешили на нее промысел. -- А я где возьму лису? -- вмешивается в разговор метеоролог Горячев. Тут поднялся Нехан. -- Вот что, товарищи, -- сказал он медленно, чеканя каждое слово. -- Все вы знаете, что соболя не так много в нашей тайге. Было время, когда он почти совсем исчез. Но теперь соболь развелся, и на него отпускают лимит. -- Это мы знаем и без тебя! -- выкрикнул Ржаев. -- Тихо! -- Нехан поднял руку. -- Так вот, на одном соболе план не выполнишь. Нужно добывать лису, ондатру, белку, нерпу. Конечно, никому неохота бегать за лисой. Чтобы выполнить план по соболю и цветной пушнине, я предлагаю следующее. Наступила тишина. -- Предлагаю всем создать звенья из трех человек. Хватит охотиться по старинке, время охотников-одиночек давно прошло. "Как он здорово говорит! Совсем как школьный учитель", -- подумал Пларгун. -- Что это даст? -- спросил Ржаев. -- Зачем это? -- раздается из левого угла. -- А затем, -- говорит Нехан, -- что план Сычева ни одному из нас не по плечу. Приморцу при десяти соболях нужно добыть двадцать лис! А это невозможно. Что он, ракета, что ли, чтобы летать с моря в тайгу и обратно! А если организовать звенья, получится так: двое уходят в тайгу на осеновку [Осеновка -- охота по осени.], берут ондатру и до глубокого снега ловят соболя. А третий с лета разбрасывает на косах приваду и всю осень ловит приваженную лису. Зимой двое подключаются к нему. А весной все трое уходят во льды бить нерпу. Гул прокатывается по залу. Табачное облако закружилось, завихрилось, прорвалось в нескольких местах. -- Ловко придумал! -- Голова. -- Хе, до него, наверно, одни дураки были. Ржаев лукаво прищурил глаза. -- А кто и в какие звенья пойдет, а? -- с издевкой спросил он. -- Неужели Горячев, который живет в тайге на своей метеостанции, опускает в прорубь градусник, получает зарплату и подрабатывает на соболе, пойдет ко мне? Или я пойду к нему? Или кто другой пойдет к третьему? Два медведя в одной берлоге не живут... -- А вот я организовал звено! -- перекричал гул Нехан. В зале притихли. -- Вот мое звено: старик Лучка, молодой охотник Пларгун и я! К вечеру все присутствовавшие на слете охотники подписали договора. В договоре Нехана стояло семьдесят пять соболей... Перед отлетом Нехан и Миша Сычев долго сидели над крупномасштабной картой, выбирали промысловые участки. Сошлись на бассейне горной реки Ламги. Оттуда в тридцатых годах нивхские роды ушли на север, в рыболовецкие колхозы. С тех пор этот район посещали только охотники, да и то изредка: уж очень далек он и труднодоступен. В сорока километрах к северу от этого места за перевалом находится маленькое стойбище Миях-во. В нем живет род Такквонгун: несколько мужчин, несколько женщин и их дети. Было известно, что род Такквонгун в тридцатых годах тоже покидал свое побережье. Он целиком вошел в первый нивхский земледельческий колхоз, образовавшийся в долине реки Мымги. Но спустя некоторое время этот род по какой-то причине снова вернулся на опустевшее побережье. И вот вертолет оставил на крутом берегу таежной реки Ламги трех человек. С ними две собаки, брезентовая палатка-времянка, три жестяные печки, охотничье снаряжение и провизии на три месяца. В основном рассчитывали на подножный корм. Как только вертолет улетел, старик вошел в чащу, походил там минут двадцать и, вернувшись, сказал: -- Нынче урожайный год. Орех есть -- мышь есть, мышь есть -- соболь, лиса есть. Места для промысла были выбраны заранее. Нехан облавливает сопки, распадки и ключи по среднему течению Ламги. Его промысловую избушку решили срубить в двенадцати километрах от берега моря. Зимой лисы уходят на побережье из тайги, где им трудно передвигаться по рыхлому снегу. И Нехану будет удобнее охотиться на них, одновременно промышляя соболя. Зимовье Лучки разобьют южнее, в двенадцати километрах от Нехана, у места слияния трех ключей. А избушку Пларгуна -- в глубине тайги у повернутого к югу притока Ламги. Таким образом, зимовья располагаются треугольником, с тем, чтобы путики смыкались где-то в середине треугольника в пределах пятнадцати километров от каждой избушки. Этот план предложил Нехан. Сказал, что в тайге всякое может случиться. Охотник, проверяя капканы, проходит по своему кругу. В точке смыкания путиков видит следы своих товарищей. Если там нет свежих следов кого-нибудь из троих -- надо идти к нему: может, нужна человеку помощь. На третье утро Пларгун проснулся совсем разбитый: все тело ныло, болела каждая мышца. Хотелось лежать не шевелясь. Но раздался властный голос: -- Ты что, отсыпаться в тайгу приехал? У Нехана удивительная способность: он в любом случае умел повелевать, говорил так, чтобы и мысли не было поступить иначе, ослушаться его. Пларгун не обижался на окрики. В самом деле времени в обрез: начались заморозки, скоро выпадет снег, а избушка еще не готова. Своей очереди дожидаются еще два сруба. Первый день охотники с утра до вечера валили лес на сопке, резали его на равные кругляши. На второй день сплавляли их по реке к полянке, окруженной вековым лесом. Юноша резкими, короткими ударами топора очищал кругляши от сучьев, от коры, "разделывал" бревно. Топор не всегда подчинялся еще нетвердым рукам. Иногда лезвие проходило чуть левее или правее сучка, топор отлетал в сторону. Тогда в воздухе раздавался звон непослушного инструмента, в лицо стреляло осколками крепкого, как кость, сучка. Лицо Пларгуна было в царапинах. Саднило ладони. Старый Лучка посоветовал работать в рукавицах, и это спасло руки от кровянистых мозолей. Пларгун ошкуривал бревна, а старшие вооружились плотничьими топорами. И полетели во все стороны смолистые щепки. Крикливые кедровки окружили становище и с любопытством оглядывали людей. Вокруг суетились наглые сойки. Они так и высматривали, чем бы поживиться. Ночью к стану подходили сторожкие лисы, обнюхивали его и, уловив запах людей и собак, спешили убраться восвояси. Но к стану подходила не только безобидная тварь... Пларгун заставил себя подняться. Когда он вышел из палатки, первое, на что обратил внимание, -- Мирл и Кенграй лежали неподалеку от дымного костра. Их бока запаленно вздымались -- собаки дышали надсадно и часто. Что произошло? Почему собаки не на привязи? И чем они взволнованы? Наверно, опять подрались -- они не терпят друг друга. Старик гремел у реки кастрюлей и чайником. А Нехан сидел спиной к палатке и, согнувшись, что-то делал. "Заряжает", -- подумал Пларгун. -- Гуси сели на болото, -- сказал Нехан. Пларгун достал несколько патронов с дробью на рябчика и перезарядил их гусиной дробью. -- Ты тоже идешь? -- не глядя, спросил Нехан. -- Да. -- Собаки где-то пропадали. Долго их не было. -- А где болото? -- спросил Пларгун. Нехан не ответил. Пларгун закинул на плечо одностволку и молча пошел следом. Нехан шел сквозь чащу с такой уверенностью, будто перед ним расстилалась прямая тропа. Вскоре лес поредел, и перед глазами Пларгуна предстала обширная марь. На мари то здесь, то там возвышались бурые бугры. Они сплошь заросли брусникой. Кое-где пробивалась бледная зелень корявого кедрового стланика. Из-за дерева Нехан внимательно осматривал марь. Над марью -- плотная пелена тумана. Казалось, бугры повисли в воздухе. Пларгун глянул вправо и не поверил своим глазам: на бугре, повисшем в воздухе, стояли три медведя. Точно такие, каких он видел в какой-то книге с иллюстрациями. Но вот самый крупный валко переступил. Пларгун молча схватил Нехана за руку. Нехан перевел взгляд вправо и не подал вида, что заметил зверей. Только черные узкие глаза его сверкали жадно и хищно. Правая рука чуть приподнялась, и ладонь сказала: тихо. Нехан взял в левую руку четыре патрона и отступил назад. Повернулся и, прикрываясь деревьями, сторожким, быстрым шагом ушел вправо. Только раз он обернулся и кивком головы сказал Пларгуну: "Стой здесь". "Что он задумал? Ведь у него патроны с дробью! -- заволновался юноша. -- И, кажется, ножа не взял". Нехан шел неслышно, будто тень. Вот он промелькнул в том месте, где деревья стояли не очень плотно. Потом, пригнувшись к земле, появился на оголенном мысу против бугра, где были медведи, и остановился у чахлого березового кустарника. Дальше нельзя -- голая марь. До бугра далеко. Медведи вне выстрела. Да и что сделается с медведем, если даже пальнуть в него дробью на расстоянии десяти шагов. Пларгуна совсем смутило легкомысленное поведение знаменитого охотника. Хоть бы не стрелял. Хоть бы отступил. Пларгун чувствовал, как дрожат ноги. Увидев, что Нехан поднял ружье и прицелился, хотел крикнуть. Но из ружья Нехана вырвался шлейф дыма, и через мгновение до юноши докатился гулкий грохот. Пларгун вздрогнул, точно выстрелили в него. Медведица, рывшая бурундучью нору, подпрыгнула, будто ее ужалили. Со всего размаху влепила оплеуху ни в чем не повинному пестуну. Многопудовый пестун несколько раз перевернулся в воздухе и шлепнулся в марь, на всю тайгу завопив дурным голосом. Медведица встряхнулась, потянула ноздрями и, не уловив ничего опасного, занялась снова норой. Видно, ее зацепила всего одна дробина. "Уйди, уйди, пока еще можно уйти", -- умолял в душе Пларгун. Но охотник снова поднял ружье, прицелился и выстрелил. Медведица впрыгнула на вершину бугра, оглянулась и с устрашающим рыком помчалась по мари на Нехана. Казалось, никакая сила не остановит ее, огромную, всесокрушающую. В один миг медведица пролетела через марь, в два прыжка оказалась на мысу. Тут на мгновение ее остановил новый выстрел. Но только на мгновение. Еще три прыжка, и она настигла охотника. Следующий выстрел поймал ее в прыжке. Медведица мотнула головой и дико взревела, но не остановилась, подалась вся вперед. Еще прыжок. Последний прыжок. Пларгун в ужасе закрыл глаза. Тут он услышал еще один выстрел. Когда открыл глаза, медведица грузно рухнула -- охотник едва сумел отскочить в сторону. Пларгун сломя голову помчался к мысу. Глаза Нехана сверкали. Было видно, какого громадного усилия потребовала от него эта схватка. Медведица лежала со снесенным черепом: выстрел дробью в упор, когда дробинки идут плотно, как единая свинцовая пуля, страшен. У разбитой головы зверя валялись четыре стреляных гильзы. Юноша поднял их -- они были еще горячие и пахли порохом. Пларгун удивился не тому, что Нехан дробью убил громадную медведицу: где-то в душе он верил, что знаменитый охотник способен на невозможное, удивило его другое -- человек в какой-то миг сумел трижды переломить ружье, заменить пустые гильзы заряженными и выстрелить по мчащемуся зверю три раза. Это невероятно. Хотя Пларгун своими собственными глазами видел это минуту назад... Нехан перезаряжал только правый ствол. А левый держал на крайний случай. Последний прыжок медведицы, когда она уже разинула клыкастую пасть, еще не был крайним случаем -- левый ствол так и остался неиспользованным. Что же тогда является крайним случаем для этого человека? -- Куда девались медвежата? -- спросил Нехан. -- Я смотрел только на медведицу, -- признался Пларгун. -- Ничего, далеко не уйдут. Мы их поймаем. Нужно только собак привести. Они мигом нагонят, -- спокойно, будто звери уже добыты, сказал Нехан. Он схватил медведицу за плечи, сильным рывком перевернул зверя на брюхо и вытянул лапы. Медведица приняла позу человека, который, распростерши руки, забылся глубоким сном... Высокое подслеповатое солнце разогнало туман, а Лучка все строгал и строгал черемуху. Острым ножом снимал с дерева тонкие длинные стружки. Они свивались упругими кольцами, образуя пышный венчик. Чтобы венчик не распался, старик связывал стружки лыком. Затем высоко поднимал дерево и встряхивал. Стружки выбрасывали длинные языки, шелестели, вновь свивались кольцами и умолкали. Пока старик выстругивал священные стружки -- нау, Нехан и Пларгун успели отлить в формочке штук двадцать тяжелых круглых пуль. Закончив строгать нау, старик с трудом выпрямился, утомленно кряхтя, поднялся на кривые затекшие ноги и медленно пошел в чащу. "Долго он еще будет возиться? Только теряем время!" -- недовольство черной тенью скользнуло по широкому лицу Нехана. Но тут же он уступил: "Ладно. Медведица -- первая добыча. Хотя бы поэтому нужно соблюсти древний обычай. Да и обижать старика не хочется. Пусть потешится". Так думал знаменитый охотник. Сам-то он давно не верит в святость ритуалов. Но иногда нет-нет да закрадется в его душу сомнение... -- Твой свинец давно сгорел! -- ни с того ни с сего разозлился Нехан. Пларгун схватил банку и вытащил из костра: в капле жидкого, как ртуть, свинца плавал твердый кусок. Юноша недоуменно глядел на Нехана, так и не поняв, почему тот, обычно сдержанный и спокойный, вдруг рассердился. Вскоре вернулся старик с полной кружкой крупной таежной брусники. Ягодным соком обмазал кончики священных стружек и сказал: -- Хала! Идемте к месту, где удача нас навестила. Старик сказал "нас". Если в тайге кого-либо одного обходит своим вниманием Курнг -- всевышний, удачи не жди. А тут большая удача. И не важно, кто добыл зверя. Считай: удача пала на всех троих. Нехан проводил старика и юношу к месту, где он убил зверя. Собаки со злобным азартом подскочили к медведице, вцепились в гачи [Гачи -- длинная шерсть на звериных ягодицах.] и стали их рвать, захлебываясь яростью. -- Ну и храбрецы на мертвого зверя! -- сказал Нехан и разбросал собак ударами ноги. Трое охотников схватили медведицу за передние лапы и за загривок и, подражая голосу зверя, с криком "хук" дружными рывками поволокли его вокруг вековой лиственницы против хода солнца. Тяжела добыча, и охотники с трудом совершили с нею четыре положенных круга. Отдышавшись, Нехан закинул за спину двустволку и скрылся в чаще. За ним побежали псы. Старик обвязал сплетенными стружками морду медведицы чуть пониже глаз, второе кольцо приладил вокруг головы позади ушей, соединил оба кольца посередине лба и украсил голову султанчиком из стружек, предварительно обмазав их соком брусники. На медведицу надели символический намордник. Если в звере есть хоть немного злого духа, он укрощен. Затем перевернули зверя на спину... Пларгун впервые свежевал медведя. До этого он только иногда ел вареное медвежье мясо из чугунного котла на медвежьих праздниках, которые созывались в честь удачи какого-нибудь охотника. А "праздников домашнего зверя" Пларгун вообще никогда не видел. Такие праздники приходятся на конец февраля -- начало марта. В это время Пларгун учился. А школа-интернат находится в районном центре. Праздники домашнего медведя проходят куда более пышно и торжественно. Еще бы: медвежат вылавливают, когда им всего несколько месяцев, откармливают несколько лет до возраста половой зрелости. Пларгун свежевал медведя впервые. Точнее, помогал свежевать. Самое сложное, оказалось, "раздеть" лапы. Но старик ловко расправился с двумя задними лапами. Оттягивая кожу, чтобы старику удобнее работалось, Пларгун внимательно следил за его действиями. Потом Пларгун вытащил свой нож, звякнул по лезвию ножом старика и склонился над левой передней лапой. Нож непослушно натыкался на многочисленные упругие жилы, вонзался в толстую мозолистую подошву, скрежетал по костям, где, как полагал Пларгун, должен быть мягкий хрящ сустава. Когда наконец Пларгун высвободил последний палец лапы и стал снимать с ноги "чулок", он почувствовал, что на него смотрит Лучка. Пларгун не поднял головы. Только по разгоряченному лицу текли струйки пота. Быстрее заходил ножом. Но спешка не привела к хорошему -- на коже оставались куски сала. Приходилось вновь и вновь возвращаться к ним. Но вот с лапой покончено. Юноша распрямил гудящую спину и осмотрел свою работу. С многочисленными кровянистыми порезами лапа выглядела так, будто ее изжевали собаки. Три другие лапы слепили ровной белизной. Пока Пларгун "раздевал" лапу, Лучка успел разделаться и с брюшной частью. У потухшего костра сидел Нехан и спокойно пил чай. Даже не подумаешь, что он прошел большой путь по тайге, да еще с тяжелыми шкурами молодых медведей за плечами. Кенграй подошел к хозяину, вяло виляя хвостом, и низко опустил голову с прижатыми ушами. "Почему ты так унижаешься? Что с тобой?" -- глазами спросил Пларгун. Собака словно поняла хозяина -- не поворачивая головы, бросила на Нехана настороженный взгляд. Помимо шкур Нехан принес еще и медвежью желчь. Сказал, что настиг пестунов далеко. Надо взять мясо. Остальное пойдет на приваду для соболей и лис. А желчь зачем? Стоило ли... -- Ты останешься. Растянешь шкуры, вот тебе... как оно называется... образец, -- сказал Нехан, показав на висящую перед палаткой на гнутых растяжках шкуру медведицы. -- И еще сваришь желчь. Только не перевари. Лучше вари на печке, а не на костре. Надо варить на спокойном огне. Еще вчера старик между делом поставил полог -- на случай дождя, чтобы было где готовить пищу. Старшие, закинув за плечи пустые рюкзаки, удалились. Кенграй остался лежать, удобно положив голову на лапы. Только глазами их проводил. Соорудить растяжки из молоденьких стройных лиственниц -- дело не трудное. А вот натянуть на них сырую "живую" шкуру -- куда сложней. Пларгун только к полудню справился с этой работой и сразу же принялся варить желчь. Юноша перевязывал проточные канальцы и чувствовал, как они, тонкие и скользкие, никак не хотели подчиняться его неуверенным пальцам. Он боялся, как бы ненароком не прорвать нежный мешочек желчного пузыря. Сухо потрескивая, топилась жестяная печка. Пларгун поставил на ее большую эмалированную кастрюлю с водой и, подождав, когда она нагреется, бросил три желчных пузыря. Печка гудела. Искры, вылетев из трубы с горячим дымом, вспыхивали, тускнели и оседали на траву, на полог... Спокойно лежавший Кенграй встрепенулся и сел. Большие острые уши вскинулись, быстро заходили в разные стороны, сблизились. Пес суетливо повел носом, шумно и глубоко втягивая воздух. Пларгун понял: кто-то посторонний подошел к стану. Его спина покрылась мурашками. Что будет, если это медведь? А вдруг не просто медведь, а шатун? Наверно, почуял мясо и, голодный и злой, пришел на запах. Эта предательская коптилка разносит дух мяса на всю тайгу. А может, не один? А два. Или три? Озираясь, Пларгун потянулся за ружьем. Трясущейся рукой нащупал пулевой патрон, вложил в ствол. Ружье невесомо взлетело к плечу. И только теперь молодой охотник почувствовал: до чего ружье хрупко и ненадежно! Вдруг что-то толкнуло в грудь. Пларгун, внимательно смотревший вправо, в кусты, резко откинулся. Никого... а-а, это сильно вздрогнуло сердце. О, как оно стучит! Кенграй вкочил и бросился было в чащу, но Пларгун остановил его: -- Порш! Ветер с той стороны, куда бросился пес. Значит, тот, кто в лесу, не должен чуять их... А вдруг он из-за деревьев наблюдает за мятущимся человеком. Кенграй сорвался и размашистым карьером понесся в чащу. Через секунду там раздался треск, будто кто-то разом сбил все сухие сучья в тайге. Между деревьев мелькнуло что-то бурое и серое и, как само спасение, -- рога! Олени! Юноша облегченно и радостно вздохнул. Исчезла неизвестность, а с ней и страх. Пларгун со всех ног бросился вслед за Кенграем. Олени -- это прекрасно! Оленем он откроет охотничий сезон! И не только сезон. Этой прекрасной добычей он начнет свой путь охотника-промысловика!.. Он бежал, ничего не видя перед собой, инстинктивно сторонясь деревьев, в кровь царапая лицо и руки. Спотыкался, падал и вновь поднимался. Его лихорадило. Что это: обыкновенный охотничий азарт? Тщеславие молодого охотника? Или проснулась доселе дремавшая жажда добычи?.. Он бежал, задыхаясь, хватая ртом холодный воздух. И вдруг остановился, будто натолкнулся на невидимую стену. Вокруг ни звука. Куда девались олени? Где Кенграй? -- Кен... Кен... -- И наконец из горла вырвался не крик, а скорее -- стон, переходящий в хрип: -- Кен-гра-а-ай-и-ии. В голове пронеслась мысль: я один в лесу... Пларгун вновь впал в такое состояние, когда ноги перестают подчиняться. Глаза прикованы к валежинам и кустам, будто там обязательно кто-то затаился... И тут Пларгун понял: он боится тайги. Да, да, боится!.. -- Кенграй!.. Где же собака? Куда подевалось все зверье? Ну хоть бы какой зверь или птица выскочили вон из-за той колодины. А какой зверь? Какой? Ноги повели в сторону. Что за зверь?.. Вон какая горбатая тень от него. Приготовился к прыжку... Ноги несут в сторону... Глаза прикованы к тени. Пларгун бросается назад, но сильный удар в темя чуть не сбивает его с ног. "Медведь!" -- мелькает в помутневшем сознании... Пларгун, шатаясь, оборачивается -- ружье стволом упирается в узловатый наплыв лиственницы... Юноша еще не совсем понимает, что с ним случилось. Прошло еще некоторое время, когда он почувствовал: воротник у левого плеча мокрый. Ощупывает. На руках -- кровь. Пальцы побежали выше -- по щеке, шее. Что-то теплое и мягкое. В ладони -- темный сгусток крови. Он застонал, когда пальцы коснулись черепа. Опухоль в пол-кулака. Мягкая, как живая: бум-бум-бум. Она отвечает на удары сердца. А череп как? Если пробит?.. Надо перевязать голову. Пларгун сбрасывает ватную куртку, срывает рубаху. Разрывает рубаху на широкие ленты. Выщипывает из куртки вату. Перевязывает голову. Надо возвращаться к лагерю. Надо... -- Ав! Ав! -- чуть слышно. Снова: -- Ав! Ав! Да это же Кенграй! Далеко. Посадил зверя... Иначе бы с чего ему так яростно лаять? И будто не было страха и сильного ушиба -- напрямик на голос! Через завалы, кусты. Только слышно, как трещит одежда. И все громче и больнее стучит в голове: бум!.. бум!.. бум!.. Крупный олень-самец стоял, низко опустив ветвистые стройные рога. Перед ним носился Кенграй. Собака пыталась наскочить сбоку, но хор вовремя наставлял рога. Несколько раз сам бросался на пса, пытаясь поддеть его рогами. Но Кенграй успевал вывернуться. Пларгун залюбовался оленем. Сразу видно, что дикий олень отличается от домашнего. Домашний более приземист, очертания его спокойные, нрав вялый. А этот высок, стройные сухие ноги "в чулках" ровной белизны, холка взбугренная, и на ней зверовато дыбится серая шерсть. Могучая грудь. Голова изящная. Рога удивительно симметричные, пышные. Нрав крутой. А шерсть будто причесанная. Могучий красавец отвлек врага на себя, дав возможность уйти самкам. Услышав хозяина, Кенграй с новой яростью Оросился на хора. Олень сдвинул сухие ноги, пружинисто оттолкнулся и скакнул навстречу. Пларгун вскинул ружье. Надо ударить чуть ниже передней лопатки. Олень мотнул головой, и тут же раздался выстрел. Хор вздрогнул, но не упал -- пошел прямо. Кенграй отпрыгнул в сторону, чтобы не попасть под острые, как топор, копыта. Пларгун полез в карман, но не нащупал патронов. Полез в другой -- тоже пусто. Отчаянью его не было предела, он вспомнил, что, зарядив ружье пулевым патроном, забыл прихватить еще. А олень уже уходил. -- Ту! Ту! -- прокричал Пларгун, натравливая пса, и сам пустился следом. Кенграй легко нагнал хора и, не останавливаясь, прыгнул сбоку, схватив за шею. Даже его могучие клыки не смогли удержаться на горле хора, защищенного густой длинной шерстью -- "бородой". Олень повернул в сторону -- по спине текла кровь. Высоковато ударил. Кенграй кашлянул совсем по-человечьи, тряхнул головой, чтобы освободить пасть от набившейся шерсти. И тут же вцепился оленю в бок и так рванул, что ослабевший от ран хор споткнулся и упал, неловко подвернув переднюю ногу. Озверевший Кенграй вскочил на холку оленю, зажал в смертельные тиски шею, придавил голову к земле. Охотник мигом оказался рядом, выхватил нож и, глубоко всадив в нижнюю часть шеи, перерезал горло. Кровь фонтаном брызнула во все стороны. Пларгун стоял над своей жертвой в исступлении, будто хор был повинен в том, что Пларгун боится тайги, как беззащитный ребенок... А кровь лилась. Кровью испачканы руки, одежда, лицо. В крови собака. В крови -- трава и кусты... -- Кенграй, наверно, уйхлад [Уйхлад -- совершивший грех.], -- таинственно сказал Нехан, набивая рюкзак мясом. -- Пес очень подозрительно вел себя. Как будто меня не было рядом: воет и глаза устремлены в сторону горы Нга-Биль. -- Хы... Туда медведи зимовать уходят. Там их берлоги. Говорят, там Пал-Ызнг живет, -- сказал старик, разрезая тушу на большие куски. -- Я и думаю: не поселился ли в собаке чужой дух, -- сказал Нехан, пристально глядя на старика. -- Собака -- зверь человека. Медведь -- зверь Пал-Ызнга, его собака. У каждого зверя -- свой хозяин, свой дух, -- медленно и негромко проговорил старик. -- Я и говорю, собака очень странно вела себя. Очень странно. Так обычно собаки не ведут себя. Эта собака наверняка уйхлад. Она может навлечь на нас грех... ...Они шли, согнувшись под тяжестью ноши. Нехан исподлобья глядел на Лучку: крепок еще старик. Сподручно с ним в тайге. Не докучлив, все время чем-то занят. Отлично знает законы тайги... И большой умелец -- замечательно мастерит легкие охотничьи лыжи. И если б не он, так быстро не поставили бы сруб... А шкуры, ох какой умелой руки требуют они! Чуть не так и, уже мех может пойти не первым сортом. Только на сортности иные теряют сотни и сотни. Хорош старик. Чудо-старик... "Нынче пошли люди, -- неспешно думал старик, -- к жизни совсем не приспособленные. Парню восемнадцатый год, а он еще и тайги не видел. В его возрасте я четырех человек кормил. Обеих жен и двух мальчиков. Старшего брата черная смерть забрала..." -- Старик вовсе не был настроен на воспоминания. Но разве воспоминания приходят и уходят по велению?.. "Осталась жена брата Халкук с двумя малышами. Ее, по обычаю, я и забрал к себе. Зачем бы я ее другому человеку отдал! Халкук сдружилась очень с моей женой Ангук. Они никогда не ссорились. Во всех домашних делах помогали друг другу. Хорошие жены. Дружно жили. Очень жалел, когда умерла маленькая Ангук. Умерла, когда хотела подарить сына... Мои сыновья на фронт ушли. Хорошие были парни. Зачем обоих взяли? Хоть бы одного оставили... Они добычливыми ловцами были. Оба не вернулись... А теперь что? Стрелять-то по зверю не каждый умеет. Тяжело, ох тяжело будет Пларгуну. И что такое с его собакой случилось? Почему она уйхлад стала? Да разве узнаешь почему? Может, хозяин чем-то нагрешил, а может, сам пес пошел против закона тайги, или его к себе злой дух зовет. Хороший пес. Но что поделаешь? Воля не наша..." -- Кровь нужна, жертва нужна, -- сказал Нехан. Они подходили к стану. Старик ускорил шаги. Тревога передалась и Нехану. Внезапно тайга кончилась, они вышли на поляну. Где же полог? На месте полога -- пустота. Стоит одинокая потухшая печь, а на ней обгорелая кастрюля... -- Полог сгорел, -- спокойно сказал Нехан, рассматривая обрывки брезента. -- У нас второго нет, -- озадаченно сказал старик. -- Да где же Пларгун?.. -- Нехан снял крышку, заглянул в кастрюлю и -- весь побелел. В следующее мгновение лицо его налилось кровью. -- Что наделал! Что наделал! -- в гневе прошептал Нехан. -- Три желчи сжег! Ограбил меня, подлец! Лучка слышал от людей, что медвежью желчь ценят дороже золота. -- Сопляк! Молокосос! Тайги захотелось?! Соболя захотелось?! Я тебе покажу соболя! Я тебе покажу тайгу!.. ...Молокосос -- вот ты кто. А еще тайги захотел. Настоящей тайги. С оленями, соболями, медведями. С зимовкой в избушке среди дикой тайги... Молокосос! Ты же боишься тайги! Для тебя тайга -- враг. Потому что ты ее не знаешь. Ты боишься тайги. Да, да, боишься! Хотел за жестокостью спрятать свое малодушие. Живодер -- вот ты кто! -- А-а-а... Голова... О, как она гудит. А череп цел? Хоть бы череп был цел. А там как-нибудь выживем. Куда я иду? Правильно ли иду? Где Кенграй? А-а, вот он! Впереди. Он идет уверенно. Верно ведет, правильно. ...Мирл нервничал. Ругань вызывала в нем желание пустить в ход надежные свои клыки. И, как только он почуял в лесу движение, вскочил и, еще не зная, кто там, понесся к кустам, низко, по-медвежьи, опустив голову. Навстречу выскочил Кенграй. Но перестраиваться было уже поздно. Да и Кенграй понял намерение Мирла. А Кенграй, опытный боец, участвовавший во многих смертельных собачьих поединках, привык сам нападать. Он помчался аллюром. Мирл, словно раздумывая, несколько сдержал прыть. Кенграй принял это за неуверенность. Инстинкт подсказывал: наступил момент вцепиться в горло. Мирл отлично знал: стоит чуть повернуться боком, мощный удар сшибет его с ног. И он грудью встретил Кенграя. Псы сшиблись, вздыбились. Совсем как люди, обхватили друг друга сильными лапами и наносили удары клыками. Пларгун выбежал на яростный, захлебывающийся рык. У нивхских каюров и охотников существует своеобразный этикет: когда люто дерутся псы разных хозяев, подоспевший хозяин сильно избивает свою собаку, деликатно отстраняя чужого пса. Озверевших собак можно растащить только с помощью палки. Пларгун прикладом отбросил Кенграя. Не успел Кенграй прийти в себя от ошеломившего его удара, как Мирл повис на его загривке. Теперь нужно было убрать Мирла, и юноша ударил его по плечу. По спине нельзя: можно повредить позвоночник. Юноше с трудом удалось разнять разъяренных псов. -- Болван! -- вскочил Нехан, когда Пларгун подошел к костру. -- Ты что, первый день на свете живешь: не знаешь, что ружьем бить собак нельзя! И, поймав на себе удивленный взгляд юноши, пробурчал: -- Для тебя же стараюсь. -- И посмотрел на старика. -- Грех, сын, собаку ружьем наказывать, -- сказал старик. -- Грех. Звери и птицы откажутся подставлять этому ружью удобное место. Пларгун молча подсел к низкому столику -- пыршу и стал закусывать остывшим мясом и юколой. -- Собрались сниматься? -- спросил он, не глядя ни на кого. -- Почему ты решил, что мы собрались сниматься? -- вопросом ответил старик. -- Полог-то зачем сняли? -- Сам сжег и еще спрашивает, -- сдерживая злобу, сказал Нехан. Пларгун недоуменно взглянул на то место, где стоял полог, и увидел обгорелые лоскуты брезента, остывшую печь и черную от сажи кастрюлю. Без слов было понятно, что полог сгорел от искры. Пларгун закусил губу. Искра могла упасть и на жилую палатку. А там -- зимняя одежда, спальные мешки, охотничье снаряжение... От тяжести вины стало невмоготу. Пларгун громадным усилием подавил вырывающееся рыданье. Смотреть в глаза старшим было невыносимо, он уставился застывшим взглядом на противоположный берег реки. Его о чем-то спрашивали. Голоса доносились откуда-то издалека, приглушенные, невнятные, как из-под земли. Пларгун ничего не понимал. Он очнулся, когда к его плечам прикоснулись руки старика. -- Спрашиваю тебя: что случилось с головой? Пларгун непонимающе взглянул на старика. -- Что с головой случилось, спрашиваю. Только теперь Пларгун почувствовал, как болит голова... Старик легонько прикоснулся к голове, снял повязку, внимательно осмотрел ушибленное место. Большая ссадина. Может, серьезно. Волосы остричь надо, рану йодом облить надо. Повязку хорошую сделать надо. У нас же есть походная аптечка. Подошел Нехан. Участливо поцокал. -- Да-а, серьезное это дело. Пока старик накладывал повязку, Нехан молча смотрел на потухший костер и о чем-то думал. Йод мучительно жег. В голове стучало. Слезы выступили на глазах. -- У него очень серьезная рана, -- сказал Нехан так, будто Пларгуна здесь не было. -- Она скоро затянется, -- предположил Лучка. -- Я считаю, что Пларгуна нужно везти в больницу, -- ни на кого не глядя, продолжал Нехан. -- Как его повезешь отсюда? На чем? Пларгуну хотелось заснуть, положить голову на что-нибудь мягкое, теплое. Разговор старших совсем не интересовал его, будто говорили не о нем. И смысл разговора не доходил до сознания. -- Километрах в сорока отсюда есть стойбище рода Так-квонгун -- таежных охотников. Там помогут. Где на лодках, где пешком. Нашему другу надо в больницу. -- А дойдет ли пешком? -- усомнился старик. -- Ведь это далеко. Нужно идти через перевал. Не найдя решения, Лучка отрешенно попыхивал трубкой. И тут старшие увидели, как юноша медленно обернулся к ним. Лицо его, до этого безразличное ко всему, стало осмысленным. -- Что вы говорите?.. Старшие молчали. Нехан глянул на Лучку, как бы прося поддержки. -- Слушай, нгафкка, -- сказал он. -- Мы еще не знаем, к чему приведет твоя ссадина. Может случиться осложнение. И мы со стариком ничего лучшего не нашли, как отправить тебя в поселок. Тебе необходимо в больницу, к врачам. Пларгун молчал. В тоне Нехана -- явно подчеркнутое участие. А может быть, это только казалось?.. Спокойно и уважительно, как подобает говорить со старшими, Пларгун ответил: -- Я очень огорчен, что своим нелепым поступком причинил вам столько хлопот. Но вряд ли вы будете спокойны, если в таком состоянии я пойду через тайгу в сопки. Череп, к счастью, не поврежден. Ссадина залита йодом. А йод -- сильное лекарство. Давайте подождем немного. Если будет хуже, я приму ваше мудрое предложение. Пларгун сам удивился себе. Как это он сумел сказать все так хорошо и складно? Нехан нетерпеливо повел плечами и сказал мягко: -- Нгафкка, ждать никак нельзя. Я же сказал, может быть осложнение. Тогда врачам будет трудно. Ведь повреждена голова, а не что иное! -- Нехан многозначительно постукал пальцами по виску. Мудрость юноши только проклюнулась мокрым птенчиком и умерла тут же под строгим взглядом Нехана. И ничего он не нашел лучшего, как сказать: -- Все-таки надо подождать. Я думаю, все будет хорошо... -- Я старший здесь! Я начальник! -- закричал вдруг Нехан. -- И отвечаю за всех! Я требую не возражать мне. Старик пристально, с прищуром, взглянул на разошедшегося Нехана. -- На пострадавшего человека грех кричать, нгафкка... Прошло еще два дня. Ссадина затягивалась. Голова прояснилась, освободившись от тупой и нудной боли. Никто не возвращался к разговору об уходе Пларгуна в поселок. За это время Нехан и Лучка справились с избушкой. Звеньевой отстранил Пларгуна от работ -- тому нужен покой. Юноша трудно переживал вынужденную бездеятельность. И нет-нет да подсоблял в чем-нибудь. Было решено -- не задерживаясь, перекинуться к Трем ключам и в два-три дня поставить избушку для Лучки. Но Нехан вновь завалил медведицу, и это задержало переброску на юг. К тому же Лучка настаивал, чтобы ритуал проводов медведицы к Пал-Ызнгу был соблюден до конца. У тайги свои законы, утверждал старик. Они от человека не зависят. Надо эти законы соблюдать. Нельзя гневить Пал-Ызнга. А то он болезни и неудачу на людей напустит. Все сознавали, что время торопит, но Нехан понял: возражать нельзя. Старик не простит неуважения к обычаям. Игрищ не было, да и не могло быть: людей-то всего трое. Зрелищная часть праздника начисто исключалась. Из-за отсутствия нгарков -- представителей рода ымхи -- ритуал сократился до крайнего минимума. Оставалось только изоб-бразить финал -- проводы медведя к хозяину гор. Для этого требовались жертва и гостинцы. Гостинцами могут быть клубни саранки, крупа и обязательно мос -- своеобразное блюдо, приготовленное из ягод и студня из вареной рыбьей кожи. Мос -- пища богов. А в качестве жертвы приносят обычно собаку. Увешанный всевозможными гостинцами, сопровождаемый собакой, медведь, а точнее -- душа медведя, отдавшая свою плоть людям, идет к Пал-Ызнгу -- богу охоты и тайги -- и передает ему просьбы людей. А просьб у людей много: чтобы охотнику способствовала удача, чтобы голод не посещал селения, чтобы никто в роду не болел. Нехан попытался было предложить отдать Кенграя в жертву. Тем более Кенграй -- уйхлад. Старик, внимательно слушавший Нехана, вовлеченный в сложную игру обычаев, упорно молчал, потом недовольно крякнул, всем видом выражая несогласие. И мос не стали варить -- дело это хлопотливое. Да и не взяли с собой юколу тайменя, толстая кожа которого идет на студень. Жертва символическая: немного юколы, горсть крупы, несколько пачек махорки, папирос (хорошо, хоть старик курит) и спичек, несколько кусков сахару. Старик сколотил "дом" -- ящик с двускатной крышей, положил в него кости и головы медведей и вознес его на настил лиственницы. Нехан помог поставить у "дома" прунг -- священные молодые елки, украшенные священными стружками -- нау. Все предметы, имевшие какое-либо отношение к святому зверю, должны лежать в одном месте, которое отныне становится священным. У этого священного места нивх обращается со своими нуждами к Пал-Ызнгу. Но и здесь допустили нарушение. На священное место отнесли только символическую жертву: "гостинцы", испачканный кровью медведя еловый лапник, который подкладывали под мясо, импровизированные носилки, головешки от костра. Никто, конечно, и не намеревался пустить в ход рюкзаки, посуду и другую утварь, тоже имевшие какое-то отношение к медведю... На все это ушел еще один день... Только с рассветом нового дня с набитыми рюкзаками пошли они по распадкам в сторону полудня, к Трем ключам. Было решено не отвлекаться на охоту, чтобы сразу приступить к постройке избушки для Лучки. Три ключа -- это падь, место слияния трех ключей, которые, извиваясь, врезались в темнохвойные сопки. Сопки богаты брусникой. По обеим берегам ключей -- мари, красные от клюквы. Отличное охотничье угодье! Сруб рубили буквально от зари до зари. К исходу второго дня избушку накрыли крышей из жердей и корья, насыпали поверх земли. Ночевали у нодьи -- долгого таежного огня... Крикливое воронье хищно кружилось над деревьями. Подгоняемые тревогой люди выскочили на поляну. Собаки с азартом и визгом помчались к противоположной опушке леса. Что-то темное мелькнуло за деревьями. Стан был разгромлен и разграблен. Тут каждый лесной житель в меру своих возможностей приложил лапы и зубы. Наибольший вред принесли, конечно, росомахи. Сильные и наглые, они разворочали лабаз с копченой медвежатиной, сожрали и растащили большую часть запасов. Они проникли в избушку, расшатали крышу, изгрызли дверь. Даже коптилка и потухший очаг не были обойдены их вниманием: от коптильни осталась бесформенная куча жердей, а к очагу росомахи обращались после сытной трапезы -- он стал у них удобным отхожим местом. Собаки мигом нагнали зверя и яростно лаяли: зверь взят. Услышав приближение людей, псы осмелели. Кенграй хваткой в заднюю ногу отвлек росомаху, и Мирл в точном броске сомкнул свои могучие челюсти на горле хищника. Подбежали люди. Нехан сверкнул глазами. -- Так, так его. Рвите. Рвите его... -- Хватит! -- крикнул старик и отогнал рассвирепевших псов. Затем, изловчившись, ударил росомаху ножом. Весь день до вечера они шли через тайгу по узкой долине Ламги к ее истоку. Нехан только помог донести вещи, ему нужно было починить покалеченное зимовье. В тот же вечер он ушел и обещал прийти через два дня. Охотничье угодье юного охотника -- верховье реки Ламги, там, где в реку впадает небольшой приток. Хвост Ящерицы. Повернутый к югу приток тонок и извилист. Он действительно похож на струящийся хвост ящерицы. Охотники недолго выбирали место для сруба. После короткого совета остановились на высоком спокойном возвышении, устланном ковром ягельника. И вот на таежном возвышении, может быть впервые за все века существования, вспыхнул костер. Вскоре люди легли под кустом кедрового стланика. Их спины всю ночь ласкало тепло огня. Земля перестала отдавать душистой прелью. Лишь в полуденное безветрие земные запахи оттаивали и, еле уловимые, парили в остывшем воздухе. С ветвей уже давно слетала листва. В щелях узких распадков густо теснились ели. Оголенная лиственница заняла просторные склоны сопок. Березы, невыносимо белые на мрачном осеннем фоне, кокетливо выглядывают то тут, то там из сумрачных ельников. Под кедровыми кустарниками, что облепили наветренные склоны сопок, на лишайниковых проталинах в лиственничном редколесье краснела брусника. Пларгун, вспотевший от напряженной работы, стоял над речкой, которая мчала свои холодные струи вниз по узкому дну распадка. Берег реки был усеян трупами лососей, дряблыми после нереста. На перекатах плескались, преодолевая сильное течение, сотни больших рыбин, еще не успевших отдать мелководным плесам свое потомство. Когда-то они еще дойдут до своих нерестилищ!.. -- О-хо-хо-о-о! -- тревожа таежную тишину, чуть слышно доносится снизу. Через секунду, усиленный крутыми склонами сопок, повторяется человеческий крик. А сзади раздается приглушенный грохочущий звук, мало похожий на крик человека. Это человеку ответили горы, крутосклонные и зубчатые, с высоким перевалом в северной части. Пларгун подсунул под лиственничный обрубок заостренный конец ваги из каменной березы, рванул ее вверх. Обрубок сперва медленно, потом все быстрее и быстрее покатился по галечному склону, криво подскочил на камнях, звучно и тяжело шлепнулся в воду и высоко плеснул брызгами. Поддел вагой второй обрубок. Спрыгнул с обрыва, обвязал веревкой оба бревнышка, обмотал другим концом бечевки левую руку и оттолкнул ногой спаренные бревна. Течение бойко подхватило их и понесло. Пларгун, в длинных резиновых сапогах, шел сзади, удерживая и уводя бревна в сторону от цепких коряг. На излучинах бревна непослушно выскакивали на мели или, подхваченные завихрившейся струей, рвались, как собаки в упряжке, к середине реки. И юноша с трудом сдерживал их, направляя по прибрежной струе. Идти по галечному дну легко. Течение подталкивало сзади, и достаточно было оторвать ногу от дна, как струи сами несли ее вперед. Пларгун шел крупным шагом, вслушиваясь, как упругие холодные струи бьют по ногам. Казалось, силы горной реки вливаются в молодое тело. Первая пороша http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SANGI_Vladimir_Mihaylovich/_Sangi_V._M..html Продолжение следует...
----------
<i>Last edit by: aborigen at 12.01.2014 18:59:44</i>
|
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
27.05.2010 09:22
|
9.
@Aborigen
Первая порошаpubl.lib.ru/ARCHIVES/S/SANGI_Vladimir_Mihaylovich/_Sangi_V._M..html
Первая пороша
Деревья будто покинули тайгу -- их совсем не слышно. Еще днем светило солнце. К вечеру белесая синева осеннего неба потускнела. Откуда ни возьмись, появились тучи. Нет, ты не заметишь, чтобы их принесло откуда-нибудь. Они появляюся будто из глубин космоса. Не видно и не слышно, как тени, опускаются ниже, ниже, густеют, медленно проявляются и вот уже толпятся над твоей головой, тяжелые, плотные и неподвижные. Нет ни малейшего ветра. Земля, обложенная облаками, приглушает звуки. Все притихло в ожидании чего-то нового, важного. Свеча горит ровно, слабо освещая короткую чурку, на которой она стоит, стол, вытесанный топором из нескольких листвяжных поленьев, положенных одно к другому и приколоченных к двум толстым чурбакам. Свет мягко играет на маленьком черном квадрате окна, выделяет круглые, небрежно ошкуренные венцы. Между ними неровно выпячиваются сплющенные желтовато-серые слои мха, используемого в тайге вместо пакли. В двух шагах от двери, в которую можно войти только пригнувшись, горит сдвинутая к углу жестяная печка. Горит спокойно, бесшумно. Свет от нее и от свечки упирается в низкий потолок, сложенный, как и стены, из листвяжного долготья. В дальнем от двери углу грудятся темные мешки, набитые продуктами: мукой, крупами, макаронами, сахаром, солью. На стене -- ружье, патронташ и охотничий нож в чехле из толстой кожи сивуча [Сивуч -- (морской лев) -- крупный вид тюленя.]. На чехле вырезан нивхский орнамент. Над печкой у самого потолка висят две пары широких лыж, вытесанные стариком из сколотой пихты. Старик выгнул их с помощью деревянных распорок. Обещал через неделю принести нерпичий мех и обшить им лыжи. Пларгун лежит в теплом лыжном костюме, заложив за голову сцепленные руки, а в голове вяло ворочаются ленивые мысли. Под спиной приятно ощущается мягкость спального мешка и оленьей шкуры. В избушке не просто тепло -- жарко. Но раздеваться не хочется. И скоро все равно нужно будет одеваться: дрова догорят, и тепло постепенно уйдет. Юноша ждет, когда накопится уголь, чтобы закрыть трубу. Кенграй развалился на боку у двери и дремлет. Ему, сытому и довольному жизнью, нынче очень спится. Он разлегся сразу же, как наелся наваристой похлебки из свежей оленины. Разлегся и позевывает, вытягивая розовый язык и умиротворенно поскуливая. Признаться, трудно представить, что ты оказался один на один с тайгой, с ее законами, которые ты плохо, очень плохо знаешь, с ее ночами, полными неизвестности и страха. Теперь ты один, как на маленьком островке среди пустынного океана. Когда-то Пларгун читал увлекательную книгу о Робинзоне. Сейчас он сам, как Робинзон. У того хоть был Пятница, его раб и друг. Правда, с Пларгуном его друг Кенграй. Только неизвестно еще, кто из нас Пятница, думает юноша. Утром Пларгун вышел из своей избушки, не зная, за что взяться, с чего начать свой первый день самостоятельного охотника-промысловика. О, как он ждал этого дня! И вот он наступил. Наступил как-то сразу -- с уходом из его промысловой избушки старика Лучки. "Пусть добрые духи тебя не покидают. Не разгневай их. Пусть будет удача тебе!" -- сказал старик. Его сутуловатая сухая спина еще некоторое время мелькала между ветвями, пока тайга не поглотила его. Ушел, оставив в душе смятение и неуверенность. Пларгун долго сидел на пне от молодой лиственницы, которая еще несколько дней назад шумела ветвями, а теперь стала венцами избушки. Его взгляд безотчетно следил за черным муравьем с рыжеватым брюшком. Луч скупого осеннего солнца чуть-чуть прогрел маленькое зябкое тельце, и муравей, на миг очнувшись от сна, стремился успеть что-то сделать. Он куда-то тащил бурую высохшую хвоинку кедрового стланика. Тащил, не зная куда. А может быть, знал, для чего ему понадобилась эта хвоинка Из гущи леса раздался резкий взволнованный крик сойки. В ту же секунду, приглушенный расстоянием, донесся сухой треск, будто под большой тяжестью сломался толстый сук. Что это могло быть? Треск. Еще треск. Волнение пробежало по всему телу. Первая мысль: к избушке идет громадный медведь. Это под его тяжестью хрустят сухие сучья. Наверно, его привлекли запахи мяса. Хотелось вбежать в избушку и там уже, как в крепости, принимать осаду зверя. Вновь заверещала сойка. В ее голосе слышались не тревога, скорее любопытство. Через секунду ей ответила вторая сойка. Из глубины леса поспешила напомнить о себе третья. Низко над избушкой, торопясь, пролетели в сторону звуков две голубокрылые лесные птицы. Пларгун взял на поводок забеспокоившегося Кенграя и, пересиливая волнение и неуверенность, медленно пошел через поляну. Теперь соек собралось множество. Они кричали азартно и часто. Казалось, идет какое-то представление, а сойки -- лесные зрители -- отзываются темпераментно и бурно. Кенграй нетерпеливо взвизгнул, сильно потянул поводок. Пларгун, увлекаемый могучим псом, пошел быстрее. Пес, по-видимому, уже знал, кто находится в лесу: его чуткий заостренный нос заходил ходуном и вмиг повлажнел. У колодины Пларгун остановил пса, Кенграй недоуменно глянул на хозяина: "Что ты?" Пларгун оттянул пса в сторону, обошел колодину: все норовишь напрямик. Тебе колодины и выворотни -- ничего. Ты бы, конечно, с маху взял их и запутал поводок. А тут вдруг насядет на нас медведь, и я отбивайся один Я хоть и молод, но не обладаю звериной прытью. Впереди посветлело. Оттуда раздавались сап и возня. Медведь? Что он делает? Возится с выворотнем, чтобы из-под него достать бурундука или какого-то другого зверька? Кенграй вздыбился, рванулся и протащил охотника на несколько шагов вперед. То, что увидел Пларгун, сразу уняло волнение, вызвало только любопытство. Охотник осадил пса. Кенграй, разгоряченно дыша, прилег на землю. На поляне, голова к голове, застыли два огромных хора. Они уперлись раскидистыми рогами и, тяжело пыхтя, напирали друг на друга. Сначала они напоминали неуклюжих борцов, которые силятся столкнуть друг друга со светлой полянки. Но вот олени разошлись. Головы опущены низко, глаза, налитые кровью, навыкате. Слева хор -- с мощным кустом рогов, широкий в костях, приземистый, плотный, даже несколько полноват для вольных дикарей. Под его серой шкурой ходят бугры мышц. Высокую холку венчает широкая кисть седой шерсти. Справа -- бурый хор на высоких сухих ногах, будто одетых в белые чулки. У него более редкий куст рогов, но отростки длинные и острые. Шея стройная, длинная. Грудь вся обтянута буграми мышц. Бурый нетерпеливо вытанцовывает боевой танец. Но серый собрался в один миг. Под богатой длинношерстной шкурой пробежала волна мышц, все четыре ноги сошлись в одну точку, и в следующее мгновение серый, будто выброшенный пружиной, бросился на противника. Бурый принял нападение точно на рога. Раздался треск. Кто-то из соперников хрипло взревел. Мощный удар отбросил громадные тела друг от друга. На какое-то мгновение задние ноги бурого подломились. Это скорее почувствовал, нежели увидел серый -- испытанный боец. Не давая опомниться противнику, он нагнул голову и кинулся на бурого. Но бурый, быстро оправившись от удара, ушел в сторону, и толстяк грузно проскочил рядом. Бурый по ходу успел дважды всадить свои рога в бок толстяку. Олени развернулись и вновь сошлись. "Вот безмозглые твари, -- подумал Пларгун. -- Кажется, взрослые, а дерутся, как дети". Кенграй порывался вмешаться в драку исполинов, но рука хозяина лежала на его шее: не шевелись! Длинные ветвистые рога противников мудрено переплелись между собой, и теперь оленям ничего не оставалось, как пытаться любой ценой отцепиться. Но и в таком положении они, уловив миг, наседали друг на друга. Толстяк надавил. Под мощным напором согнулась длинная шея бурого, его опушенные короткой шерстью губы задевали о мерзлую землю. Из ссадины выступила кровь. Запах крови ударил в чуткие ноздри старого бойца. И он, победно, рявкнув, пошел напролом. Бурый, отступая, ловко бросил свое тело в сторону. Толстяк ожидал яростного сопротивления, но никак не предполагал такого хода. Он споткнулся, припал на передние колени. Шея как-то неловко подвернулась. И тут молодого хора будто подменили. Словно где-то внутри его могучего тела сохранялся неизрасходованный запас сил. Оттолкнувшись ногами, он взлетел в воздух и всей массой обрушился на замешкавшегося противника. Острые рога глубоко вонзились в упругий бок старого хора. Тот как-то странно рявкнул, обмяк и в следующее мгновение рухнул на землю. Бурый еще раза два поддал его рогами и отошел в сторону, тотчас забыв о противнике, который мучительно пытался встать на ноги. Победитель, высоко подняв голову, повел окровавленными рогами, чутко вслушался во что-то и внимательно уставился в кусты. "Что там? -- подумал охотник. -- Еще соперник? Хватит и одной жертвы!" Пларгун хотел было прогнать с поляны самоуверенного хора, но заметил: там, куда так пристально смотрел победитель, кусты зашевелились. И через секунду оттуда вышла молодая стройная самочка. Маленькие пышные рожки подчеркивали ее элегантность. Она шла, явно играя такими стройными ножками, поводя аккуратной головкой на длинной шее, кротко и кокетливо глядя на победителя. А он, страстно всхрапывая, поджидал, когда самочка подойдет к нему. Какой-то внутренний протест овладел всем существом юноши. Он с презрением смотрел на самку, из-за которой произошла кровавая драма. С ненавистью и с восхищением -- на могучего хора У кого силы больше -- тот и хозяин. Победитель получает все, побежденный -- ничего И если он не повержен насмерть, то ему уготовлено жалкое существование. А то вовсе съедят его другие, более мелкие звери Самка даже не взглянула на поверженного богатыря. Она, ласкаясь, потерла рожками грудь могучего красавца, ее куцый белый хвостик нервно и страстно задергался. Поверженный богатырь мучительно силился подняться Вокруг торжествующе и хищно закричали красивые птицы сойки -- маленькие лесные разбойники.
В тайге действуют законы тайги. Они, точно тысячи духов, притаились и внимательно следят за каждым шагом юноши, рискнувшего войти в их владения. Притаились, выжидая, когда назреет время, чтобы встать поперек его дороги и зловеще захохотать: "А вот и мы! Попробуй-ка, одолей нас!.."
Пларгун, оставшись один, растерялся, не знал за что взяться. Дел оказалось множество. Он хватался за все и тут же бросал. В первый день руки просто-напросто опустились. Пларгун свалил в кастрюлю пшенную крупу и подстреленного рано утром рябчика и пытался сварить суп. Получилась бурда. Крупа так и не проварилась, и ее вместе с бульоном пришлось отдать Кенграю. Но и тот, выхлебав наваристый бульон, как истинная нивхская собака, брезгливо отвернулся от растительной части варева. Чтобы хоть как-то занять день, Пларгун нарубил сухостойной лиственницы, снес к избушке, сложил небольшими штабелями. Дрова всегда нужны, все равно когда-то надо потратить на них время Печка, чуть потрескивая, ровно гудит. В душе -- смятение. В поселке ребята сейчас собрались в клубе. Накюн, конечно, неважный моторист, но парень хороший. И баянист хороший. Сам научился играть. Помнится, за участие в районном смотре художественной самодеятельности клубу вручили баян. Какая это была радость! А до этого все крутили старую радиолу, которая в последнее время стала хрипеть и странно подвывать. Сколько раз обращались к председателю с просьбой купить баян, но тот возмущался: на ремонт квартир нет денег, а тут подавай им баян! Но все-таки добились ребята своего: председатель уступил. И тут оказалось, что баяна нет ни в одном магазине района. Обращались в торгующие организации, в управление культуры -- везде ответ: мы не фабрика музыкальных инструментов И вот, когда в один из тоскливых осенних вечеров ребята и девчата собрались в своем старом клубе и скучающе рассматривали на стене пожелтевшие плакаты, вбежал Накюн. -- Друзья! -- воскликнул он. -- Ведь есть на свете "Союзпосылторг"! -- Ура-а-а! -- закричали ребята. -- Качать его! -- И подбросили Накюна, так что бедный моторист не рад был своей находчивости. Говорят, авиаписьмо идет из областного центра в Москву всего два-три дня. Возможно, люди, которые пишут в Москву и оттуда получают ответы, говорят правду. Ребята подсчитали, что на переписку с "Союзпосылторгом" понадобится всего-навсего две-три недели, не больше. На пересылку денег телеграфом, на получение этих денег в Москве, на упаковку посылки, отправку, на время пути уйдет дней двенадцать. В общем, к Октябрьским праздникам, если не раньше, баян будет в колхозе. Дни потянулись томительно и длинно, хотя осенние дни коротки, как миг. Вот уже застыли лужи. Вот и болото у поселка замерзло. Вот и озеро за болотом покрылось льдом, и ребятишки, забывая об обеде, целыми днями катаются там -- кто на резиновой подошве, кто на самодельных салазках, а кто и на коньках. Вот по заливу поплыло "сало" -- шуга. На смерзшихся комках молодого льда -- нерпы. У молодежи появилось новое занятие -- охота на нерпу. Незаметно подошли праздники, и тут вспомнили о баяне. Даже ходили на почту: не затерялось ли там письмо из Москвы. Почтарь Будюк, угрюмый и сильный украинец средних лет, приехавший на побережье по вербовке, воспринял их визит как оскорбление почтенной огранизации -- советской связи. Он обругал их и выпроводил за дверь. Глубокой зимой пришел наконец из Москвы пакет с прейскурантом. Чего только не было в том прейскуранте! Там было все, от карандашей до лодочных моторов. Последние так заинтересовали рыбаков, что баян отошел на задний план Наступили сроки смотра-конкурса. И председатель, посадив в тракторную будку бригаду рыбаков в двадцать человек, сказал трактористу: -- Насчет первенства -- не знаю, но чтобы всех привез обратно в целости и сохранности. Плохо ли, хорошо ли выступали рыбаки, никто в колхозе не знает. Об их выступлении не писала даже районная газета. Сами артисты, как подобает истинным талантам, тоже не рекламировали себя, скромно помалкивали. Тракторист выполнил наказ председателя. На другой день к вечеру привез обратно не только рыбаков, но и баян -- привез за активное участие в районном смотре художественной самодеятельности! Однако танцев в тот вечер не было. Накюн, известный во всем поселке гармонист, без которого не проходит ни одна свадьба или вечеринка, лихо взял в руки призовой баян, удобно расселся на услужливо предложенный кем-то стул и, чувствуя себя в этот миг самой важной персоной, если не на всей планете, то, во всяком случае, в поселке, взял аккорд и растянул мехи. Получился какой-то нестройный звук. Пальцы побежали было по клавишам, но вдруг споткнулись. Накюн, обветренный до цвета лиственничной коры, покраснел и стал похож на перезрелую клюкву. -- Испорченный, -- сказал кто-то. -- Дурак, расстроенный, -- солидно поправил другой. Тогда заведующий клубом разрешил Накюну взять баян домой -- пусть переквалифицируется из гармониста в баяниста. Прошло всего каких-нибудь полгода, и на вечере, посвященном Первомаю, Накюн появился с баяном. Мнение присутствующих было единодушно, музыкант совершил большой подвиг. Он играл на баяне не хуже, чем на гармошке! Кто-то даже сказал: если Накюн будет расти такими темпами, то будет играть не хуже баяниста из районного Дома культуры. Сейчас молодежь собралась в клубе и танцует. Кто не умеет танцевать, столпились на маленькой сцене и играют в бильярд. Пларгун чаще всего проводил вечера здесь, ловко вгонял в лузы металлические шары, проигрывал и снова занимал очередь, украдкой поглядывая в зал: кто танцует с Нигвит? Нигвит, маленькая и круглолицая, выделялась необычайной бойкостью. После выступления на смотре художественной самодеятельности она отрезала свои черные косы и ходила с какой-то мудреной прической. Ее голова теперь напоминала осеннюю болотную кочку: будто кто повыдергал волосы, а жалкие остатки топорщились в разные стороны, как обожженная холодным ветром жесткая болотная трава. -- В райцентре давно уже никто не носит косы, -- сказала Нигвит подругам. Темным сентябрьским вечером Пларгун шел прибрежными буграми, торопился в клуб. Вдруг под песчаной дюной послышалась возня. Пларгун поначалу подумал, что это шумит приливное течение. Вслушался. Казалось, кто-то силится поднять что-то неподатливое. Услышал и глухой прерывающийся шепот. Это говорил Накюн. Только он мог говорить так быстро, заглатывая слова. -- Нет! -- полушепотом ответил женский голос. Снова шепот. И снова шелест. -- Нет! -- отчаянно сказал тот же голос. Пларгун, устыдившись, быстро зашагал в сторону клуба. Сзади послышались торопливые шаги. -- А, это ты, Пларгун? -- будто обрадовавшись неожиданной встрече, сказала Нигвит. Она засеменила рядом. Пларгун смотрел под ноги, точно боялся споткнуться, неловко переступая, чувствуя, как дрожат колени. До самого клуба Пларгун так и не нашелся, что сказать. Следом за ними появился Накюн. Подошел к бильярдистам и безучастно уставился на шары, будто видел их впервые. Его попросили сыграть на баяне. Он долго отказывался, потом уступил. Играл вначале вяло, потом разошелся. Маленькая Нигвит поднялась на сцену и подошла к Пларгуну: -- Идем, потанцуем! Пларгун не помнит, как они ушли из клуба. Все произошло как в полусне. Они шли по прибойной полосе песчаного берега. Бугры молчаливо подняли головы, настороженно и чутко вслушиваясь в ночь. На их склонах кое-где цеплялся узловатый кедровый стланик. Легкий ночной ветер притаился в этих кустах и перешептывался с буграми. Справа у самых ног, мерцая и фосфоресцируя, клокочет черная вода. Она дышит холодом и сыростью. Невысокие волны длинными светящимися складками накатываются на берег, выплескивая брызги и пену, шелестят галькой, морской травой и журча откатываются. Была холодная ночь. Но молодые шли медленно, прижавшись друг к другу. Нет, они не сговаривались, куда идти. Ноги сами несли их от поселка в ночь. И вот теперь один в таежной избушке за много-много километров от человеческого жилья Пларгун вспомнил тот вечер. В поселке сейчас танцуют. Кто танцует с Нигвит? Думает ли она обо мне? А мы вместе учились в школе. Только Нигвит была классом старше. И жили через улицу, а вот случилось же -- будто встретились впервые Не тебя ли выискивал я среди других девушек? Не на тебя ли поглядывал я украдкой, когда ты, вся облепленная мерцающей чешуей, озорно смеешься после хорошего улова? Даже чайки, услышав твой звонкий голос, шумно срываются с дальней косы и долго кружатся над заливом, радуясь своим сильным крыльям и легкому парению С кем ты танцуешь, Нигвит? Его отвлекла от воспоминаний необычная тишина. Вслушался: дрова уже перестали гореть. Надо сохранить тепло, пока оно не вылетело в трубу. Поднялся. Нет, тишина слишком необычна. Мягкая тишина Что происходит? Кенграй мигом вскочил и, радостно повизгивая, нетерпеливо уставился на дверь. Пларгун натянул нерпичьи торбаза и, не застегивая шнурков, толкнул дверь. Что это? Снег! Падает густыми хлопьями, медленно, торжественно, сознавая всю свою важность. Не зря так сладко зевал Кенграй! Темные ели будто накинули на плечи белые вязаные шали. Земля притихла под свежим теплым одеяньем. Только кое-где в белом лесу чернеют выворотни. Тихо, совсем тихо. Лишь слышен бесконечный, волнующий, как хорошая музыка, шелест падающего снега. Кенграй ошалело понесся вокруг избушки, остановился, вспахал носом мягкий снег, шумно и отрывисто принюхался к своему же следу
Старик налегке уходил от юноши, но в душе уносил тревогу. Под самое сердце закралось сомнение: сможет ли этот совсем еще неопытный мальчик выстоять против одиночества? Правильно ли поступили они, взрослые, взвалив на его неокрепшие плечи эту неимоверную тяжесть? Не лучше ли было бы оставить мальчика с кем-нибудь из них?
В первый день, когда юноша уходил на речку за водой, Лучка высказал свои сомнения Нехану. Тот, еле сдерживая гнев, ответил: -- План дали большой. Надо охватить побольше угодий. И тайга -- не курорт, чтобы, объевшись жирного мяса, валяться на шкуре. Никто гробиться за него не будет. Потом уже тише, не сводя прищуренных глаз со старика: -- Мы и вдвоем бы взяли план Пларгун еще совсем мальчишка. А Нехан тяжелый человек. Разве так добрые люди поступают? Какой же нивх на его месте принял бы такое решение? Да, Пларгун -- совсем мальчишка. Правда, в его возрасте я уже был посвящен в основные тайны охоты и кормил семью и стариков Сегодня люди взрослеют позднее, нежели в мое время. Молодые, пока возьмут на свои плечи заботу о продолжении рода, уж очень долго готовятся: учатся в школе, потом еще где-то. Сегодняшняя жизнь -- совсем не такая, какая была в годы моей молодости. В ней много сложностей. Молодые люди умеют разбираться в этой жизни и распутывают ее сложности, как охотник распутывает следы хитрющей лисы. Но ведь много людей не понимают жизни тайги. Для них тайга -- это такая сложность, какой является для меня их жизнь Вот, к примеру, случай. По годам мне давно полагается пенсия, но я до прошлого года не ходил просить ее: слава богу, ноги еще держат меня, глаза, правда, стали видеть слабее, но еще могу направить мушку на убойное место зверя. Но слышал я, что другие почтенные люди, у которых наступает пенсионное время, идут к властям. Их встречают с распростертыми объятиями и тут же вручают пенсию. И они каждый месяц получают эту пенсию, хотя и не работают. Некоторые из них еще довольно крепки. Но раз наступил пенсионный возраст -- подавай им пенсию. Я сперва стеснялся просить пенсию. Последние годы охотился на нерпу. От нерпы, правда, никаких заработков, но кормиться ею можно. Небольшая пенсия могла бы быть подмогой. Ведь нерпа не всегда бывает. Да и на одном мясе не проживешь. Вот и набрался духу. Да и сородичи подбивали меня на это. "Чего ты, говорят, отказываешься от денег. Что они лишние, что ли?" Рассмешили. Да у меня никаких денег не было. Откуда им взяться?.. Вот и я пошел за пенсией. Пришел к председателю колхоза. Они меняются часто, председатели. Этот председатель недавно в колхозе, второй год. Его прислали из области на место прежнего, которого почему-то убрали. Председатель обрадовался моему приходу, будто я ему приятель какой, по которому он сильно соскучился. -- О-хо-хо! -- воскликнул он, раскрыв широкие объятия. -- Кто пришел! Проходи, Лучка, садись! -- Взял меня под руку и посадил на стул у большого стола. А стол у него покрыт свежим красным сукном. Раньше, у других председателей, скатерть была одна и та же, потертая, с порезами и залитая чернилами. А этот сразу купил новую скатерть. Стоит, улыбается. Загорелый, только вернулся из отпуска. Отдыхал у Черного моря. Интересно, почему-то дальнее море называют "черным"? Может быть, потому что люди там обугливаются от сильного солнца? Далеко то море. Но рыбаки ездят туда отдыхать. А чего не ездить, когда поездка им дается бесплатно, колхоз платит? Правда, далеко не все нивхи ездят туда. Года два назад побывал там рыбак Лиргун. Вернулся похудевший в конец и черный, как будто его все время держали над очагом. "Жарко, -- сказал он. -- Кое-как выжил до конца срока. Нивху лучше не ездить туда!" А этот улыбается. Радость так и брызжет из него. -- Ну, чем могу быть полезен тебе? -- Пришел за пенсией, -- сказал я. -- За какой пенсией? -- удивился председатель. -- Ты что, не видишь, что я стар? -- Вижу, вижу. Но ты не рыбак. Колхоз наш рыболовецкий. -- Ну и что же, что не рыбак. Я старый человек. Есть такой закон: старому человеку полагается пенсия. -- Есть такой закон, -- соглашается председатель. -- Но нужен стаж работы для пенсии. -- Чего нужно? Кое-как понял, что такое "стаж". -- А я что, бездельничал, по-твоему? Я всю жизнь охотничал и рыбачил. -- Но ты же сейчас не рыбак, -- спокойно говорит председатель. -- Я сейчас старый человек, -- говорю я. Потом вспомнил, что несколько лет рыбачил в бригаде. -- Я рыбачил в колхозе. Все старики подтвердят это. -- Сколько ты рыбачил? -- опять спокойно спрашивает председатель. Он уже перестал улыбаться. -- С перерывами -- около десяти лет. -- Мало! -- коротко сказал председатель. Сказал, будто отрезал. -- Но я всю жизнь охотничал и рыбачил! -- в отчаяния кричу я. А в сердце такое чувство, как будто качусь вниз по мокрой глинистой круче и не за что зацепиться, а впереди клокочет ледяная вода. Председатель молчит. -- Что, разве охота -- не работа? -- кричу я. -- Работа, -- отвечает председатель. -- Ну, так давай пенсию! -- Не могу, -- спокойно, очень спокойно говорит председатель. Мне уже кажется, что этот сытый человек издевается надо мной. -- Давай пенсию! -- требую я. -- Пойми, Лучка, колхоз тебе пенсию не может дать, потому что у тебя нет стажа работы в колхозе. Да ты давно уже и не колхозник. Ты охотник. Охотишься на "Заготпушнину", а не на колхоз. -- Очень длинно отвечает председатель. -- Что же мне делать? -- совсем убито спрашиваю. -- Не знаю, чем помочь. -- Потом, подумав, добавляет: -- Иди в сельсовет. Там скажут, что делать. Пошел в сельсовет. Председатель там женщина, уже в возрасте. Все в поселке знают: она добрая женщина. Она-то даст пенсию. -- Пенсия? -- спросила она. -- Надо обратиться в колхоз. Маленькая надежда, которая толкнула меня подняться по крутой лестнице сельсовета, погасла тут же, как только вошел в сельсовет. Поехал я через неделю в район, обратился к пушнику. Он меня уважает -- я же, считай, всю жизнь сдаю пушнину. -- Да ты что, в уме ли? Где ты видел, чтобы "Заготпункт" выдавал пенсию охотникам? У нас есть штатные работники, им полагается пенсия. А ты хоть и охотник-промысловик, но охотишься по договору только на период охотничьего сезона. Вот и все. Я не знаю, как убедить людей, что я -- промысловый охотник, работаю всю жизнь: зимой охочусь на пушного зверя, весной и осенью -- на нерпу. Летом, конечно, ни один охотник не охотится -- не сезон. Летом я рыбачу, заготовляю юколу, чтобы зимой кормить себя и упряжку собак. Пушник посоветовал обратиться в райсобес. Там могут дать пособие по старости. Но мне пособие не нужно -- я не нищий. Я всю жизнь трудился. Мне нужна заслуженная помощь, а не подачка! И вот по совету людей я обращаюсь к прокурору. Есть такая должность со странным названием "про-ку-рор". Точно не знаю, чем он занимается. Но, говорят, он помогает обиженным людям находить справедливость. Ожидал увидеть старого мудреца. Ведь, чтобы восстанавливать справедливость, много надо знать, много мудрости иметь. А он оказался совсем молодой. Даже бороды и усоз не носит. Ну, думаю, разве он сможет что-нибудь сделать, когда люди почтенного возраста ничем не помогли мне. А он внимательно выслушал, что-то записал для себя, спросил, где я живу, кто у нас руководитель, и отпустил, попросив дней через десять снова к нему обратиться. Но мне так и не удалось зайти еще раз к этому человеку: уехал в тайгу. Весной обязательно зайду к нему. Очень сложный и запутанный мир Хорошо в тайге. Все здесь родное, близкое и понятное. Ни к кому не надо обращаться: ни к председателю, ни к прокурору. Здесь я сам и председатель, и прокурор. Извини меня, Пал-Ызнг, за подобные мысли. Будь благожелателен ко мне и пошли в мои ловушки зверя. Хорошего зверя. Мне с тобой быть наедине всю зиму. А потом мне нужно будет возвращаться в селение. Помоги, пока я у тебя дома. Помоги и двум моим товарищам, чтобы удача не обошла их. Особенно будь внимателен к мальчику. И если он допустит непочтительность к тебе, не очень гневайся -- он с детства оторван от тайги и плохо разбирается в ее обычаях. Нехан не подошел ни через два дня, ни через три. И не избушка задержала его. Опытный таежник, он знал, что наступило жесткое время, когда дни -- да, да, дни! -- решают успех промысла. В несколько часов Нехан справился с небольшими повреждениями сруба. Амбар почти не тронул, только подтесал топором пазы и -- венцы осели, плотно прижались один к другому. Подогнал крышу. Уже стоял некрепкий морозец. Он схватил землю, оледенил травы, и те звенели, будто из жести. На другой день чуть свет Нехан отправился исследовать свой участок, чтобы подготовить его к облову. С карабином за плечами и маленьким топориком в сумке-крошне он прошел распадком, который обрывается у реки в ста шагах ниже избушки за грядой невысокого увала. В нескольких местах потревожил выводки рябчиков, видел глухаря на сопке. На песчаных берегах ключа нашел отпечаток перепончатых лап с острыми когтями -- следы выдры. Ключ образует неширокие заводи. В одной из них метнулась стая мелкой разномастной рыбешки. Тальниковые берега -- прекрасные места для куропатки и зайца На изгибах ручья Нехан срубил нетолстые сухие обомшелые лиственницы и перекинул их с одного берега на другой. Этими мостками обязательно воспользуются соболи. Нехан шел не спеша, примечая поперечные распадки, лес на склонах, мысы и уступы, лома -- • битые поваленные деревья и каменистые россыпи. К ночи Нехан оказался у крутого хребта-водораздела с зубчато-неровным гольцом на вершине, к югу от которого начались владения старика Лучки. Переночевал у костра под елью. Утром перевалил седлообразную сопку и пошел на запад. Два часа спустя он уже шел поймой неширокой долины, образованной звонким ключом. И здесь Нехан перекинул через ручьи мостки. Найдя дуплистое дерево, прорубил в нем "окна", в которые через некоторое время поставит ловушки. Чтобы дерево на срезе не отпугивало зверя своей свежестью, втирал в места, которых касалось лезвие топора, хвою, лишайник, торф. У одной сопки на ягоде вспугнул медведицу с двумя медвежатами нынешнего помета. Мирл понесся наперерез медведям, но куда там -- разве догонишь медведицу, когда она спасает детенышей! Поздно вечером, усталый и голодный, охотник вышел к реке Ламги и спустился берегом к стану. Весь следующий день Нехан потратил на подготовку капканов: счищал с них смазку, спиливал, выпрямлял или слегка подгибал насторожки, ругая при этом тех, кто создал такие неуклюжие самоловы. Потом долго и терпеливо вываривал ловушки в ведре, куда бросил вместе с капканами и ветки кедрового стланика, чтобы убить запах металла. После этой процедуры крючковатым суком выуживал их из ведра, нанизывал на вываренную в том же ведре мягкую проволоку и вывешивал на сук дерева -- пусть продует таежным ветром. Ночью шел небольшой сухой снежок. Он даже не задержался на ветках деревьев -- его сдуло ветром, и он не дошел до земли -- застрял на сухих листьях травы и на ягеле. При снеге и небольшом морозе средний по силе ветер становится промозглым. И это сигнал медведям: наступает время ложиться в берлогу. Медведи не боятся легких морозов, для этого они тепло одеты. Не морозы гонят медведя в берлогу -- снег. Глубокий снег для медведя -- все равно что путы на ногах, далеко не уйдешь. К тому же для него нет в тайге страшнее врага, чем его сородич. Более сильный зверь отыскивает своего собрата по следу, оставленному на мелком снегу, догоняет, давит его и пожирает. Вот почему медведи спешат залечь в берлогу еще по чернотропу. Застигнутые врасплох первым снегом, они осторожно пробираются к логову, стараясь ступать по бесснежным местам. Нагулявшие сало медведи уходят с побережья по узким долинам рек к истокам, где у подножия гор в непролазной чащобе выкопают себе уютные берлоги. Небо заботливо накроет их теплым одеялом из мягкого снега. И всю морозную зиму над берлогой будет виться легкий парок -- свидетельство мира и спокойствия Нехан был уверен, что сегодня на переходах он перехватит не одного медведя. Когда старик Лучка по дороге к своему стану завернул к Нехану, чтобы дать ногам отдохнуть и обговорить ближайшие планы, он к своему изумлению увидел: на распорках висело весемь медвежьих шкур разных размеров -- от пушистого маленького лончака до громадных шкур с седой шерстью. Идет снег. Он медленно опускается на седые поредевшие волосы, на раслабленные плечи, мягким пухом ложится на брови и ресницы, приятно холодит уши, тает на лбу. Капли трепетно дрожат, срываются и неслышно исчезают в шерсти потертой оленьей дошки. Лучка стоит неподвижно, будто всевышняя сила сковала его навечно. О чем он думает?.. Может быть, он думает о том, что жизнь его на закате и перед ним осталось уже совсем немного зорь?.. А может быть, он вспомнил свое детство, которое прошло в отдаленном стойбище у подножия обрывающихся к морю скал, окутанных туманом, продуваемых промозглыми ветрами?.. Может быть, вспомнил день, когда по берегу реки прибежал взлохмаченный, оборванный старший брат и, не доходя до жилища, дико прокричал: -- Курнг прогневан! Черная смерть опустилась на землю! Черная смерть! А когда отец и мать уложили скудные вещи в долбленку и тащили к лодке упирающихся собак, старший брат вдруг схватился за живот, страшно выкатил помутневшие глаза и упал будто подрубленный. А может быть, вспомнил, как однажды отец после голодной зимы собрал всю накопленную за два года пушнину и увез в большое селение, что вдали от побережья, но вернулся почти без припасов. То было время холодной затяжной весны Уж который раз отец возвращался из лесу без радующего тяжелого груза за спиной, смотрел отсутствующим взглядом, напивался с горя и пел долгую, заунывную, переходящую в надрывный плач песню. Дети забивались в темный угол, испуганно таращили глаза и тесно жались друг к другу, пытаясь хоть немного обогреться. После одной из таких попоек отец уснул. Уснул и не проснулся. Родовой шаман сказал, что отец взял на свою душу не нивхский грех и тем прогневал Курнга. Вскоре Лучка стал добытчиком. Потом он отделил от родового очага свою долю огня: женился. Спустя еще несколько лет в мире произошли перемены. Время помчалось с быстротой нарты, запряженной сильной, откормленной упряжкой, -- даже не успеваешь осмотреть, какие мимо тебя проносятся берега. Несколько десятков лет -- это много И это "много" пролетело незаметно, в напряжении, в заботах, в постоянном стремлении к чему-нибудь нужному И теперь, когда старик задумывается над своей жизнью, он ловит себя на таком ощущении, будто в отяжелевшей его голове бьется маленькая живинка: а жизнь-то прошла! Идет снег. Еще один снег Охотники еще раньше сговорились: при первом сколько-нибудь значительном снеге, когда уже можно будет различать следы, всем троим собраться у Нехана на совет. И на следующий день после ночного снегопада Пларгун и Лучка почти одновременно появились у Нехана. Нехан встречал гостей приветливо, как подобает уважающему себя нивху. Заслышав скрип снега, он выходил из избушки и, радушно улыбаясь, шел навстречу гостю с протянутой рукой. -- А-а, пришел, -- говорит он. -- А я жду. Уже сварил свежей оленины. Нехан держался уверенно, и окружающие должны принимать его поступки как должное. Но эти покровительственная интонация и уверенность, сильное рукопожатие не очень понравились старику Лучке. По нивхским обычаям, Нехан должен бы скромно, без шума, с почтительной предупредительностью встретить старшего. И вовсе не надо хватать руку и трясти ее так, будто необходимо вытрясти из нее костный мозг. С Неханом Пларгун чувствовал себя как-то скованно. Дни, проведенные вместе со стариком, были блаженной свободой. Лучше быть в тайге наедине с собакой, чем бесконечно ощущать на своих плечах тяжелую, властную руку, от которой невозможно освободиться. Поэтому шумная встреча порадовала юношу. Сегодня Нехана будто подменили. Он стал вдруг таким внимательным, разговорчивым, радушным.
Хозяин избушки подцепил дымящееся мясо чефром -- длинной заостренной щепкой, похожей на вертел, и один за другим выложил прямо на низкий столик большие сочные куски жирной оленины. Избушка наполнилась аппетитным запахом мяса. Нехан вытащил из-под нар початую бутылку спирта и, как бы извиняясь, сказал:
-- Вчера так продрог, что вынужден был раскупорить бутылку. Иначе хрипел бы сейчас на кровати. Как-то трудно было представить себе этого могучего человека, поваленным недугом. -- Хорошо, что был спирт. Ведь не интересно свалиться от болезни, когда охота только началась, -- сказал Пларгун с нарочитой грубоватостью и поймал себя: сказал совсем не то, что было на уме. Откуда эта фальшь? Что творится со мной: то дал себе вольность не поверить в искренность поступков знаменитого охотника, то позволил себе сказать совсем не то, что вертелось на языке?.. Нехан вышел к лабазу и принес холодной соленой кеты -- на закуску. Старик нарезал свежеиспеченной лепешки, а Пларгун подложил в огонь мелко наколотые поленья и поставил на раскалившуюся докрасна печку медный чайник с водой. -- Ну, нгафккхуна, за начало! -- Нехан поднял кружку чистого спирта. Пларгун поднял полкружки разведенного спирта, Лучка -- столько же. Сказав короткий тост, Нехан уже поднес было кружку к мясистым, округло раздвинувшимся губам, но его остановил старик. Он вдохновенно произнес: -- Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за соболем -- нет, мы не за соболем пришли. Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за выдрой -- нет, мы не за выдрой пришли. Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за лисой -- нет, мы не за лисой пришли. Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за глухарем -- нет, мы не за глухарем пришли. Пусть все население тайги знает, что мы не за ними пришли. Верно, нгафкка? -- обратился старик к Нехану. -- Верно! Верно! -- торжественно подтвердил Нехан. Пларгун с раскрытым ртом слушал длинную и странную речь старика. Сперва Пларгун принял ее, как начало удачной шутки. Но чем дальше говорил старик, тем больше сомневался Пларгун в своей догадке. И когда старик с пафосом, обратился к нему: "Верно, Нгафкка?" -- он чуть слышно, с покорностью ответил: -- Верно! Верно! -- Слышите, вы? -- Старик повернулся к правой стене. -- Слышите, вы? -- Старик повернулся к задней стене. -- Слышите, вы? -- Старик повернулся к левой стене. -- Слышите, вы? -- Старик обернулся к двери. -- Все вы слышали, что мы, трое людей, пришли в тайгу вовсе не за вашими дорогими шкурами. Носите их сами. Не бойтесь нас! И выходите все! Выходите из своих нор, из своих логовищ, из своих дупел и расщелин, из-под валежин и коряг. Выходите все! Занимайтесь своими делами. Бегайте по тайге, по сопкам! Оставляйте больше следов! Больше! Больше! Больше! Старик вошел в экстаз. Он уже не кричал -- хрипел. Он дышал часто и тяжело, желтая пена каймой обложила потрескавшиеся губы, вспучилась по углам рта. Узкие глаза округлились и отрешенно уставились, застыли на мгновение. Потом старик очнулся и вернулся в бренный мир из того неведомого для других мира, в котором пребывал. Он вспомнил о кружке со спиртом, поспешно обхватил ее дрожащими руками, поднес ко рту и опрокинул. И Нехан привычно, одним духом проглотил целую кружку спирта гольем. -- Ты что? -- повелительно гаркнул Нехан на замешкавшегося Пларгуна. И юноша, не в силах противиться, поспешно выпил. Жидкость обжигающей струей вошла в него, горячим пламенем растеклась в теле, ударила в голову. -- Закусывай, друг, закусывай, -- уже мягче сказал Нехан и сунул в руку Пларгуну кусок холодной соленой кеты. После длинной дороги по морозному воздуху и выпитого спирта аппетит у всех был зверский. Дымящиеся куски оленины исчезли со стола один за другим. Юноша усиленно двигал челюстями, разламывая крепкими зубами неподатливые волокна плохо проваренного мяса, а в помутневшем мозгу билась одна и та же мысль: в чем суть длинной и странной речи старика? И пришел ответ: да это же ритуал первобытных людей! Язычники наивно полагали, что подобными заявлениями можно скрыть свои истинные намерения, обмануть Пал-Ызнга -- хозяина гор и тайги -- и вместе с ним всех зверей и птиц. И обманутые звери становятся добычей ловких охотников. Первобытный ритуал и космические полеты!.. -- Ха-ха-ха-ха-ха! -- не выдержал Пларгун. От смеха изо рта вывалились непрожеванные куски. Пларгун схватился за живот и перегнулся пополам. -- Пьян, -- сказал Лучка. -- Слабак, -- брезгливо сказал Нехан. Пларгун проснулся от душераздирающего визга собаки. Сбросив с себя оленью доху, он мигом открыл низкую дверь и услышал безудержный мат на смешанном нивхско-русском языке. Перепрыгивая через порог, он все равно больно задел головой притолоку. Нехан отвел назад ногу и со всей силой пнул в живот пытавшегося подняться Кенграя. Кенграй спиной ударился о толстый столб лабаза. Мирл злобно набросился на своего недруга. У злых собак есть особенность -- они никогда не упускают случая, набрасываются на избиваемого сородича, загрызают его до смерти. Заметив Пларгуна, Нехан отшвырнул ногой Мирла и не в бок, а в безопасное место -- в мясистую ляжку. -- Сволочи! Воры! Грабители! -- ругался Нехан в сильнейшем гневе. Потом сокрушенно нагнулся над ящиком со сливочным маслом. Вернее, над пустым ящиком из-под сливочного масла. -- Сволочи, сожрали все масло! -- Нехан замахнулся, чтобы снова ударить собак. -- Стой! -- вне себя от возмущения крикнул Пларгун. Кенграй истошно выл, извивался в страшных муках. Пларгун подскочил к своему другу, попытался поднять его. Но едва притронулся к спине, Кенграй завыл еще пуще, будто снова его ударили. Было ясно, что Кенграй получил тяжелые увечья. -- Три дня назад росомахи проникли на чердак, разорвали мешки с мукой и солью, все смешали с корьем и землей. А сейчас наши же собаки ограбили своих хозяев! -- не унимался Нехан. Пларгун стоял спиной к нему. Весь его вид выражал протест. Смысл сказанного Неханом не доходил до его сознания. Лучка оперся об угол избушки. Руки его были безвольно опущены. Уж он-то знал всю меру обрушившейся на их головы беды.
Люди завтракали вяло. После вчерашней попойки всех охватила апатия. От Нехана несло перегаром. "Неужели еще от вчерашнего?" -- неприязненно подумал Пларгун.
В отличие от гостей хозяин избушки энергично заворочал челюстями, уминая розовые куски душистой кетовой юколы, и заел ее медвежьим салом. После юколы он приступил к оленине. И все это запил кружкой густого терпкого чая. Пларгун вышел посмотреть собаку. Кенграй лежал на древесном мусоре у штабелька колотых дров и осторожно вылизывал языком ушибленный бок. Завидев хозяина, пес виновато прижал уши, слегка зажмурил умные глаза и, нагнув голову, чуть осклабился. Опушенные редкими длинными усами губы нервно задергались. Пес тонко повизгивал. Пларгун легонько опустил ладонь на голову собаки и нежно провел по шерсти. Кенграй положил голову на бок и лизнул руку хозяина. -- Ну, походи, походи, -- попросил Пларгун. Узнать меру увечья можно, когда заставишь собаку пройти. Пларгун отошел на несколько шагов, присел на корточки, протянул руку с раскрытой ладонью, ласково позвал: -- Кенгра-ай, Кенгра-ай. Кенграй поднялся. Жалобно повизгивая и занося зад в сторону, приковылял к хозяину. Было очевидно, что увечья серьезные. Надо полагать, что ушиблен позвоночник и повреждены ребра. У нивхов запрещено бить собаку по позвоночнику и в бок -- это может привести к непоправимым последствиям. Когда необходимо наказать собаку, ее бьют чаще всего по шее и по голове. При несильном ударе голова более безопасна, чем хрупкий позвоночник. "Нехан -- опытный охотник. Он должен знать, как обращаться с собаками", -- с горечью думал Пларгун. Нехан вышел за дровами. Наложил на левую руку столько поленьев, сколько в связке на спине мог унести Пларгун, легко поднялся, открыл правой рукой дверь и, обернувшись, сказал: -- Зайди на совет. Лучка полулежал в углу на скатанной постели, дымил новой трубкой, вырезанной на днях из плотного березового корня. -- Ну что, кажется, главное для начала сделали, -- как-то слишком спокойно, обыденно сказал Нехан. -- Избушки построены -- есть где зимовать. Теперь наступила пора охоты. Соболь уже полностью переоделся в зимнюю шубку, мех крепкий. -- Сидя на полу, он достал из-под нар скомканный темный рюкзак, вытащил округлую темно-коричневую шкуру с нежной, шелковистой шерстью, встряхнул ее и подул на мех. Длинная ость заискрилась, обнажив густой голубоватый пух -- подшерсток. -- Три дня назад он сам вышел на меня в распадке. Вскочил на дерево и стал преспокойно посматривать оттуда. Наверно, хотел отдать мне свою дорогую шкурку, -- явно адресуясь к старику, сказал Нехан. -- И чтобы не обидеть Курнга, я снял этого зверя для пробы, -- спокойно, будто шел разговор о чем-то несущественном, закончил Нехан. -- Хы! -- изумился старик. Вытащил изо рта трубку, положил прямо на пол, протянул руку. Встряхнул привычным движением шкурку, пронаблюдал, как лег мех, провел по нему пальцами. -- Вот это "проба"! -- уважительно сказал старик и передал шкурку Пларгуну. Пларгун никогда не охотился на соболя, но много раз видел шкурки, но такие темные, как эта, встречал редко. Нехан бросил шкурку в рюкзак и продолжал прерванный разговор: -- Соболь сменил мех полностью. Пора. Нехан не говорил, как охотиться. В начале охотничьего сезона, когда снегу мало и зверь бегает, где ему угодно, ловушки -- дело второстепенное. Тут нужно промышлять ружьем. Об этом знает всякий охотник. И Пларгун вновь в мыслях вернулся ко вчерашнему. Как же ему быть без собаки?! Кенграй сильно покалечен и не скоро поправится. -- Когда пойдете осматривать свои участки, наткнетесь на седлообразную сопку, что стоит примерно на одинаковом расстоянии от наших трех избушек. Сопка небольшая, ее легко обойти за полтора часа. Она изрезана распадками. В сторону полудня, если идти от этой сопки, возвышается невысокий, но длинный хребет с гольцом на одной вершине. Хребет расколот в нескольких местах поперечными впадинами. Седлообразная сопка полого опускается в ту же сторону и упирается в одну из его впадин. Думаю, у стыка сопки с хребтом и будет место встречи наших путиков. Путики пробьет каждый, когда сочтет нужным. Увал-хребет уходит от побережья в глубь тайги. Он и будет границей наших участков. А седлообразная сопка разделит наши с тобой участки, -- Нехан кивнул на Пларгуна. -- Вот, кажется, и все. Нехан умолк. На его широком, мясистом лице играли темные тени. Он повернулся к собеседникам спиной, нагнул голову так, что побагровела шея, и сказал, придав голосу озабоченность: -- Вы уже знаете, что продовольствие растаскали воры-росомахи, а масло сожрали собаки. Я наскреб немного муки и соли. Килограммов на десять муки и горсти по четыре соли на брата -- вот и все, что удалось наскрести. Это от силы месяца на полтора. А дальше не знаю, как быть. Придется жить на одном мясе. Установилось тягостное молчание. Сухие дрова живо потрескивали в печке, в окно цедило блеклым светом осеннего дня. -- Что будем делать? Этот вопрос ввел Пларгуна в такое состояние, будто его подвесили на чем-то непрочном и подняли в воздух. Чем дальше тянулось молчание, тем, казалось, его поднимают выше. -- Может быть, кто-то из нас вернется в селение за продовольствием? -- Нехан ни на кого не смотрел. Он настороженно потупил голову и ждал, когда ему ответят. Идти сквозь тайгу сотни колометров через заснеженные хребты и непроходимую чащобу -- это почти самоубийство. К тому же ясно, старому Лучке это непосильно -- он отпадает. Оставались Нехан и Пларгун. -- Что будем делать? Пларгун почувствовал, как в его висок впился цепкий взгляд. Пларгун даже перестал дышать. Нехан обернулся к Лучке, но тот угрюмо молчал. -- Э-э, -- прервал затянувшееся молчание старик. Нехан резко обернулся. Его требовательный взгляд спрашивал: а ну, что ты скажешь? -- Э-э, дело ведь такое, совсем даже не безнадежное. Разве когда-нибудь люди умирали, когда вокруг бегает столько мяса, а у людей в руках оружие? Да и продовольствия какой-то запас есть. Не-ет, мы не в безнадежном положении. А идти кому-то в селение -- вот это дело почти безнадежное. Когда он еще дойдет до него! Да и реки еще не все стали. Только в древности могли нивхи сюда на собаках проникать. Но каким путем они ездили? Нехан нервно и нетерпеливо слушал старика. Пларгун облегченно перевел дыхание. Кенграй плелся позади. Он тяжело прихрамывал, жалобно скулил, взвизгивал. Они шли по своему следу вдоль реки. На поворотах Пларгун останавливался, поджидая собаку. Кенграй подходил медленно, преданно смотря на хозяина умными карими глазами, в них была мольба: не бросай меня. Но вот за одним из поворотов человек не дождался своей собаки. -- Ке-е-е-нгра-ай! Собака не появлялась. -- Кенгра-ай! Кенгра-ай! Собака не появлялась. Пларгун сбросил тяжелый мешок и помчался назад. Он нашел пса у трухлявой заснеженной колоды. Кенграй, обессилев, лежал под сгнившим деревом. По-видимому, он пытался перелезть через толстый ствол -- на стволе был сбит снег, -- но силы покинули собаку. Голова безжизненно лежала на лапах, пасть беззвучно раскрывалась, источая густую слюну; изредка сквозь неслышный стон пробивался визг. -- Кенграй! -- позвал Пларгун, подбегая. Пес попытался подняться, но ноги его подломились, и он упал. Пларгун опустился на колени. Сперва раздался всхлип. Потом еще. Еще. Окружающие деревья и кусты впервые услышали, как плачет человек. Он шел, пошатываясь, будто находился в глубоком опьянении. Рубаха промокла насквозь и прилипла к горячему телу. Промокли и ватная телогрейка и теплые брюки. Все тело налилось жаром. Жар пробивался через одежду и клубился тяжелым паром. Спина ныла, ноги мелко дрожали, натруженно гудели. День на исходе Уже вечер окутал мир Ноги требуют отдыха Уже звезды пробились в темно-густом небе Каждый стук сердца отдается в ногах. Потом все онемело: и ноги, и согнутый торс, и спина, и руки. Притупились чувства Только бы не упасть. Надо идти, идти, идти. Упадешь -- больше не встанешь. Никогда. "Идти идти идти" -- упорно стучит в замирающем сознании. Он еще помнил, как уложил ношу, как отодвинул лесину, которой подпирал дверь Лучка подобрался под самую ель, громадную, раскидистую. Дерево своими лапищами коснулось старика. Ночью ему снился предок, большой и суровый. Лучка хотел было подойти к нему, но предок отошел от него. Лучка сделал еще несколько шагов -- предок отошел от него на столько же. "Чем я тебя прогневал, отец? Почему ты холоден ко мне? Иду ли я в тайгу, в сопки, выхожу ли я в море, во льды -- всегда обращаюсь к твоему образу, а через тебя к еще более древним предкам. Попаду ли я в беду или какая трудность встретится мне -- всегда обращаюсь к твоему имени. Так почему ты обижаешь меня?" А предок сказал глухо как из-под земли: " Я знаю, что произошло у вас. Мне больно слышать, как оскверняют люди законы тайги. Человек, прежде чем войти в тайгу, должен оставить плохие мысли. Мне казалось, что ты достаточно мудр, чтобы в священной тайге всегда царили мир и добро. Как ты это мог, старый человек?.." Лучка стоял у ног предка -- маленький и смятенный. Он воздел руку кверху, но предок исчез, словно дым. "Разве я не делал все, чтобы мы принесли в тайгу мир и согласие? Да, я старый человек, должен был сделать все, чтобы предупредить ссору. Я должен был своими советами направлять умы людей. Но я не в силах сделать это. Нехан утвержден нашим бригадиром самим районным начальством. Разве он послушается меня? Извини, тайга, людей, что они позволили переступить обычаи предков. Извини. И сделай все, чтобы нам хорошо было. Чух!" -- широким движением Лучка рассыпал горсть рисовой крупы, взятой с собой специально для жертвоприношений. Разложил у основания дерева несколько папирос. Затем старый человек подошел к огромной лиственнице и обратился к пей с просьбой не гневаться на людей. И еще попросил благополучия. В той лиственнице наверху есть дупло. Оно прикрыто толстым многоветвистым суком. Дупло -- дом соболя. Лучка видел его однажды на рассвете. Он черной молнией мелькнул вверх по обомшелому столу и юркнул в дупло. Только и заметил старик -- соболь отменной черноты, вороной. У охотников этот самый дорогой сорт называется головкой. Лучка обрадовался, будто соболь обещал ему удачу. И каждый день, проходя мимо дерева, высматривал только ему заметные приметы, следы соболя Нет, он не будет преследовать его. Пусть себе живет рядом со стариком. Соболь, как талисман, как наговор могущественного шамана Потом старик крадучись отходил в сторону и шел по своим делам. Соболь рядом -- значит есть надежда на удачу. Старик дал соболю имя -- Пал-нга [Пал-нга -- Горный зверь.]. Этим старик выделил его среди других соболей и приблизил к Пал-Ызнгу. И на этот раз он тихонько подкрался к дереву и увидел свежие следы зверька. Лучка вздохнул обегченно и, надеясь, что все обойдется, ушел в избу. В это время на соседнем участке Нехан спешил разбросать приваду и ругал погоду самой отборной бранью. К вечеру разыгрался первый в этом году буран. Пларгун мгновенно открыл глаза и некоторое время соображал, где он. Потом вспомнил о собаке. Где же Кенграй? Хотел было встать, но по телу будто молния прошла и в глазах помутилось. Он тихо застонал. И тут почувствовал на своем лице что-то мягкое, теплое. А Кенграй продолжал лизать своего друга и спасителя. Живы! Но как смог он осилить неимоверный груз -- тяжелый рюкзак и собаку?.. Пларгун не помнит, как он забрался в спальный мешок. Теперь, когда проснулся, почувствовал: лежит очень неудобно. Отлежал бок и руку. Надо вставать. Большого усилия стоило преодолеть боль в разбитом теле. Первым делом надо затопить печку, а то избушка так настыла, что в ней стоит колотун, от которого мигом околеешь. Пларгун толкнул дверь. Но тут в него будто дунули сразу сто чертей, захватило дыхание, в лицо вонзился мелкий колючий снег. Дверь больно ударила по голове, отбросила его назад, захлопнулась. Был сильный буран. Когда он только успел разыграться? Сколько же я спал?.. Желание выйти на улицу как рукой сняло. Он плотно прикрыл дверь, вернулся к нарам. Сел. Руки безвольно повисли. Хотелось забраться в мешок, закрыться с головой, обогреться дыханием. Род Койвонгун произошел от дерева кой-лиственницы. Раньше на земле не было никакой жизни. Да и земли никакой не было. Было только одно огромное море. На море жила одна-единственная птица, маленькая утка -- чирок. Утка летала по небу, плавала в море. Одна на все небо и на все море. Но не могла она жить одна. Старея и чувствуя приближение смерти, она решила оставить после себя жизнь. Но куда положить яйца? Они не могут лежать на воде. Как-то в тихий солнечный день утка спокойно сидела на море и чистила перья, смазывая их жиром. С груди слетело перо и медленно поплыло по морю. Такое бывало и раньше. Но на сей раз утка погналась за пером, положила под себя и стала ощипывать с груди перья, сбивать из них круглое гнездо. Снесла яйца. Из яиц проклюнулись маленькие желтенькие утята. Мать выкормила их. А дети, став взрослыми, тоже повыщипывали из своих грудок перья. Образовалось много гнезд. Их соединили вместе -- получился остров. Утки снесли яйца. И многочисленные дети сделали то же самое. С тех пор прошло много времени. И тот остров вырос в огромную землю. На этой земле появилась всякая живность: травы и насекомые, птицы и звери, деревья и люди Люди появились позже. Сперва выросло дерево кой-лиственницы. На солнце и вольном воздухе оно поднялось до самого неба. Сильное дерево держало на своих ветвях сотни птиц и зверей с их гнездами, кормило их своими семенами. На земле развелось живности неисчислимое множество. Но в дереве было много силы, и она пробилась сквозь толстую кору и смолою стала стекать на землю. Только коснулась смола земли, из нее появился человек. Люди других родов появились от других предков. Есть нивхи, которые пошли от орлов. Но род Койвонгун, веткой которого является Лучка, произошел от лиственницы А чирки, они осенью улетают в сторону полудня, весной возвращаются обратно. Вы думаете, почему они делают далекие перелеты? Они ищут конец земли, но земля стала настолько огромной, что ей ни конца ни края не видно. А чирки и по сей день выщипывают свои перья. Им все мало. Хотят, чтобы земля росла и живность на ней умножалась. Три дня продолжался буран. К вечеру третьего дня небо посветлело, образовав в нескольких местах голубые окна. Края туч подернулись розовой морозной каймой. Две вороны, преодолевая слабеющие порывы ветра, косо прочертили небо, сели на сук ближайшей лиственницы, с голодным любопытством наклонили хищные головы и прокричали: -- Ка-ак? Ка-ак? После случая у Нехана Пларгуна все угнетало. Было больно за Кенграя, больно, что Кенграй стал виновником ссоры. Только непонятно, как ящик с маслом оказался на земле? Он же был в лабазе, а лабаз на высоких столбах. Собаки не могли сами стащить ящик. Тут что-то неясно. Может быть, Нехан спустил ящик для чего-нибудь, а поднять забыл?.. Да, тут дело неясное. А Нехан страшен в гневе. Пларгун радовался, что теперь он далеко от этого человека. Кенграй уже мог ходить, даже пытался преследовать рябчиков в прибрежном ельнике. Он увлекся и неосторожно зацепил за сухой сук, взвизгнул от боли, заскулил протяжно; еще долго боль будет давать о себе знать Когда неверный свет раннего утра просочился в маленькое окошко, Пларгун проснулся, как от толчка. Спросонья никак не мог понять, что его разбудило. Непонимающе посмотрел вокруг. Взгляд упал на патронташ, на ружье, приставленное к стене, -- резко хлопнул по голове: ведь собрался же с утра выйти на охоту и боялся проспать! Кенграя оставил в избушке -- ему нельзя, он еще не поправился. Тайга молчала. Лишь маленькие и легкие как пушинка синички копошились на нижних ветках старых елей, ворошили космы провисших черных лишайников, внимательно всматривались блестящими круглыми глазенками в трещины коры, отщипывали от нее чешую и, уколов тишину тонким писком, перелетали на следующее дерево. На чистом снегу аккуратные крестики -- следы рябчиков. От дерева к дереву словно два ряда бисера. У основания дерева в сугробике дырка, будто снег пронзили прутом. Это следы мыши. А вот белка размашисто чиркнула по пороше и взлетела на ель. Пларгун осторожно обошел дерево, внимательно всматриваясь в тени между ветвями. Если белка на дереве, она должна дать о себе знать: шелуха ли упадет от еловой шишки, ветка ли покачнется или снег посыплется сверху. А может быть, она притаилась? Пларгун всматривался до рези в глазах, но никаких признаков белки не обнаружил. Он отломил сухой сук и ударил им по стволу ели. Всмотрелся. Прислушался. Дерево молчало. Охотник забросил палку и углубился в чащу. Следы зайцев и лис попадались часто. Но разве настигнешь этих быстроногих тварей! Их можно взять на лежке или когда они случайно нарвутся на выстрел. Но где она, лежка? Потом Пларгун увидел свежие следы оленей. "Хорошо бы свалить одного -- для привады", -- подумал он. Олени то шли гуськом, то рассыпались. Местами снег взрыхлен, истоптан. Охотник прочитал по следам: самцы то и дело сходились и упорно бились. Стадо не могло уйти далеко. И действительно, через полчаса быстрой ходьбы Пларгун нагнал его на замерзшей мари. Два молодых хора беспокоили стадо. Третий, высокий, могучий хор набрасывался на соперников, отгоняя их от важенок. Пларгун вдруг узнал в стройном хоре того бурого самца, который еще до снегопада выиграл на лесной поляне жестокий бой у стареющего великана. И юноша обрадовался встрече со старым знакомым. Теперь хор-владыка обзавелся гаремом. В тайге сильный владеет всем. От него идет жизнестойкое потомство. И этот закон тайги вполне оправдан. Юноша заметил в стаде облезлого тощего хора с побитыми рогами. Он внимательно следил за могучим хором и, когда тот, преследуя соперников, покидал стадо, норовил отбить самочку. Бурому нелегко биться сразу с несколькими соперниками. Тощий старый самец выбрал удобный миг, выскочил из-за деревьев, кинулся к стаду и стал нагло распоряжаться в нем. Пларгун быстро поднял ружье. Выстрел разбросал стадо. Самки шарахнулись к деревьям и исчезли в чаще. А бурый хор выскочил на марь, грозно оглянулся кругом и грациозно поскакал вслед за самками. Пларгун некоторое время соображал: почему он выстрелил именно в старого самца? И нашел ответ: старый самец портит стадо. Молодой охотник только помог навести порядок Он углубился в ельник, местами разреженный березой и кустами кедрового стланика. И тут наткнулся на округлые парные следы. Соболь! Мягкие вмятины округлой формы пролегли от дерева к дереву, от куста к кусту. Соболь никогда не идет шагом. Он скачет, оставляя парные следы. С удивительной точностью, ноготь в ноготь, ставит он задние лапки в следы передних. И никогда не оставляет "бороды". Его побежка [Побежка -- цепь следов мелкого зверя.] изящна и аккуратна. Пларгун отломил прут, коснулся им следа. Прут мягко прошел в снег -- след свежий, мороз еще не успел прихватить. В нескольких местах на снегу обозначились мелкие парные следы. Встретившись с побежкой соболя, они обрывались, уходили под снег. Это следы маленького, но алчного хищника -- ласки. Соболь не любит соседства с этим злобным зверьком и всегда старается изгнать его из своих владений. Четкий соболий след повел от кустов к лежащему дереву. И по снегу, что пластом прикрыл его, протянулась цепочка. Сердце молодого охотника забилось взволнованно. Участилось дыхание. Глаза азартно проследили за направлением побежки. Цепочка оборвалась у валежины. Ноги сами потащили к валежине. Соболь обошел валежину вокруг и, не найдя здесь ничего интересного, проскакал дальше. Зверек не мог уйти далеко. Наверно, он где-то поблизости Пларгун в азарте помчался по следу. Ему казалось, где-нибудь рядом зверек выскочит из кустов или из-под колодины и, спасая свою шкуру, взлетит на дерево. А там Пларгун умеет стрелять.
Он бежал уже полчаса. А след вел дальше и дальше, петляя и кружа, не оставля без внимания ни одного поваленного дерева, ни одного дупла, ныряя в лома -- нагромождения мертвого леса, заскакивая на гнилые пни. Потом ходил спокойными размеренными скачками. А дальше этот след пересек следы другого соболя, проскакал по нему немного. Пларгун остановился в нерешительности, он еще не умел различать следы одинаковых зверей.
Тогда молодой охотник решил: надо при пересечении выбрать поздний след и идти по нему. Так и сделал Кажется, уже за полдень. А следу не видно конца. Пора бы возвращаться назад Но тут вышел он к следам человека. Кто мог здесь ходить? След овальный с ровным обмином. Тоже, значит, в торбазах. Неужели вышел на участок Нехана? Через час или больше опять наткнулся на человеческий след. Пларгун внимательно осмотрел его. Человек преследовал соболя. "Да это же мои следы! -- холодом ударило в сердце. -- Неужели заблудился?!" В голове теснились лихорадочные мысли. "Что делать? Что делать?" -- стучало в висках. "Заблудился, заблудился!" -- злорадствовал невидимый бес. Пларгун глянул на небо. Оно прикрыто высокими спокойными облаками: погода не изменится. Это хорошо. Очевидно, все-таки лучше идти от места пересечения навстречу пересекаемому следу Неизвестно, как далеко сейчас находится Пларгун от избушки. В любом случае путь от пересекаемого следа короче. "Пожалуй, засветло дойду до избушки", -- решил он. И, приняв разумное решение, пошел быстрым, широким шагом. Теперь время решало все. Слева в отдалении открылась сопка с частым ельником на пологих склонах. Охотнику показалось -- он ее видел раньше. От нее до избушки окола часа ходьбы. А не пойти ли к ней напрямик? К тому же уставшие ноги просили пощады. Но след тянул к себе, держал цепко. Юноша боялся, что, уйдя от следа, больше не найдет его в темноте. Тогда нужно будет переночевать в тайге. А небо темнело на глазах. Может, уйти от следа и срезать путь напрямик через сопку? В лощинах скопилось много свежего снегу. Снег прикрыл все, и ноги часто проваливались в ямы. Мягкие торбаза, отлично приспособленные для ходьбы по ровному и по твердому, плохо предохраняли от ушибов, ноги саднило от ударов об острые сучьи и камни. Когда Пларгун взобрался на сопку, на небе уже зажглись звезды. Они, высвеченные потухающей зарей, мерцали, мелкие и слабые. Охотник осмотрелся с вершины сопки. Перед ним тайга, тайга. Бескрайняя тайга, окутанная синей тенью. В каком же направлении избушка? Он вглядывался в темнеющие дали, но перед ним были только деревья. И ему стало страшно. Возвращаться к следу было бессмысленно: ночь застанет на полпути и тогда Надо срочно собрать дрова для ночного костра Продолжение следует
----------
Last edit by: aborigen at 27.05.2010 09:26:25
|
Aborigen
Страна: Россия / Германия
Город: Планета Земля
Рыба: Лосось, форель, хариус, корюшка, крабы, креветки. Salmon, trout, a smelt, crabs, shrimps
моя анкета
27.05.2010 09:28
|
10.
@Aborigen
Надо срочно собрать дрова для ночного костра…Надо срочно собрать дрова для ночного костра. Пларгун спешил. Но как назло, поваленные бурей деревья были так громадны, что соорудить из них костер -- безумие. Пларгун вытащил из рюкзака маленький топорик и стал срубать сучья. Сухие сучья тверды, как металл, а топорик слишком мал, чтобы с маху перерубить их. Он годен разве только для городских охотников-любителей, которые и тайги-то не видели, и костра-то настоящего не разводили Топор отскакивал от сучьев, как от стальной пружины, больно отдавая в руку. Пларгуну стоило больших усилий нарубить сучьев для костра. Ногами он разгреб снег у искари -- вывороченного корня громадной ели, разложил дрова. Ножом насек щепок, настругал стружек от сухой ветки пихты. Пихта, хотя и дает тепла меньше, чем лиственница, но легче схватывается огнем. Смолистую пихту, как и бересту, используют в тайге для растопки. Маленькое пламя от спички охватило свившиеся узором стружки, вспыхнуло, перешло на щепки, пробежало по ним, точно чуткие пальцы слепого, и, убедившись в их способности гореть, подожгло. Вскоре огонь, треща и разгораясь, схватил снизу бестолково сложенный сушняк. Пламя от костра высветило из темноты ближайшие деревья, отдаленные же отбросило в черный провал. Мир сузился предельно, до размеров охватываемого светом костра. Костер весело трещал, пламя гудело, будто ветер в трубе. На душе стало веселей. Врешь, не возьмешь меня! Гори, костер! Гори! И он горел. Горел быстро, неэкономично, потому что сложен был неумело. Приходилось возиться с валежинами, рубить мелкий сухостой. На это уходили силы. Натаскав дров, Пларгун сел поужинать. Достал из рюкзака смерзшийся кусок оленины и небольшой ломоть хлеба. Никогда в жизни не ел он чего-либо вкуснее. Только съев последний кусок мяса, почувствовал, как нужен горячий чай. Пларгун полагал, что уйдет недалеко, и не взял с собой чайник. "Идешь на день -- бери на три дня!" -- кто-то мудро сказал. В следующий раз без чайника и шагу не сделаю. А сейчас придется заесть снегом. Пларгун прислонился к нагретой искари, как к теплому щиту. Тело разомлело от жары. Голова налилась тяжестью и клонится, клонится к груди. Уставшие от напряжения мышцы блаженно расслабились, приятная истома растеклась по всему телу. Веки стали тяжелые-тяжелые, будто налились свинцом. Не засыпать! Пларгун пытается открыть глаза. Но все усилия напрасны. А в голове стучит: не спать! не спать! Пларгун пальцами пытается раздвинуть сомкнувшиеся веки. Пальцы будто одеревенели: неповоротливы и непослушны. Наконец ему удается разомкнуть веки. И видно: перед ним струится и пляшет ярко-красное пламя, будто льется свежая кровь-костер. Гори, костер! Гори! А голова падает падает
-- Ну, так когда же придет хозяин?
Кенграй еще днем начал проявлять беспокойство: вставал, нервно ходил от стены к стене, садился, внимательно всматривался в дверь, вслушивался. Теперь беспокойство овладело им настолько, что он уже не находил себе места в избушке. -- Ну так когда, говорю, придет хозяин? Кенграй в ответ взвизгнул, нетерпеливо заходил передними лапами, опять уставился на дверь. -- Вот кончу обшивать лыжи, затопим печь и горячим чаем встретим хозяина. Время шло. Уж вечер опустился на тайгу, а хозяина все нет и нет. Теперь волнение собаки передалось старику. Шутливый тон сменился беспокойством: -- Хы, однако, уже ночь! Они шли по следу. Полная луна поливала обильным светом ночной мир. Каждое дерево, каждый куст, каждая ветка и каждая вмятина на снегу резко выделены и оттенены. Старик запыхался. Кенграю было еще тяжелее. Через несколько шагов он останавливался, взвизгивал от боли, но, собравшись с силами, продолжал упорно уводить в ночь. "Далеко ушагал. Как он сейчас там? -- беспокоился старик. -- Может быть, выстрелить в воздух? Авось откликнется", -- старик стаскивает с плеча ружье Кенграй поднял голову, навострил уши, помчался к валежине, перевалился через лиственницу. Старик обошел искарь кругом и увидел его. Он сидел, привалившись к искари, подогнув ноги, сиротливо обхватив себя руками спереди. Голова безжизненно склонилась к груди. Легкий ветер тихонько пошевеливал выбившуюся из-под ватной стеганки кисть шарфа. Перед ним -- груда пепла и несгоревшие концы сушняка. Старик снял рукавицу, тронул пепел. От прикосновения пепел вспучился. Его неслышно подхватил ветер, снес в сторону. Пепел был чуть теплым. Холод волной окатил старое, видавшее всякие беды сердце. Кровь отхлынула от лица, мороз ожег спину. Лучка подошел к юноше. Не веря возникшей у него страшной мысли, притронулся к спине. Затем крепче схватил за плечо, дернул. Пларгун, не меняя позы, повалился на бок. Ударился о мерзлую землю, шевельнул ногами, вытягивая их. Потом открыл глаза. Заиндевелые ресницы недоуменно захлопали. -- Нгафкка, вы замерзли. -- Что? -- Пларгун не понял, что происходит вокруг. Облокотился и попытался встать, но зашатался и упал. Старика будто подменили. Острый топор, перерубая сучья и сушняк, зазвенел на всю тайгу. Вспыхнул большой языкастый костер, обдал жаром. Лучка набил чайник снегом, поставил к огню. Пларгун немного отошел. Встал, но не смог разогнуть окоченевшие ноги и спину. Так и ходил, согнувшись в три погибели. -- Походи еще! -- скомандовал старик, когда Пларгун присел на обрубок сушняка. Чайник тонко запел. Старик бросил в него еще ком снега. Вскоре крышка подпрыгнула, из-под нее клубами вырвался пар. Старик налил кружку горячего чая, и дал ему немного остыть, чтобы Пларгун не обжегся. Пока юноша отогревался чаем, старик перенес костер в сторону, на горячий пепел накидал елового лапника и скомандовал: -- Ложись. Снял свою доху, накрыл юношу, сверху завалил лапником. -- Будет очень жарко. Терпи. Старик подсел к костру, не спеша заварил себе чай. У него незыблемый закон: в тайге ни при каких обстоятельствах не отказывать себе на ночь в горячем чае. -- Жарко! -- раздалось из-под груды лапника. -- Терпи! Старик вытащил кусок вареного мяса, подержал его над огнем, опалил слегка. -- Жарко! -- Терпи. Старик поел. Медленно, наслаждаясь, потянул из кружки чай, потом подошел к груде лапника, скомандовал: -- Переворачивайся па другой бок! Поправил доху и еловые ветви, вернулся к костру, налил полную кружку чаю. -- Мечтал о шашлыке из медвежатины, а сам превратился в шашлык, -- глухо донеслось из-под груды лапника. Пларгун ожидал, что после злополучного ночлега в тайге с ним будет плохо. Но -- обошлось. Когда к концу второго дня старик заявил, что утром уходит, Пларгуном овладела паника. Со стариком, добрым, всемогущим стариком, и уютней, и теплей, и чувствуешь себя человеком. А тут вновь закралось сомнение в своих возможностях, и опять он ощутил бессилие и свое ничтожество -- Ваш участок рядом с моим. И, должно быть, скуден зверем. А у меня участок -- вся тайга! Зверя хватит не только на двоих, -- быстро, будто боясь не успеть, проговорил Пларгун. Старик ответил пристальным, суровым взглядом. В эту ночь юноша допоздна не мог заснуть. И хотя Лучка не шевелился, Пларгун уловил: он тоже не спит Лучка уходил утром. Он ни разу не оглянулся. Пларгун стоял долго, прислонившись к двери, и растерянно мял шапку, которую почему-то не надел, хотя было ветрено и морозно В последние дни он все чаще и чаще возвращался в мыслях к дому Там тепло сейчас. Пусть даже и не ловится рыба, но там тепло. И ничто не страшит тебя. Хорошо ребятам -- они вечерами в клубе. Нигвит Как ты? Скучаешь ли по мне?.. Пларгуну очень хотелось, чтобы ей не хватало его Дядя Мазгун Если бы ты знал, как нелегко мне стать тем, кем ты хочешь меня видеть Может быть, зря я уехал так далеко от дома? Ведь есть же участки неподалеку от поселка. Я бы через каждые десять дней наведывался домой Домой Наверно, мать вся извелась, тоскуя. Зря я мучаю и мать и себя. Ведь есть же охотничьи участки неподалеку от поселка. Правда, небогатые. А мать каждый день с утра выходит на залив и под пронизывающим до костей ветром долбит тяжелой пешней толстый лед Сорокаградусный мороз тяжелая пешня неподатливый лед А рыба? А рыбы нет. Ее нет уже много лет. На побережье ее всю выловили. Говорят, и в океане ее мало стало И мать с тупым ожесточением долбит на заливе лед. Нет, мать, я привезу соболей. Да, да привезу. Я обязательно привезу соболей! Уходя, старик вручил Пларгуну отличнейшие охотничьи лыжи, обшитые мехом, и проговорил торжественно, как при исполнении ритуала: -- Пусть творение рук старого человека поможет молодому человеку в его первых шагах на трудной тропе охоты! Удачно идти! Старик ушел и унес с собой хорошую погоду. Из-за дальних хребтов налетел ветер, завихрил снег, перемел, сдул с открытых мест, завалил распадки, трещины, бочаги. Потом явились тучи, чем-то напоминающие большие темные машины, которые доводилось видеть Пларгуну. Подошли тяжело груженные тучи-самосвалы и разом сбросили свой груз на тайгу.
Когда установилась погода, Пларгун стал на лыжи. Легкие, послушные, они мягко скользят по рыхлому снегу.
Он взял с собой Кенграя. За три недели пес оправился от ушибов и теперь охотно шел в тайгу. Пларгун согнулся под тяжестью рюкзака, заполненного олениной на приваду. В руках -- ружье. Палку решил не брать. Пларгун хороший лыжник, а на подъемах мех на лыжах хорошо сцепляется со снегом, не скользит назад. Так что палка просто не нужна. Охотник прошел вверх по берегу реки, дошел до первого распадка, склоны которого густо облеплены ельником, прошел по ключу в сторону истока. Распадок у устья неширок. Пойма покрыта ивой, березой, ольхой. Выше распадок сужается клином. Здесь местность очень привлекательна: склоны распадков покрыты старым ельником. В чаще Пларгун нашел две пересекающиеся колоды и бросил около них приваду. Свежих следов мало. Но соболь должен подойти к приманкам, и охотник разбрасывал приваду у каменистых россыпей, на обвалившихся склонах бугров, у мшистых валежин и у нагромождений поваленного леса. Все заприваженные места отметил затесами на деревьях. Скоро распадок вклинился в невысокое светлое лиственничное плато. Кенграй, до этого рыскавший поблизости, принюхивался к старым следам, вдруг сорвался -- только снежная пыль взмыла за ним и медленно, искрясь, оседала, запорашивая его же следы. Соболь! Соболь! Наконец-то! Охотник помчался по пологому склону вверх на плато. Он часто семенил, подминая под собою снег и радуясь совершенству охотничьих лыж; они даже на самых крутых склонах нисколько не отдавали, позволяя быстро взбираться на возвышенные места. Он мчался вверх, не глядя ни по сторонам, ни под ноги. Он знал, что собака нагоняет дорогого зверя, и тому ничего не останется, как спасаться на дереве. Зверь на дереве -- верная мишень. К нему можно открыто подойти совсем близко. Даже немного полюбоваться им. Пларгун мчался, вслушиваясь, не залаял ли пес. Спешил быстро одолеть подъем. И уже на самом верху склона задел ногою за толстый сук от валежины, споткнулся и, неловко балансируя, опрокинулся на спину. Лыжи, сдав назад, глубоко ушли в снег. Пларгун лежал в мягком удобном снежном ложе. Хотел было подтянуть ноги, но их будто взяли в тиски: лыжи прочно вошли в снег. Попытался облокотиться, но снег предательски разверзся, и рука провалилась на всю длину. Попытался сесть без помощи рук, но мешала одежда и тяжелый рюкзак. Надо скинуть рюкзак. Действуя руками и чуть поворачиваясь влево и вправо, сбросил лямки. Освободившись от груза, вновь попытался встать. Но стоило ему напрячься, как снег под спиной осел. Теперь молодой охотник лежал в вырезанном по форме его тела глубоком снежном ложе. "Снежный гроб", -- мелькнуло в голове, и Пларгун вздрогнул. Панический, нечеловеческий вопль огласил тайгу. Потом он слышал лай Кенграя. Заливистый, азартный. Загнал все-таки на дерево. Цепко держит. -- Кен-гра-а-а-ай! Лай Кенграя далекий, зовущий. Перекатывается, гулко дробясь о стволы лиственницы. -- Кен-гра-а-а-ай! Зря, совсем зря не взял лыжную палку. Круг на палке сплетен из лозы ивы. Он хорошо держит палку на снегу, не топит. Старик -- мастер, каких не часто встретишь. Зря, совсем зря не взял палку А небо, оно серое Черт возьми, где же Кенграй? -- Кен-гра-а-ай! Уже совсем негромко раздается лай. Охрип бедняга. Не дождется меня. Вскоре где-то совсем рядом заскрипел снег. И в то же мгновение Пларгун почувствовал на лице горячее прерывистое дыхание. -- Кенграй, друг мой. Ну, что же это такое, а? Почему мне так не везет? Кенграй, нетерпеливо повизгивая, суетливо бегал вокруг. Ему было непонятно, почему хозяин ничего не делает, когда соболь сидит на дереве. -- Кенграй! -- простонал Пларгун. То ли голос подсказал псу, что человек находится в беде, то ли сам понял это, но подскочил к хозяину, схватил зубами за плечо, стал тянуть. Тянул сильно, бестолково. Пларгун выпростал из снега руки, повернул пса головой вверх, по склону, взял его за складку кожи на загривке. -- Та-та! Могучая лайка сильно дернула, и Пларгун сел. Помогая себе движениями корпуса и опираясь на собаку, подтянулся вперед, встал на ноги. Резкими рывками вытащил лыжи. Поднял рюкзак и, еще не веря своему спасению, вдруг рванул наверх. Он помчался быстро, будто за ним гналась смертельная опасность. Увидев человека, соболь кинулся еще выше, винтом обежал макушку дерева, пытаясь найти безопасное место. Соболь сидел на самом верху лиственницы у основания сдвоенного сука. Темно-коричневый на спине и чуть светлее на брюшке. Спина изящно изогнута, хвост молодым месяцем лежит на суку, ветер чуть слышно теребит его конец. Какой красавец! Пларгун скинул с плеча ружье, переломил его, чтобы зарядить патроном с дробью средних размеров. И тут увидел, что ствол ружья забит тугой снежной пробкой. Поднес его ко рту, чтобы продуть. Но как ни тужился, пробка оказалась сильнее его легких. Пришлось вырезать тонкий прут, и только тогда пробка поддалась, раскрошилась и высыпалась серебристой пылью. Спокойно прицелился, нажал на гашетку. Собрля подбросило в воздух вместе со щепками, отколотыми от ветвей, Кенграй подскочил, на лету поймал зверька, несколько раз стиснул его зубами и подал хозяину. Первый соболь! Снег падал день и ночь. Падал медленно, крупными хлопьями. Лег на ветках и лапнике толстыми пластами, будто кто аккуратно, чтобы не сорвались, разложил их как можно больше. Ветви провисли под тяжестью, деревья притихли, покорные и безропотные. Молодые гибкие березы не выдержали груза, смиренно приникли головами к земле, образовав то тут, то там причудливые арки. Серое небо без движения. И все -- в молчаливом ожидании. Только слышалось через короткие промежутки будто кто-то устало вздыхал тяжело: -- Пфых! Пларгун прислушался. Где-то он уже слышал подобные звуки. Да, вспомнил! Это было на море, когда он выходил с дядей охотиться на нерпу во льдах. Огромное бурое животное плавало в чистой ото льда воде, выгнув спину, уходило на дно, через минуту-другую показывалось на том же месте. Сперва слышалось натруженное "пфых!". Потом показывалось само животное. Это сивуч пасся на подводных колониях морских моллюсков. Но то было в море Пларгун стоял молча, прислушиваясь. На голову с дерева свалился огромный пласт снега. Обсыпал с головы до ног, облепил лицо -- дышать стало трудно, проник за шиворот, промчался леденящей струей по горячей спине под одеждой. Пларгун хотел было обломить ветвь ели, чтобы сбить с себя снег, но только прикоснулся к дереву, как по голове и плечам ударил целый залп. Снег таял на лице, на руках, на спине. Промокла ватная куртка, промокли теплые стеганые брюки. А вокруг только и слышится плюханье комьев: пфых! пфых!.. Ветви, сбросив тяжелый груз, как крылья взмывают кверху, раскачиваются, радуются своей легкости. Вот огромный ком сорвался с высокой ели, угодил в сугроб, захоронивший вершину березки. И береза, вырванная из западни, распрямилась упругой пружиной, взмыла вершиной в небо, удивленно и испуганно оглянулась кругом -- еще не верит в свое освобождение. Лыжню завалило, и Пларгун шел по памяти, ориентируясь по редким зарубкам на деревьях. Снег был настолько рыхлый, что даже широкие охотничьи лыжи проваливались глубоко. Пларгун добрался только до первой привады, что у искривленной старой ели. Поверхность свежего снега изрешечена упавшими с деревьев комьями. Иногда охотник принимал мелкие лунки за долгожданные следы соболя В первый день после обильного снегопада ни один лесной обитатель не спускался на снег. Сидит в своем гнезде на дереве. Просыпающаяся тайга с ее извечными шорохами, звуками зовет зверя, но рыхлый снег страшит его: в рыхлом снегу даже самые сильные беспомощны. Все зверье знает: через день снег осядет, ночью мороз схватит его, образуется наст, пусть непрочный, но достаточный, чтобы удержать их на осторожном ходу. Сперва покинут свои гнезда те, кто не успел перед снегопадом наесться настолько, чтобы спокойно проспать ненастье. В голод и самые теплые гнезда покажутся холодными. Сегодня, а может быть, и завтра, следов не будет. И Пларгун повернул назад. А увидев, как Кенграй с головой проваливается в снег, как ему трудно достается каждый шаг, молодой охотник понял, что упустил самое добычливое время охоты с лайкой по малоснежью. И в душе, вскипая, поднялось смешанное чувство досады, ярости, бессилия, обиды на Нехана
Эй, человек!
После обильного снегопада снова пришлось пробивать лыжню. Целинный снег был рыхлый и глубокий, и охотник проваливался по колено. Вскоре Пларгун почувствовал, что занесенный след твердо прощупывается под слоем свежего снега. И молодой охотник двинулся медленно и осторожно, как слепой, нащупывая палкой тропу. А пройдя еще несколько шагов, убедился, что занесенный след легко уловить лыжами: они не глубоко уходят в снег, если точно ложатся на невидимую лыжню. И, наоборот, тут же проваливаются, стоит соскочить с нее. Через какую-то сотню шагов Пларгун, приспособившись, уже точно знал, легла ли лыжа всей своей поверхностью на след, или только половиной, или четвертью.
Соболь побывал у большинства приманок, долго кружил вокруг, чуть притрагивался к мясу. Молодой охотник ставил капканы, как учил старик Лучка: сначала подрезал снег под след подхода деревянной лопаточкой, что соединена с верхним концом лыжной палки, просовывал руку с ножом в образовавшуюся под следом пустоту, осторожно срезал оставшийся слой рыхлого снега, и, когда твердый смерзшийся наст на следу станет настолько тонким, что сквозь него можно будет видеть, как тенью движется темное лезвие ножа, -- считай, след обработан. Теперь надо осторожно, чтобы не разрушить пленку снежного навеса, просунуть под него настороженный капкан. Затем свежим снегом присыпать ямку под следом, натрусить кухты и, убедившись, что капкан отлично замаскирован, заякорить его незаметно. Второй капкан ставить под след ухода. На протяжении путика юноша насторожил около восьмидесяти капканов. Два дня ожидания показались вечностью. Думалось, времени достаточно, чтобы соболь облюбовал приманку, пошел смело. Пларгун две ночи видел сны: чуть не во всех капканах сидели соболи, один темнее другого. И, подгоняемый нетерпением, он отправился осматривать ловушки. Ещё за несколько шагов до первого капкана заметил: он сработал. Пларгун увидел голубоватый нежный мех, чуть припорошенный переновой -- переметенным снежком. И он не подошел -- подлетел к добыче, порывисто схватил ее. И тут как-то весь погас: руки опустились, ноги ослабли. В капкане оказался не соболь, а лесная воровка сойка, которая всегда сует свой нос туда, куда ее не просят Пларгун разжал челюсти капкана, брезгливо отбросил сойку, будто это была не птица, а смерзшийся ком грязи. -- Ка-ак? Ка-ак? -- раздается над головой, и черная тень проскользнула по валежине. Ворона села на макушку ели и, любопытствуя, наклонила голову. Черная ворона черная кошка пересекла дорогу Нет, Пларгун никогда не был суеверным. Но все-таки неприятно, когда имеешь дело с вороной. Ворона -- верный признак несчастья. Она спутница кровавых драм Она пожирает трупы, выклевывает глаза У нее всегда дурные намерения. Я ей нужен мертвый. Чтобы выклевать мои глаза Черт возьми, откуда у меня такие дурацкие мысли? -- Ка-ак? Ка-ак? Какого черта тебе надо? И голос у тебя противный Черная птица черная кошка Накликает беду Или неудачу. -- Ка-ак? Ка Но ворона не успела сказать свое злорадное "как?". Пларгун никогда еще не стрелял с таким мгновенным "навскидку". Приклад не успел даже прикоснуться к плечу, а ворона уже билась у ног. Кончилась твоя разбойничья жизнь. Теперь послужишь охотнику приманкой для соболя. У подъема на плато, там, где несколько дней назад Пларгун чуть не остался в снежном гробу, он наткнулся на стаю рябчиков. Они не боялись человека. Выстрелом он сбил сразу двух. Один упал замертво, а второй споро помчался прочь, волоча подбитое крыло. И Пларгун нагнал его, придавил палкой. И тут его осенила мысль: использовать на приваду живого рябчика! Соболь -- большой охотник до рябчиков. Зверек, услышав живую птицу, забудет об осторожности. Пларгун снял ближайший капкан. Нашел старую ель с норой под корневищем, накинул петлю на лапку рябчика, привязал нитку к корневищу. Рябчик юркнул в нору. Сиди себе в норе. Только смотри не замерзни. Капкан поставил на ходу к норе, но на таком расстоянии, чтобы птица в него не угодила. Хорошо стоит ловушка с отменной приманкой, ветер идет снизу по распадку, и запах птицы выносит на сивер -- на темно-хвойный лес, что занимает склоны возвышения. Было еще темно, когда Пларгун проснулся. Наскоро позавтракал засохшими кусками лепешки, размочив их в кружке горячего чая, заел консервированной уткой. Едва деревья зарешетились на фоне белеющего неба, Пларгун ступил на лыжню. У двух колодин пришлось подумать еще над одной задачей. Соболь подходил к приваде. Подходил близко. И в каком-то шаге хорошо замаскированного капкана шарахнулся назад и понесся своим следом что есть сил. В чем дело? Предположить, что он почуял запах железа, трудно. Ведь капканы выварены стариком Лучкой. К тому же соболь подходил и раньше и не бросался от привады сломя голову, а спокойно обходил кругом, неуверенно топтался на месте и уходил. Это обычная осторожность зверя. А тут шарахнулся, будто его стегнули прутом. Ответ не заставил долго ждать. Соболь вышел на жировку еще в потемках. Сразу поймал чуть слышный запах замерзшего мяса и поскакал своим старым следом. Теперь он шел уверенно, потому что и места хорошо знакомы, и мясо, откуда-то взявшееся, лежало там же, никем не тронутое. Соболь мчался широкими прыжками. Спешил. Голод подгонял его. И когда подскочил к колодам, вдруг наткнулся на что-то черное, огромное, страшное, притаившееся в темной щели под перекрещенными деревьями. Соболь, насмерть перепуганный, рванулся назад, оставляя на снегу кровавые испражнения. Черная ворона в темноте может напугать не только соболя -- самого беса оставит заикой. "Ты и здесь сыграла со мной злую шутку!" -- расстроился Пларгун. Но вскоре понял, что дохлая ворона ни при чем. Ведь он сам подстрелил ее и бросил у капкана с привадой. Пларгун схватил замерзшую ворону и закинул на дерево. Но и тут ворона осталась вороной: от резкого броска едва не вывихнулось плечо. Рука после этого долго болела Юноша отправился к следующему капкану. Еще издали услышал лягз металла. Кто-то попал в ловушку. Жестоко обманутый в своих ожиданиях и замученный неудачами, Пларгун не допускал и мысли о соболе. Никак, несчастный рябчик дотянулся-таки до капкана и угодил лапкой и теперь от боли не находит себе места. Греми, греми. Сегодня ты пойдешь в суп. Это будет очень кстати, а то мяса осталось всего на несколько дней Но кто бы это мог быть? Из норы выглянул шустрый зверек. Он испуганно уставился круглыми глазками, повел изящной головкой, показав темные плечи. И, загремев металлом, мгновенно исчез в провале под корневищем. Пларгун суматошным движением вдруг задрожавших пальцев оттянул лыжные крепления, сбросил лыжи -- без них ловчее под деревом, где твердо и снегу мало. Хотя знал, что капкан прочно заякорен, бросился к норе и упал на нее, накрыв животом выход: всякое бывает. Случается, добыча выскальзывает буквально из рук. Чтобы ловчее схватить соболя, сбросил меховые рукавицы и запустил руку в длинную нору. Не успел он дотронуться до мягкой, шелковистой шерсти, как почувствовал острую боль в руке. Больших усилий стоило, чтобы не взвыть. Онемевшими пальцами Пларгун нащупал шею зверька, схватил ее крепко и вытащил соболя вместе с капканом. Левой рукой сжал челюсти с боков. Соболь не отпускал руку. В маленьких, точно бусинки, глазах зверька не было испуга. Была ярость, смертельная ярость. И ненависть. Охотник что есть силы сжал челюсти зверя, даже пальцы побелели. Челюсти хрустнули, сдали, освободили руку. Пларгун отсосал из раны кровь, палкой сшиб с березы желтый гриб-чагу -- раскрошил его, спалил и рану присыпал грибным пеплом. Затем обмотал руку лоскутом от нижней рубашки. Покончив с рукой, вспомнил о рябчике, которого намеревался отправить в котел. Но рябчика что-то не было видно. Запустив руку в нору, нащупал маленький кусочек с перьями. Оказывается, соболь, уже в капкане, притерпевшись к ужасной боли, все же решил позавтракать. Молодой охотник погладил нежный дорогой мех: "Я подарил тебе живого вкусного рябчика, а ты мне -- свою шкурку. Так что мы квиты". Проходя путиком, Пларгун переставил несколько ловушек -- ветра не слышно, но на неразреженных местах появилась перенова. По-видимому, ночью все-таки дует. И еще отметил молодой охотник: соболь, выйдя на охоту, не оставляет без внимания ни одной валежины, ни одной колоды. Обязательно завернет, проскочит по ним. И охотник перенес приваду и часть ловушек к колодам. Спустившись с плато к ключу, что идет от увала мимо сопки, проверил ловушки на выдру. Велика была радость, когда в одной из них оказалась добыча: длинный, как охотничьи лыжи, коротконогий усатый зверь. Нехан растопил печь, вытащил из мешка сверток со свинцовыми слитками. Потом развернул старую, мятую газету, в которую был завернут свинец, бросил слитки в плоскую банку из-под рыбных консервов. Подхватил банку щипцами и просунул в печь. В ожидании, пока расплавится свинец, охотник разгладил газету и равнодушно скользнул по ней глазами. Внимание его привлек снимок. На нем был изображен небольшой человечек в иностранной военной форме. Он бесстрашно позировал рядом с громадным тигром. Нехан подивился смелости этого человека. "Наверно, какой-нибудь дрессировщик", -- подумал он. Но опытный глаз охотника тут же обнаружил подвох: тигр не тигр, а чучело тигра! -- Так любой дурак может, -- сказал он, оглядывая обманувшего его человека в военной форме. И подумал: "А еще, наверно, какой-нибудь начальник. Не солидно, друг мой, не солидно". Нехан поднял газету, чтобы узнать, что это за человек. С трудом прочитал стершиеся строки. Звали его Кхань. "Кхань -- Нехан, Кхань -- Нехан", -- невинно скаламбурил Нехан, уловив созвучие имен. Но кто такой Кхань? Подпись под снимком гласила: Кхань -- южновьетнамский генерал, один из тех, кто правил страной после многочисленных переворотов. -- Ничтожество! Ничтожество! Ты не только тигра -- паршивого шакала боишься! И такое ничтожество правит страной! Да я бы одной рукой задавил тебя! Нехан почувствовал себя жестоко обворованным. -- Да ты по сравнению со мной пигмей! Я медведей, как зайцев, травлю! Медведей!.. Пигмей несчастный Мне бы мне бы Я бы тоже мог быть королем или императором! Только у нас дальше председателя колхоза мне не пойти. Расстроенный Нехан скомкал газету и бросил в печь. Пламя подхватило бумагу -- вскоре печь загудела напряженно и ровно. Через несколько минут Нехан забыл о ничтожном человеке. Припав на одно колено, он просунул обмотанную тряпкой руку со щипцами в печь, откинувшись на длину руки и закрыв левой ладонью лицо от нестерпимого жара, нащупал щипцами закраину мятой банки, расшевелил пышащие жаром угли, чтобы не сбить их на пол, вытащил банку, аккуратно наклонил ее над формочкой и отлил точно порцию свинца. Нехан готовил пули. Тяжелые пули. На его оголенных плечах плясало пламя. По горячему лицу, по вздувшейся от жары и усердия шее стекал пот, пропитывая грязную, линялую майку неопределенного цвета. Как-то незаметно для самого себя Нехан стал мурлыкать сымпровизированную тут же мелодию. У охотника в последние дни хорошее настроение -- для этого достаточно причин: заприваженные еще до снегопада соболи облюбовали его участок и сейчас что ни день есть добыча -- будь то соболь или горностай, выдра или лиса. Умело организованная удачная охота радовала очень. Удачная?.. Что такое удача? Ну, кто скажет, что такое удача? Допустим, рыбак, желая сварить уху, наткнулся на большой косяк рыбы или старатель на заброшенном участке нашел самородок И говорит: удача Нехан усмехнулся. Это не удача -- а случайность. Надо не ждать случайной удачи, а делать ее своими собственными руками! Да, да, своими! Надо быть хозяином своей судьбы Покинув долину Мымги, он спустился на побережье к рыбакам. И сразу отметил: добродушные, непосредственные, они до сих пор не научились строить свою несложную жизнь. Объединившись в рыболовецкие артели, прибрежные нивхи отказались от охоты на пушного зверя. Многие, особенно кто помоложе, уже потеряли навыки, накопленные их предками-охотниками. Странные люди: зимой и летом черпают неводом пустой залив, а в тайгу идти не хотят, или никто их не надоумит. Странные Ну, бог с ними. Меньше шататься будет в тайге неудачников. Пусть уж лучше черпают свой оскудевший залив. А то появился в тайге один Тоже мне охотничек. Упрям, черт. Ну, ничего. Мы еще посмотрим!.. Надо быть хозяином своей судьбы У меня будут хорошие деньги. Будут! И слава. И тогда Нехан вспомнил последний разговор с женой. -- Ты все-таки уходишь? -- Она стояла у занавешенного окна в ночной сорочке. Длинные густые пряди падали на плечи. Скупой свет предосеннего утра слабо проникал в комнату, и все казалось серым. Жена стояла к нему спиной, слегка запрокинув голову. Нет, она не плакала. И в голосе -- суровая сдержанность. И она говорила, будто не спрашивала, а сообщала о свершившемся. -- Я не знаю, что меня ждет. -- Нехан повернулся в постели. Жена молчала. -- Я не знаю -- Не надо, -- прервала жена. -- Я буду помогать. -- Не надо, -- сказала она. -- Я помогу воспитать дочь. -- Не надо. На рассвете, когда проснулось маленькое село в долине Мымги, Нехана в нем уже не было Продолжение следует…
|
Страницы комментариев: 0 | 1 | 2 | 3
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|

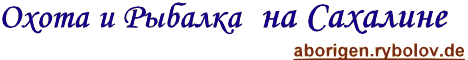 -
-
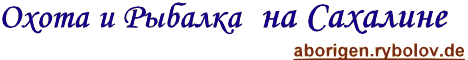 -
- Литературные страницы
Литературные страницы